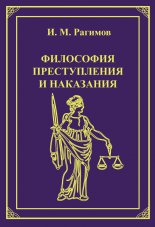Прорыв начать на рассвете Михеенков Сергей

– Да-да, именно Старшина. С этой минуты вы не майор Радовский и, конечно же, не выпускник Алексеевского юнкерского училища, а – Старшина. Легенду придумайте сами. И вот что, Старшина, будьте готовы к тому, что в ходе проведения занятий инструкторы некоторых из ваших курсантов по каким-либо причинам выведут из состава групп. Прошу не вмешиваться в эту работу. Даже если вам покажется, что среди выведенных за штат для дальнейшего их использования в качестве вспомогательных единиц окажутся люди, вполне пригодные для основной работы. Мы должны иметь первоклассных спецов. Хотя для их подготовки почти не осталось времени… Но здесь будет многое зависеть и лично от вас, Старшина. Занятия будут проводиться в течение шестнадцати часов в сутки, без выходных. Казачья сотня атамана Щербакова будет действовать совместно с нами, полностью находясь в нашем подчинении. Они будут выполнять самую грязную работу. Имейте это в виду.
Георгий Алексеевич Радовский, сын Алексея Георгиевича Радовского, героя Плевны, простым ополченцем вступившего в сербскую армию и впоследствии дослужившегося до генерала, ещё осенью сорок первого сформировал из пленных бойцов и командиров РККА полуроту. В лесах под Можайском боевая группа капитана Радовского разгромила несколько партизанских баз, при этом захватив большое количество оружия, взрывчатки и продовольствия. В конце ноября ему было присвоено воинское звание майор, а подразделение, которое он сформировал и которое успешно действовало, постоянно пополняясь из числа перебежчиков и пленных, получило наименование Боевой группы Радовского. Воспитанный в семье военного, он выше всего ценил в своих товарищах и подчинённых именно те качества, которые необходимы в бою. В 1915 году Георгий окончил Алексеевское юнкерское училище и в звании прапорщика отбыл на фронт. Участвовал в Брусиловском прорыве. Попал в плен. Бежал. По пути в Москву, в поезде, пьяные матросы жестоко избили его только за то, что он пристегнул к своей шинели офицерские погоны. И уже через две недели он командовал ротой юнкеров родного Алексеевского училища и на горбатом мосту неподалёку от Новинского бульвара, встретившись с отрядом матросов, повёл юнкеров в штыковую атаку и в рукопашной уничтожил почти весь отряд и захватил до двух десятков пленных, которых потом расстреляли у того же горбатого моста. А через несколько дней оборона юнкеров Алексеевского, Александровского училищ и школ прапорщиков была сломлена. И возле горбатого моста красноармейцы расстреливали их. Радовского поставили рядом с тремя юнкерами. Подошли двое китайцев в красногвардейских шинелях и начали колоть их штыками. Оказалось, что расстрельной команде не выдали патронов. Его ударили в середину груди. Китаец оказался ниже его ростом. Целился, видимо, в горло, но не попал. Штык пробил лёгкие. Кровь хлынула горлом. Радовский упал в вырытую яму. А ночью он и ещё один юнкер вылезли из-под трупов и начали стучаться в двери соседних домов. Наконец их впустили. Семья старых учителей, дочь которых служила сестрой милосердия в красногвардейском госпитале, спасла их от неминуемой смерти. Потом был Дон, затем бои под Астраханью, Севастополь. Трап перегруженного парохода «Саратов». Турция. Галлиполи. Сербия. Там он решил: уж если не суждено было ему служить в Русской армии, то он готов служить в той армии, под знамёнами которой воевал его отец. Но судьба и тут обнесла его. В Сербию он не попал. Вскоре оказался в Чехии, куда спустя некоторое время пришли немецкие войска. А потом… Потом появилась надежда вернуться на родину. Какая разница, в каком качестве. Главное – он возвращался в Россию.
Родиной Георгия Радовского было небольшое село в тридцати километрах от Вязьмы. Двухэтажный кирпичный дом. Рядом конюшня, службы. Старый парк. Дом строил отец. В этом доме Георгий родился. А липы и дубы парковых аллей сажал ещё прадед, командир батальона Белозерского полка 11-й пехотной дивизии генерала Чоглокова, той самой, которая в октябре 1812 года ворвалась в Вязьму, обороняемую французами, и штыками выбила неприятелей из города.
Последний раз, в той жизни, Георгий Радовский был в своей родовой усадьбе летом 1915 года проездом на Юго-Западный фронт. А в этой, опрокинутой, навестил родину в октябре прошлого года, когда формировал из своих соотечественников роту для борьбы с партизанами. Его дом сохранился. Сохранились и каменные конюшни, и флигель, и приходская церковь. Всё было доведено до крайней степени запустения. Храм без крестов. Алтарь разграблен. С колокольни сняты колокола. Более или менее уцелел только дом. В нём Советы устроили школу. Он навестил могилы родителей, деда и прадеда. Из усадьбы уезжал с просветлённой душой – родовые курганы не были разорены. Тяжёлые гранитные камни со знакомыми надписями, наполовину засыпанными кленовыми и липовыми листьями, ещё яркими, не потускневшими от заморозков, лежали на месте.
Георгий Алексеевич разыскал бывшего управляющего, который сразу его узнал, кинулся на грудь и заплакал. В его слезах он почувствовал раскаянии и страх.
– Ну, будет, будет – похлопал он по плечу трясущегося старика.
«Прошлое не вернёшь, – думал он. – Но вернуть можно другое…»
Всё лучшее в жизни Георгия Алексеевича Радовского осталось в той России, в которой он родился и в которой были счастливы его отец и мать. А то, что он увидел, было же другой страной. Другие люди смотрели на него, узнавая и не узнавая сына бывшего хозяина имения. И только поля и лес вокруг села казались всё теми же. И пруд. И болотце у дороги. Вот это и хотел вернуть командир Боевой группы спецподразделения АК майор Радовский.
Зачем он вернулся на родину? Этот вопрос он не раз задавал себе.
Родина ему снилась на чужбине. Липовая аллея к пруду… Берёза над водой… Тёплый дождь, стекающий по водосточным трубам вместе с белым снегом черёмух. Порой он доводил себя до состояния, близкого к психозу, думая обо всём том, что оставлено где-то навсегда, но чего он никогда, казалось, уже не увидит. И когда появилась возможность вернуться, он решительно шагнул туда, откуда берёза над прудом становилась всё виднее и реальнее. И он пришёл к тому пруду, к своим аллеям, к почерневшим от времени и небрежения деревянным ставням, нагретым солнцем и пахнущим родиной, детством. О том, какую цену пришлось заплатить в пути, он старался не думать. Теперь это тем более ни к чему. Дело сделано. Он – дома. Ему выпало жить в суровое, жестокое время, и, чтобы выжить, необходимо было постоянно оглядываться по сторонам, прислушиваться и принюхиваться: соответствуешь ли ты своему времени, так ли держишь спину и подбородок, тот ли мундир на твоих плечах и то ли выражение лица, которое необходимо в данную минуту. Он был не один в своём пути назад, домой, в Россию. И у всех, бывших с ним, жила в сердцах одна надежда, все были охвачены одной волей – домой! Хоть с чёртом-дьяволом, но – домой… Надоело, опротивело жить приживалами у богатых хозяев. У иных, кого он знал, с кем вместе бок обок воевал на Дону и под Одессой, мечта о свободной от большевизма России клокотала, разрывала грудь. У других она лишь теплилась. Но и те, и другие, идя на восток от Буга и Березины в колоннах чужой армии, всё-таки возвращались домой.
Да, чёрт возьми, дело было сделано! Однако надо признать, не таким видел он своё возвращение в Россию. Не за званиями и наградами он преодолел этот путь в пространстве и душе. Но, как он понимал, – надо признать и это, – для пользы дела не время сейчас расшатывать себя изнутри подобными сомнениями. Не время…
Его боевой группе поручено создать несколько отрядов для выполнения специальных заданий немецкой разведки непосредственно в расположении окружённой группировки 33-й советской армии, 1-го гвардейского кавалерийского корпуса и подразделений 4-го воздушно-десантного корпуса. И его усадьба с родными могилами находится как раз в районе предполагаемых действий. Судьба ведёт. Это Георгий Алексеевич знал давно. И, может статься, что горшие испытания ещё предстоят ему. На выбранном им пути. На той дороге домой, которую он избрал в качестве своего пути.
Не раз, просыпаясь где-нибудь среди неожиданной тишины, в желанном одиночестве, он думал: «Как хорошо было бы просто вернуться домой, пешком свернуть с Варшавского шоссе, пройти лесом и полем, а потом ещё немного лугом, мимо болотца, где обычно гнездится семья куличков, пробежать по бревенчатому мосту и вверху, в липах и вязах, увидеть белые колонны парадного подъезда родного дома. Просто вернуться… Просто прийти домой… Стряхнуть всё, оставить позади этот жуткий морок пережитого и просто вернуться домой. Где тебя ждут. Дом – это в том числе и то место где тебя ждут».
Но кто его ждёт здесь? Кто ему обрадуется? И кого обрадует своим появлением он? Георгий Алексеевич Радовский уже навсегда вытерт из жизни этого края. Хоть этот край и есть его родина. Он вспомнил стихи любимого поэта и усмехнулся сам себе: «Искатель нездешних Америк, я отдал себя кораблю…»[2]
«Как – вытерт? Это же моя Родина», – думал Радовский и чувствовал, как внутри у него всё твердеет злобой на кого-то, кто отнял у него всё это. Даже не дом, не старый парк, где он играл в детстве со своими сельскими сверстниками. Материальное легко возвращается и восстанавливается. У него было отнято гораздо больше, чем то, что он теперь видел в руинах или в крайнем запустении. Руинам ещё можно было вернуть первоначальный облик. Родина – это ещё и постоянная возможность приехать к дорогим могилам. Остановиться в стенах, которые помнят голоса матери и отца. Проснуться у открытого окна, через которое в комнату входит утро твоего детства со всеми его звуками и запахами. «А ещё, – думал он, – Родина – это право, нет, возможность войти в некий дом в своём селе или в какой-нибудь окрестной деревне и сказать хозяину: “Здравствуй, Ферапонт. Как живёшь?” – и увидеть в глазах Ферапонта не тоску, и не отчуждённость, и тем более не раскаяние за то, чего он не совершал, а ответную радость встречи…
Россия. Несчастная Россия!»
Однако пока надо было действовать в рамках тех обстоятельств, которые предлагала судьба. И держать себя в руках. Не раскисать. Не открывать свою душу. Кому здесь, пока всё забрызгано человеческой кровью и человеческим дерьмом, нужен печальный голос твоей разочарованной души? Никому. Никто этого голоса не поймёт, и даже вряд ли кто услышит. Или услышат, но поймут по-своему.
А может, если прошлое настолько далеко и невозможно, хотя бы частью, осколками своего воплощения ни в настоящем, ни в будущем, ему остаётся только одно: родиться на этой земле новым человеком? Другим? Жестоким, во всём соответствующим времени, кровавому часу, который царит сейчас повсюду, не обременённым никакими иллюзиями и воспоминаниями, которые лишь размягчают душу и мешают действовать беспощадно и правильно. Может, это и есть его судьба? И смысл той дороги назад, которую удалось преодолеть, уже пожертвовав многим? Слишком громоздкий и тяжёлый багаж он прихватил в эту дорогу. Прошлое… Прошлое… И не только его, Георгия Алексеевича Радовского. Но и прошлое его отца, матери, того уклада и того мира, которым он когда-то счастливо жил и дышал среди этих берёз и полей. Нужно немногое, пустяк – швырнуть эти пахнущие нафталином потёртые сундуки и рундуки, плюнуть на них и с облегчённой душой и свободными руками двигаться дальше. Вот и всё! И – никакого внутреннего разлада. Ни каких преград. Просто делать новую судьбу в новых обстоятельствах. «Я ещё один раз отыграю упоительной жизнью огня…»
Уже несколько дней профессор ездил по территории, удерживаемой войсками окружённой армии. Полевые госпиталя и медсанбаты были развёрнуты в тылу, в деревнях. Но в последнее время немцы начали бомбить населённые пункты, и часть раненых пришлось эвакуировать в леса. Раненых складывали прямо на снег, под елями. Обрубали нижние сучья на два-три метра вверх. Лапником устилали утрамбованный снег, на лапник – плащ-палатки, брезент; потом плотно, один к одному, чтобы не замёрзли, складывали раненых, головами к стволу дерева, и так по всему радиусу, а сверху укрывали шинелями и одеялами. Такими увидел лесные госпиталя 33-й армии профессор, когда прибыл их инспектировать.
Дело своё он знал превосходно. В первую же неделю ему удалось вернуть в дивизии более тысячи штыков. Некоторых приходилось выписывать с незажившими ранами. Профессор видел их глаза, иногда спокойные, выдававшие готовность человека ко всему, иногда затравленные, иногда злые, и понимал отчуждённо: не хотят возвращаться в промёрзшие окопы, боятся снова попасть под пули и на голодный паёк. Но что делать, окопы не должны пустовать. Приказ командующего необходимо выполнять во что бы то ни стало.
В крестьянскую избу, всегда натопленную и опрятную, куда его определили на постой, он возвращался поздно. Иногда – уже ночью. Старик-хозяин распрягал коня, насыпал в кормушку овса. И самого профессора, и его коня велено было кормить хорошо. Конь хрупал в кормушке, гонял по гладко отшлифованной доске золотой овёс. Профессор шёл в штаб. Охрана его уже знала, часовые пропускали без пароля. Командарм встречал его улыбкой и вопросом в воспалённых, усталых глазах. Он докладывал. Ему всегда было о чём доложить командующему. Он приносил добрые вести. И это нравилось ему самому. Командарм выслушивал, кивал и говорил:
– Спасибо, профессор. Хотите чаю?
Часто они засиживались за полночь. Профессор рассказывал о своих поездках, о состоянии госпиталей. Однажды командарм спросил:
– Как вы думаете, профессор, армия, я имею в виду людей, выстоит?
– Положение очень тяжёлое, – уклончиво ответил он. – Недостаточное питание сильно сказывается на организме бойцов. Происходит постепенное истощение. Человек – существо терпеливое, выносливое. Но, скорее всего, это больше касается его психики, воли. Что же касается физического состояния, то вследствие систематического недоедания и недосыпания из организма постепенно исчезают, вырабатываются и не восполняются, некоторые химические элементы, очень важные для нормальной жизнедеятельности. Если эти элементы не восполняются, начинается деградация организма.
– Так что же такое человек, боец Красной Армии? Воля или набор химических элементов?
– И то и другое, Михаил Григорьевич.
Чай командарма был хорош. Всегда – с вареньем. Черничным, земляничным, смородиновым. Но не только чай и не только долг влекли профессора в штабную избу. Быть рядом с сильными мира сего, запросто с ними беседовать, иногда на милые, совершенно отвлечённые темы. Это сильно сближает людей, располагает друг к другу. К тому же рядом с генералом не столь остро воспринималась опасность того положения, в котором все они здесь, в «котле», пребывали. Он был спокоен на этот счёт, зная, что, энергично выполнив своё дело, он снова вылетит в Износки. Первым же рейсом, когда дело в госпиталях будет сделано в полном объёме. Самолёты летали регулярно. Потому и торопился. Сделать всё, выполнить приказ командарма и вылететь в распоряжение штаба. В Износках всё же спокойней.
– А скажите, профессор, если наше положение существенно не изменится, сколько дней, недель, месяцев продержится личный состав? Я имею в виду физическое состояние бойцов.
Ефремов снова возвращался и возвращался к одной и той же теме их разговора.
– Видите ли, Михаил Григорьевич…
– Говорите, профессор, откровенно.
– Откровенно так откровенно… Через месяц бойцы начнут галлюцинировать. Начнётся голодный психоз. Появится опасность немотивированных поступков.
– Что вы имеете в виду?
– Мародёрство. Неподчинение командирам, а значит, неисполнение приказов. Возможно, переход на сторону противника. Боец, который сегодня дисциплинирован, исполнителен, каждый свой шаг и поступок сверяет с уставом и присягой, завтра может просто забыть обо всём, кроме своего основного, инстинктивного желания, а именно – выжить. Животный страх начнёт управлять человеком. И животная жажда – выжить.
Командарм поморщился. Раскурил трубку. И заговорил, медленно извлекая наружу каждое слово:
– Нельзя допустить, чтобы армия превратилась в стадо. Лучше погибнуть в бою! Хотя атаковать на Вязьму мы уже не имеем возможности. Белов отбит и окружён где-то между Всходами и Дорогобужем. Соколов тоже блокирован в лесах севернее Вязьмы. Им не легче.
– Голодные обмороки и тому подобное начнутся через неделю-полторы.
– Что ж, будем есть коней. Пока не получен приказ на отход, надо держаться из последних сил. – И вдруг спросил: – Вы объехали все госпиталя, профессор?
– Нет, ещё не все. Завтра – последняя поездка. В сто тринадцатую.
– К Маковицкой?
– Да, к Маковицкой. Говорят, прекрасный хирург. Я был знаком с её мужем. Прекрасной души человек. Погиб прошлым летом в ополчении. Представьте себе, умница, профессор, любимец студентов – простым солдатом, в окоп. Ушёл добровольно. Восхищаюсь мужеством этих людей!
Однажды их разговор нарушил вежливый вопрос начальника особого отдела армии.
– Я слышал, вы совершаете свои объезды в одиночку? – спросил Камбург.
– Да, совершенно верно, – ответил профессор. – Не хочу отвлекать на охрану своей скромной персоны лишние штыки, которые сейчас, в это тяжёлое для армии время, нужны на передовой.
Он скользнул взглядом по лицу командарма. Тот одобряюще улыбнулся и молча, украдкой, как показалось профессору, кивнул ему.
– Штыки и не надо отвлекать, – тем же тоном продолжил Камбург, как всегда увлечённый чисткой своей трубки, что с некоторых пор стало раздражать профессора. – Достаточно двоих автоматчиков.
– Поверьте, Давид Ефимович, это, право же, лишнее. Дороги известны. Охраняются. Везде посты. Я вполне справляюсь. Не нуждаюсь я в ассистентах ни в виде охраны, ни в виде возниц.
И тут Камбург оторвался от своей медитации:
– Так вы даже без ездового путешествуете?
– Я, товарищ капитан, не путешествую, – ещё сильнее напрягся профессор, – я работаю. И, смею заметить, очень напряжённо. По шестнадцать часов в сутки.
– Да, профессор, без вас нам было бы тяжелее во стократ. – И командарм откинулся на спинку стула.
Начальник особого отдела больше не заговаривал на эту тему. А профессор, разозлившись на его реплики, приготовился сказать Камбургу следующее: да, каждый из нас, в любых обстоятельствах, даже за чаем, часть нашей профессии, но должны же существовать минуты покоя. Минуты тишины. Минуты свободы от этого безумия!
Но капитан больше не задевал его своими репликами. «И слава богу, – думал профессор, через час возвращаясь к своему ночлегу, – что не пришлось произносить этого глупого монолога. С Камбургом нужно быть особенно осторожным. Чекист, служака. И своего сдаст с потрохами. Не исключено, что и за командующим он присматривает».
А на следующий день произошло вот что.
Утро выдалось чудным. Солнце. Мороз. Но не особенно лютый, а такой, какой и в поле терпеть можно. Конь нёс лёгкие сани по ослепительно-белому полю, размашисто расписанному синими пятнами и линиями абстрактных теней. Давно он не видел такого живого, естественного ландшафта и таких непридуманных красок. Было время, когда он, почти всерьёз, увлекался живописью. Это был очень короткий период в его жизни, очень сумбурный. Но он оставил благодарную память. Увлечение живописью, дни и ночи упорной работы с кистью, поставили руку, каждое движение научили точности. Вот почему потом он так уверенно держал в руках скальпель. След остался и в душе: он тонко чувствовал природные краски, тона, изменения цвета, внутреннее настроение окружающего мира. И как жаль, что теперь он не мог вполне насладиться этой внезапно открывшейся ему прелестной картиной здешнего мира… Вокруг вместе с ярким великолепием зимнего утра, казалось, была разлита тревога. Профессор то и дело поглядывал на западный горизонт: в такую погоду жди самолётов, а в поле от них не скроешься. Как хорошо, что вскоре начался лес. Он вздохнул с облегчением и попридержал коня.
В лесу было тихо. Смолистый запах соснового бора бодрил. Профессор соскочил на дорогу и пошёл пешком. Ходить пешком он любил. Весьма полезно для организма. Он знал, что вступает в тот возраст, когда пешие прогулки на свежем воздухе должны стать непременной ежедневной необходимостью. Хотя возраста своего пока не чувствовал. Тяжесть лет… Нет-нет, пока никакой тяжести.
Неожиданная командировка в окружённую группировку, особенно в первые дни, несколько угнетала. Жаль было покидать относительно безопасные Износки, госпиталь, налаженный быт. Но он умел владеть собой, и никто из бывших тогда рядом не заметил его подавленного состояния. Напротив, он старался казаться собранным, сосредоточенным на главном – выполнить поставленную задачу. И свою задачу, как показало время, он выполнил достойно. Иначе бы генерал не привечал его с таким благодарным теплом. Он видел глаза генерала. Глаза не могли лгать – командующий доволен его работой. А это ему поможет в будущем.
Профессор умел строить отношения с нужными и влиятельными людьми. Участие сильных мира сего, нужные связи не раз спасали и его, и его родных и близких от всякого рода неприятностей, помогали одолеть очередную ступеньку наверх. Нужные люди в нужный момент подхватывали его буквально под руки и подсаживали выше. Потом, обустроившись на своей высоте, он, в свою очередь, помогал тем, кто в своё время оказывал услугу ему. Вот он, снова и снова убеждался профессор, вечный движитель любой системы, любого общества! Так просто!
В сущности, в жизни он уже преуспел. Всё у него было. Стремительная карьера. Любящая, преданная жена, образованная и умная, со старыми связями, оставшимися от некогда влиятельных родителей. Хирургию он знал превосходно. Профессию свою любил. Практиковал много и охотно. Вытаскивал людей буквально с того света. Чувствовал себя счастливым, видя, как радуются возвращённой жизни его пациенты. Переезд из губернского города в столицу. В Москве о нём уже говорили: «этот профессор творит чудеса». Кафедра в престижном московском институте. Обожание студентов. Всё шло хорошо. Война… Но и тут благодаря связям удалось кое-что уладить. Он не попал под Вязьму осенью прошлого года, где погибли десятки тысяч, а сотни тысяч попали в плен. Его направили на фронт много позже и уже в наступающую армию. Всё складывалось хорошо. Госпиталь – это тыл. Кроме всего прочего, армейский госпиталь – это хорошее, регулярное снабжение. И, как он вскоре понял, новые полезные знакомства, новые связи, а значит, новые возможности.
Но под Вязьму он всё же угодил. Более того, угодил в самое пекло – в «котёл». Из которого, впрочем, спустя какое-то время он мог вылететь. Но время ещё не пришло.
Впрочем, с годами профессор научился извлекать пользу и из неудач, из обстоятельств, казалось, самых невыгодных. Вот и здесь, в окружении, он находился всё же в относительной безопасности, в тылу. Всегда рядом с командармом. Когда всё будет позади, когда эта проклятая мясорубка насытится кровью своих жертв и наступят мирные дни, он, профессор, главный хирург 33-й армии, в самые трудные дни прилетевший на самолёте в окружённую группировку к своему храброму генералу…
Профессору показалось, что его кто-то окликнул. Кто здесь, в лесу, может звать его? И окликнули не по имени, не по фамилии, а именно так: «Профессор!» Именно так он иногда мысленно обращался к себе. И в первые мгновения подумал, что, видимо, стареет или просто устал и начал страдать весьма распространённым среди людей пожилых то ли недугом, то ли чудачеством – желанием вслух поговорить с самим собой. Видимо, всё так и начинается, с желания окликнуть самого себя. Любимым именем.
– Профессор! Постойте! Да остановитесь же вы, наконец!
Нет, это был голос извне. И он испуганно оглянулся.
По наезженному санному следу шёл человек в белом полушубке и кавалерийской портупее. На плече, диском вверх, автомат ППШ. Точно такой же, какой лежал у него в санях на соломе. Профессор покосился на свой автомат. Но незнакомец упредил его движение:
– Не стоит, Профессор. Я не причиню вам зла. Пусть эта штуковина лежит себе там, где лежала.
То, как незнакомый лесной кавалерист обращался к нему, сам строй его речи и интонация, пугали и завораживали. Он ещё не знал, что сейчас, в эти минуты, и произойдёт то, что на многие годы разрушит его построения, что опрокинет его жизнь, и смыслом всех дней, недель и месяцев, станут вначале жажда выжить, буквально сохранить жизнь, иногда любой ценой, а потом, долгие годы – попытка оправдать эти недели и месяцы ужаса. Оправдать… И перед собою самим, и перед теми, кто, вопреки всему, останется жив, а значит, будет таить в себе опасность свидетельствовать в той правде и кривде, которая выстроит свой прихотливый и ветвистый сюжет событий зимы и весны 1942 года под Вязьмой в окружённой Западной группировке 33-й армии. Окрик незнакомого кавалериста на лесной дороге переломил его жизнь надвое. Всё лучшее оставалось в прошлом. Честь, достоинство, спокойный сон… Всё сейчас рухнет, обвалится в пропасть прошлого, как снег с высокой сосны. Но ему всё же великодушно оставлялось большее – жизнь. А какой химерой в ней является совесть, предстояло ещё испытать. Тогда он об этом не думал. Он просто выбрал жизнь. Почти машинально, как зачастую и выбирает человек, да и любой живой организм, попадающий в гибельные жернова внезапных обстоятельств.
– Кто вы? Что вам нужно? – крикнул профессор кавалеристу.
Тот перекинул автомат с плеча на руку и, улыбаясь вполне дружелюбно, шёл к нему такой походкой, как будто только его одного и ждал здесь всё это утро, и теперь удовлетворённо улыбался – ожидания сбылись. Этот человек либо ошибается, принимая его, профессора, за кого-то другого, либо всё же знает, что делает, обладая при этом абсолютным чувством самообладания. А значит, это непростой человек.
– Старшина… – представился кавалерист и, всё так же сияя улыбкой, поднёс ладонь к каракулевой шапке.
Глаза старшины были наполнены другим. Улыбка в них не отражалась.
Профессор хорошо запомнил только то, что он – старшина. Фамилия сразу вылетела из головы, хотя старшина произнес её достаточно чётко. Так он его и называл потом – Старшина…
– Что вы от меня хотите? – снова спросил профессор.
Старшина подошёл вплотную. Посмотрел в лицо профессору, словно хотел удостовериться в главном. Потом подхватил за ремень из саней автомат, которым профессор всё же мог воспользоваться. Ещё никто не отнял у него того последнего мгновения, которое дано солдату. Но профессор не был солдатом. И это определило многое. Старшина взял под уздцы коня и сказал:
– Пойдёмте.
Они свернули с дороги на малоезжий лесной просёлок. Прошли с полкилометра. Старшина остановился, огляделся. Из-за сосен вышел красноармеец в белом, почти новеньком полушубке с самозарядной винтовкой за спиной и сказал:
– Оставь, Старшина. Я позабочусь.
Старшина оглянулся на профессора, что означало: «Пойдёмте», – и пошёл по дороге вперёд.
Вскоре они подошли к небольшому рубленому домику под крутой гонтовой крышей. Рядом такой же рубленый хлев. Стожок сена.
В деревне профессору кто-то из госпитальных медсестёр, видимо, из местных, рассказывал, что где-то здесь, в лесу, живёт одинокий старик, бывший лесник, охранявший окрестные леса ещё при прежних хозяевах. В колхозе не состоял. Какое-то время караулил всё те же кварталы сосновых и еловых посадок, ставших государственными. Потом отошёл от дел. Держал корову и лошадь. Никто его не трогал, не беспокоил. Местные почти забыли о нём. Живёт старик в своём беззлобном, забытом одиночестве, и пускай себе живёт. Никому он не мешает – ни властям, ни людям, ни лесу.
Но пришло иное время. В лес пришли другие люди. И разыскали избушку лесника.
– Заходите, – сказал Старшина и распахнул перед профессором невысокую, так что предстояло низко нагнуть голову, но довольно массивную шпончатую дверь, набранную из толстых еловых досок.
В доме было просто. Никакой кухни. Одна небольшая комната с печью посередине. Возле печи на лавке сидел старик. На коленях у него лежал серый старый кот. Когда Старшина и профессор вошли в горницу, кот на мгновение расширил свои пронзительно-зелёные глаза, насторожил уши. У окна за дощатым столом, таким же массивным, как и всё в этом доме, сидела девушка-радистка. Молоденькая, со свежим живым лицом тыловой медсестры. Зелёный металлический ящик рации стоял перед ней. Она щёлкнула тумблером, сняла наушники, встряхнула пышными тёмно-русыми кудрями, крупными, явно завитыми, встала и шагнула навстречу. Смотрела она на Старшину. Видимо, беспокойно ждала его. По лицу незнакомого человека в кожаном реглане на меху она лишь скользнула взглядом. Похоже, он её не особо и интересовал. Она улыбнулась. Но Старшина ей не ответил. И она отвернулась. Обрывок этого сюжета профессор успел проследить. Но он никак не связывался с его судьбой и его собственным сюжетом. И потому сразу уступил место иным мыслям, которые метались в его мозгу, так что он не мог унять их, упорядочить, выстроить в логику рационального решения, где должен быть выход, спасение…
Спустя минуту и девушка-радистка, в петлицах которой, однако, профессор успел разглядеть медицинские эмблемы со змейкой, и старик вышли на улицу. Старшина и профессор остались одни.
– Вот что, профессор, – начал старшина, очевидно, уже заранее заготовленный монолог. – Времени у нас мало. А мы уже не дети. Так что – без прелюдий…
Профессор молчал. Он уже начал понимать, что с ним произошло. Он ещё метался внутри себя, то ли ища выхода, какой-нибудь лазейки, то ли пытаясь успокоить себя, что, мол, ещё неизвестно, может, и обойдётся… Он решил ждать. Ждать, покуда существует такая возможность. Ждать и молчать. А вдруг это просто проверка? Штучки капитана Камбурга? И Старшина просто-напросто один из его автоматчиков? От этого любителя курительных трубок можно ожидать всего, чего угодно. Решил проучить, чтобы не ездил в одиночку.
– Я предлагаю вам выгодную сделку.
– Сделку? – вздрогнул хирург. – Какая может быть со мной сделка? Я – хирург. Я не торговец.
– Полноте, профессор! Вся ваша жизнь – сплошная сделка… Я ведь всё о вас знаю. И из какого местечка вы родом. И то, что ваш почтенный родитель был известным хлебным откупщиком. Так что вы, благодаря наследным качествам, всему сумеете при необходимости определить свою цену. Родительские наставления, знаете ли, входят не только в голову, но и в кровь. Подспудно. С годами это особенно проявляется. Не зря сказано: «к роду отцов своих…» А, профессор?
Старшина говорил с долгими паузами. Пауза после каждой высказанной мысли. Каждую новую мысль он облекал в отдельную фразу. Но и пауза, казалось, звучала. Иногда паузы были страшнее и выразительнее слов. О, это была довольно талантливая драматургия! Звучащие выматывающие нервы паузы, и затем точные фразы – это дано не всякому актёру и режиссёру.
– Цена, сударь мой. Цена… Жизнь складывается или не складывается. Но кое-что, недостающее, можно и прикупить. А что-то, что волею обстоятельств выскальзывает из рук, вовремя, у тех же обстоятельств, выкупить. Весь вопрос в цене…
Пауза. Профессор вспомнил жену, детей. Что будет с ними? Он не может их оставить! Нет, не может обойтись с ним, талантливым хирургом и человеком, который никому не сделал зла, так жестоко. Нет, не может. Должны же существовать какие-то правила высшей справедливости.
– С этого дня, профессор, вы будете сообщать нам интересующие нас сведения. Только и всего. Для вас – сущий пустяк.
Пауза. «Выходит, они меня отпустят, – думал профессор, слушая тишину сторожки. – Отпустят… Значит, я буду жить». И его вдруг озарила неожиданно радостная, освобождающая мысль: «оказывается, это так просто! Я буду жить!»
– Вас будут опекать наши люди, которых вы можете знать, а можете и не знать, но которые постоянно будут незримо сопровождать вас. У нас хорошая агентура, профессор. Итак.
Пауза. «Выжить… Надо попытаться выжить… Этот Старшина хитёр, коварен. Но он предлагает мне действительно реальный шанс выжить. И сейчас, в этих обстоятельствах, пожалуй, – единственный шанс…»
– Дни тридцать третьей армии сочтены. Самолёты уже не смогут эвакуировать даже тех раненых, которые сейчас находятся в госпиталях. Не так ли, профессор? Командующий настроен фанатично. Он будет гнать свои войска в бой до последнего солдата. Он имеет личный приказ от Сталина. Возможно, может наступить и такой день, когда в окоп будете поставлены и вы.
Пауза. Старшина посмотрел на него и отвернулся. И продолжил, глядя в окно:
– Хотя вряд ли…
Пауза. «Надо выслушать его. Выслушать, а там…»
– У вас хорошие, и даже не просто хорошие, а дружеские отношения с генералом Ефремовым. И это обстоятельство тешит ваше самолюбие. Вы – строгий аналитик. Точный диагноз – это часть вашей профессии. А потому вы, конечно же, отдаёте себе отчёт в том, что, если армия простоит здесь ещё неделю-другую, то она, велика вероятность, останется здесь уже навсегда. Её доблестные солдаты и фанатичные политруки вмёрзнут в эти поля и дороги, но не сдадут занимаемых позиций. – И вдруг Старшина метнул на профессора насмешливый, как тому показалось, взгляд. – Но вы-то не солдат! Вы – талантливый хирург, и ваша стезя – это наука, помощь страждущим. Война же – это смерть. Ваше призвание – возвращать людям жизнь. Вы – приносящий жизнь. Война и вы – антиподы. И вы очень хорошо чувствуете этот внутренний разлад с теми обстоятельствами, в которых, волею судьбы, оказались. Ведь это же нелепость, профессор, что вы здесь. Нелепость! – Пауза. – Но пока её исправить невозможно. Однако кое-что к её исправлению предпринять можно. И даже необходимо.
«Чёрт возьми, – спохватился профессор, – он читает мои мысли! Ему нельзя не верить. И как ему противостоять?»
Пауза. «Нет, это всё же и есть прелюдия». Профессор наконец-то начал понимать игру Старшины. «Прелюдия… А уже всю душу вытряс, наизнанку вывернул. Когда же он перейдёт к главному?»
– Первое, что от вас требуется: подробный отчёт о, так сказать, медицинском состоянии армии – количество раненых, количество больных, в том числе тифом, а также перечислить, кто из командиров дивизий и полков, а также их заместителей имеет ранения и какие, насколько они серьёзны. Позволяет ли характер ранения им исполнять свои обязанности. Если позволяет, то насколько это затруднено последствиями ранения. И второе: вы не можете вылететь из окружённой группировки ни под каким предлогом, даже если будете больны или ранены. При попытке вылететь или каким-либо иным образом выбраться из «котла» вы будете немедленно уничтожены теми, кто будет постоянно за вами присматривать. Вас разорвёт на части гранатой, так что никакой хирург уже не в силах будет помочь вам, либо пуля нарушит лобную область черепа и разорвёт иные жизненно важные ткани, после чего никакой врачебной помощи не понадобится вовсе. Всё. Характер полученной раны окажется, как это у вас, врачей… несовместим с жизнью.
Пауза. «Подробный отчёт… Количество раненых и больных… Не бог весть что. Это даже и сотрудничеством нельзя назвать. А уж предательством – подавно. Всего лишь навсего отчёт. Составить его особой проблемой не будет. Но как я им передам этот проклятый отчёт?»
– Через три дня я жду вас здесь в это же самое время. Разумеется, одного, без хвоста. Доклад должен быть изложен в письменной форме, на имя командующего тридцать третьей армии генерал-лейтенанта Ефремова, иметь внизу дату и вашу подпись. Всё, профессор. На прощание позвольте угостить вас чаем. Какое варенье вы предпочитаете? Смородиновое? Черничное? Крыжовниковое?
Профессор молчал. Всё в нём протестовало против того, что с ним делал этот человек в форме старшины РККА. Прав был капитан Камбург, нельзя одному ездить по дорогам! Нельзя… Но – поздно. Теперь поздно сожалеть о том, чем пренебрёг.
– Здесь, профессор, прекрасные черничные болота. Целые долины – сплошная черника! Впрочем, это надо видеть. Зреющая во мхах черника – это летний пейзаж. Пейзаж глубокого лета. Вы ведь знаете толк в пейзаже, не так ли?
Пауза. «Он действительно всё обо мне знает», – думал профессор, по-прежнему пытаясь упорядочить свои мысли.
– Черника созревает вместе с хлебами, – спокойным голосом продолжал Старшина. – Впрочем, вы ведь житель городской, вряд ли видели созревающую во мхах, под соснами, чернику.
– Когда же всё это успели увидеть вы? – усмехнулся профессор, наконец найдя в себе силы пристально посмотреть в глаза Старшине.
– В детстве, – сказал тот уже другим тоном. – Я видел это в детстве.
– Смородиновое, – согласился профессор.
Старшина улыбнулся той самой улыбкой, с которой догнал его на лесной дороге, и позвал:
– Аннушка! Принеси-ка нам, голубушка, чаю со смородиновым и черничным вареньем.
Тотчас в сторожку вернулась радистка с медицинскими эмблемами в петлицах и сказала:
– Черничного нет.
– А смородиновое? – улыбнулся Старшина. – Смородиновое, Аннушка, найдите непременно. Я обещал. Слово русского офицера нерушимо.
– Смородиновое есть.
– А какое ещё есть?
– Крыжовниковое.
– О! Мне, милая Аннушка, пожалуйста, крыжовниковое.
Они сидела за дощатым столом друг против друга и пили чай. Профессор зачем-то торопился, обжигался и не чувствовал ни вкуса чая, ни смородины. А Старшина, доставая ложечкой из глиняной чашки очередную янтарную ягоду, поднимал её на свет и улыбался:
– Чудо, профессор, не правда ли? А знаете, как на Руси звали крыжовник?
– Крыжовник. Так и звали. Разве это не русское слово?
– Крыжовник – слово русское. Но пришло оно из Германии. Где-то в семнадцатом веке. Из верхненемецкого диалекта, в котором есть слово Krisdohre, что буквально означает «Христов тёрн». Но к нам в Россию путь этого тёрна лежал через Польшу и Латвию. Поляки прозвали крыжовник крестовой ягодой. «Крыж» по-польски означает «католический крест». Но есть и наше, исконное, незаимствованное – берсень. Звучит куда более красиво, чем заимствованное. А вот не прижилось. Забывается уже. Русский язык, профессор, ещё одна загадка России.
– Я не слышал такого слова, – признался профессор. – Вы прекрасно разбираетесь в языкознании.
– Пустое… – вздохнул Старшина, не принимая комплимента. – Накладывайте себе ещё. Не стесняйтесь. Наши чаепития теперь станут регулярными. – И снова поднял ложечку с янтарной ягодой, которая действительно вся сияла до самой глубины. – Ну, вот полюбуйтесь, не чудо ли! Берсеньевое варенье!
Глава пятая
Миномёты, к которым не осталось ни одной мины, Воронцов приказал сбросить в глубокий овраг.
Вот уже вторые сутки они отходили по лесу, ведя в поводу лошадей. Сани пришлось бросить ещё на дороге. Всё своё имущество, состоявшее из нескольких мешков с продуктами, оружия и боеприпасов, они везли в тороках. Вечером накануне произошёл последний бой. Группа лыжников попытались перехватить их на просеке, зайдя с правой стороны. Но боковое охранение вовремя обнаружило преследование. Установили пулемёт. И держали лыжников на расстоянии до тех пор, пока основная группа не перешла просеку и не исчезла в лесном массиве, где догнать и перехватить их было уже невозможно.
Ночью продолжили путь. Шли по компасу, время от времени сверяя маршрут по карте. Рассвет застал их вблизи дороги. Впереди и справа гудело.
– Варшавка, – сказал Турчин.
Воронцов поднял руку:
– На днёвку остаёмся здесь, на этой стороне. Губан и ты, Кудряшов, пойдёте в разведку. Пулемёт оставьте. Возьмите автоматы и гранаты. Задача: найти место для перехода. Пройдите вдоль дороги вправо и влево. Остальным – за мной. Кудряшов, найдёте нас в километре отсюда.
Нашли густой ельник. Выставили посты. Развели небольшой костерок, поставили котёл для каши, натопили снега и заварили перловку. Пока булькала в мутной кипящей воде крупа, задремали вокруг огня, сидя на корточках.
Воронцов развязал вещмешок, бросил на снег две банки тушёнки и нож.
Вернулась разведка. Кудряшов доложил:
– Движение в обе стороны. Тяжёлая артиллерия отводится на запад. Но на восток идут грузовики с солдатами. Видели несколько танков. Танки одиночные. Похоже, патрульные. Шли не в колонне, а так, самостоятельно. Днём, я думаю, не пройти.
Воронцов выслушал разведку и приказал рубить лапник. Нарубили еловых лапок. Поели каши с тушёнкой. Разбросали костёр. Свалили нарубленный лапник на кострище, на нагретое место, и залегли, чтобы поскорее дождаться вечера. Спали по очереди. К вечеру к шоссе снова ушла разведка. Долго не возвращалась. Наконец, уже в сумерках, прибежал, дыша морозом, Губан, доложил, что можно выдвигаться к дороге, что последняя колонна прошла полчаса назад, а дежурная танкетка только что.
Подошли к Варшавке. Лошади проваливались в глубокий снег, ёкали селезёнками, беспокойно оглядывались на людей. Те гладили их напряжённые нервные шеи и дрожащие бока, успокаивали приглушёнными голосами:
– Тише, милая, тише… Скоро перейдём, сенцом где-нибудь разживёмся.
Первым через дорогу перебежал Воронцов. За ним – Турчин. Следом, ведя в поводу лошадей, пошли старшина Нелюбин, Кудряшов, кузнец дядя Фрол и остальные. Когда отряд исчез за дорогой в лесу, из-за снежного отвала вскочил Губан, подхватил пулемёт и побежал следом. Бежал он быстро, ловко перепрыгивая через комья снега и радуясь тому, что и его служба на дороге закончилась благополучно.
Снова всю ночь шли. Теперь держались вдоль дороги. К утру вышли к деревне. Деревня как деревня. Примерно в километре от Варшавки. Дворы целы. Услышали немецкую речь. Свернули, чтобы обойти селение стороной. Углубились в ельник и остановились на очередную днёвку.
Канонада гремела со всех сторон.
– Где он, фронт? Куда идти? – гадали партизаны.
– Пойдём на северо-восток, – решил Воронцов.
– Надо зайти в какую-нибудь деревню. Хоть разок в тепле поспать. А, командир? – Кудряшов, сжав небритые тонкие губы, скупо и вопросительно смотрел на Воронцова.
– Вот там где-нибудь и найдём подходящую деревню. А здесь, у шоссе, сами видите, везде гарнизоны. Им, на дороге, тоже холодно.
– А что ж, Курсант, выходит, мы свою деревню бросили? Народ? – Теперь на Воронцова вопросительно смотрел дядя Фрол.
– Немцы за ними не пошли, – ответил он. – Мы увели их от обоза. И это было нашей основной задачей.
– А теперича ж что? Они – там? А мы – тут? Надо к ним идти.
– Надо где-то остановиться. Найти базу. В какой-нибудь деревне. А потом идти искать обоз. Чем мы им сейчас поможем? Ничем не поможем, дядя Фрол. Продуктов у них пока достаточно. Не пропадут. Выйдут к какой-нибудь деревне. Или найдут тот хутор возле озера, о котором говорил Пётр Фёдорович.
– Ты что, дядя Фрол, по старухе своей заскучал? – засмеялся Кудряшов. – Забудь до победы.
Кузнец хмуро посмотрел на Кудряшова и сказал:
– Не лопочи, лопоцон…
Это немного разрядило молчание, которое угнетало людей своей неопределённостью. Потери, которые отряд понёс на завалах и во время отхода, тоже действовали угнетающе. Там, в Красном лесу, остались почти все вяземские, студент Гавриков, казаки, перешедшие на их сторону, многие из прудковских. Хотя, на это Воронцов тоже теперь надеялся, некоторые моги уйти по дороге на озеро, а значит, возможно, уже пристали к обозу. Но отходить по дороге он запретил категорически. Отступать вслед за деревней – это навести немцев на обоз. Все эти дни шёл снег, ночью бушевала метель, и санный путь, проделанный прудковцами, теперь уже не так-то просто отыскать. А если лыжники кого-то захватили в плен? Если выпытали всё? И об обозе, и об отряде?
Когда они, уже разбросав костёр и затушив в снегу головешки, сидели с котелками и хлебали горячее варево, с северного поста донёсся условный сигнал об опасности. Не успели похватать оружие, как оттуда послышались голоса и немного погодя крик:
– Свои!
Дорофеев, стоявший на северном посту, вёл двоих лыжников. Те подошли, отстегнули крепления, посмотрели на сидевших у костра. Оба с немецкими автоматами.
– Здорово, – сказал один. – Вы кто?
– Мы – партизанский отряд, – ответил Воронцов.
– Какой ещё партизанский отряд? Мы здесь все отряды знаем. Кто командир?
– Я командир.
– Фамилия? Звание?
– Курсант Воронцов. Отряд организован недавно. Боевой опыт небольшой. Всего четыре боя. Но потери большие.
– Не знаем про ваш отряд ничего… Какие ещё бои? Были бы бои, мы про вас знали бы.
– Мы выходим из района Прудки – Андреенки – Шилово. Боестолкновение имели с казачьей полицейской сотней, отдельной жандармской группой факельщиков и немецким подразделением, которое действует в красноармейской форме. А вы, позвольте, кто такие будете?
– Мы будем отдельный партизанский полк. А вот вам придётся сейчас же следовать за нами.
– Я должен посоветоваться с отрядом, – сказал Воронцов.
Спустя полчаса с лыжниками уехали двое: Турчин и Кудряшов. Когда они ушли, Воронцов поднял отряд и отвёл его ещё на километр глубже в лес. К вечеру все четверо вернулись. Турчин сообщил:
– Партизанский отряд. Хорошо оборудованная база. Видимо, не основная, вспомогательная. Нам, конечно же, не доверяют. Предлагают действовать автономно. Но все приказы получать от них.
Лыжник, который всё это время молча стоял рядом, сказал:
– Если есть раненые, мы заберём. Базироваться можете в одной из деревень. Карта есть? Тогда давайте, укажу, как идти.
Воронцов достал карту.
– О, немецкая! – усмехнулся лыжник. – Откуда она у вас? А, Курсант? Тёмные вы люди…
– Оттуда, откуда и ваш автомат, – ответил Воронцов.
Лыжник снова усмехнулся, но ничего не сказал. Он долго разглядывал карту, читал названия. Наконец ткнул пальцем:
– Вот, деревня Колодези. Немцев там нет. Можете расположиться в школе. До вас там стояла одна из наших групп.
Утром следующего дня отряд Курсанта вошёл в Колодези. В школе, которая стояла под липами, было хорошо натоплено. Рядом, приткнувшись один к другому, виднелись сараи. В один из них они завели коней. Выставили посты и завалились спать. Но вскоре Воронцова разбудили:
– Командир, – тряс его за плечо Кудряшов. – Вставай, зовут к командиру полка.
– К какому ещё командиру полка? – Воронцов открыл глаза и рядом с брянским увидел незнакомого человека. – Этот, что ли?
– Нет, это – завхоз. Печи нам вытопил. Посыльный.
– Командир ждёт вас у меня дома, – сказал незнакомец. – Пойдёмте. У нас мало времени.
Воронцов на всякий случай взял автомат, в карман сунул гранату.
– Это – лишнее, – сказал, наблюдая за его сборами, завхоз.
– Не к тёще на блины зовёте…
– И это верно. Но блины будут. – И до этого суровое худощавое лицо завхоза расплылось в щербатой улыбке. – Хозяйка расстаралась. Ну, бери, бери свои гулюшки и пойдём. И вы уморёвши, и они торопятся.
Они вышли вслед за завхозом. По пути Кудряшов успел шепнуть, что старик ему знаком, видел его вчера в лесу, когда с лыжниками ходили в отряд.
– Его там так и звали – завхоз.
Свернули в проулок. Впереди, возле дома под берёзами, стояли двое саней, запряжённых лошадьми, в которых угадывалась кавалерийская стать. Из-за берёзы выглядывал часовой с автоматом ППШ на груди.
В доме за столом сидели четверо в красноармейских гимнастёрках.
– Присаживайтесь, Курсант, – кивнул на табуретку худощавый скуластый майор.
Воронцов невольно оцепенел, глядя на горку блинов и чашку со сметаной, придвинутую к нему майором. За столом на мгновение установилась тишина. Её нарушил всё тот же майор, который, видимо, и был командиром партизанского полка. Он засмеялся и сказал:
– Угощайтесь. Ешьте. В лесу блины не пекут.
Воронцов положил на пол рядом с собой автомат, который всё это время держал на коленях, расстегнул шинель.
– Подольский? – кивнул на петлицы майор.
– Да.
– Какой курс?