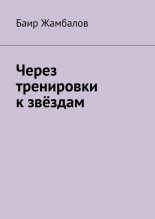Рок на Павелецкой Поликовский Алексей

1
Сейчас я уже не помню, что делал в тот осенний день на Дубининской улице. Я повернул налево с Кольца – тогда там ещё был левый поворот – и, проехав мимо Павелецкого вокзала, уже готов был устремиться дальше на юг, по дурной разбитой мостовой, для пущего страдания автомобилистов снабженной трамвайными путями. Обычно я там не езжу, берегу машину, но тут меня понесло. Вдруг боковым зрением я увидел на другой стороне улицы стоящего за лотком бородатого мужчину в синей курточке и с красной лентой вокруг головы. Я ещё не успел сообразить, кто это, – мысль об этом пришла секундой позже, – но уже почувствовал внезапную тревогу. Я по инерции проехал несколько десятков метров и остановился, не доезжая светофора. Постоял десять секунд, раздумывая и сомневаясь, а потом включил аварийную сигнализацию и подал назад. Да, теперь я проехал несколько десятков метров назад, осторожно, медленно, навстречу несущимся к светофору машинам – и притормозил точно напротив уличного торговца.
День был унылый и серый, а фигура его на фоне этого серого, пропитанного влагой дня была яркая, как цветная клякса. Длинные темные волосы, громоздкое, с крупным подбородком, как из дерева вырезанное лицо, рыжеватая борода, красная лента вокруг головы, давно вышедшие из моды кроссовки с загнутыми мысками – он выглядел нелепо, как мастодонт, случайно забредший в наш супердинамичный век. Сидя за рулем и повернув голову, я некоторое время смотрел в боковое стекло на грузную фигуру, стынущую за лотком на холодном ветру. Это был сентябрь. Вторая половина сентября, уже шли дожди. Асфальт был в лужах. Очень неуютная погода. Я рассматривал его, сбитый с толку, неуверенный, смущенный, пытаясь совместить в себе какие-то вещи, которые казались несовместимыми – а потом, уже поняв, кто это, опять сидел и думал, нужно ли выходить и идти к нему. Помимо сомнений, стоит ли вообще подходить к человеку, которого не видел двадцать лет, тут было ещё и обычное нежелание вылезать на холод из теплой кабины с радио, которое хрипловато мурлыкало голоском Патриции Каас. Она пела «Медуамазель блюз».
Теплая кабина, бесшумно работающий под красным капотом двигатель в сто шестьдесят хорошо отлаженных сил, – инжектор, шестнадцать клапанов, многоточечный впрыск, гордость водителя! – приятный голос француженки, в котором в правильных пропорциях были смешаны романтика и эротика, руки на руле, правая нога на ребристой резине педали газа – все это был мой привычный мир, мир, который сросся со мной так, что уже не отдерешь. Автомобиль был продолжением меня. Или я был продолжением автомобиля? Я был тот, кто я был – не последнее лицо в страховой компании «Линекс», мужчина сорока пяти лет с красивой сединой в волосах, отец семейства, владелец счета в Московском Международном Банке (ММБ), раз в год отдыхающий две недели в Европе. Улица, уходящая вдаль, была как приглашение двигаться дальше и, двигаясь, оставаться здесь, в этом привычном мире, в своей нынешней жизни. Человек, маячивший за стеклом на другой стороне улицы – он был из другой жизни. Из прошлого.
Двадцать лет назад, в те годы, которые отстояли от приближающегося Миллениума далеко, как эпоха ацтеков, человека, который сейчас стоял за лотком, звали очень просто – Бас. По понятной причине: он играл на басу в великой группе Final Melody. Я не слышал о Final Melody много лет, мои нынешние приятели и сослуживцы не знали о такой группе, да и вообще кто теперь знал об этой группе? – но я никогда не забывал о них. Это было невозможно – это значило бы забыть о самом себе, каким был когда-то, а ведь я был когда-то. Они сгинули, растворились. Музыка группы не издавалась, что вообще-то говоря было странно: в наши дни после цифрового ремастеринга издается абсолютно все, любой шум и гам, даже тот, что остался от прошлого на осыпающейся пленке «Свема», предназначенной для старых катушечных магнитофонах. Но их – не издавали. О них не писали. На FM-диапазоне их не крутили. Они исчезли.
Я вздохнул, поправил очки на носу, вылез из кабины, запер машину, сунул руки в карманы куртки и через улицу пошел к нему. Улица здесь довольно широкая, это дальше она деградирует, лишается асфальта, сужается и превращается в вымощенный булыжником кошмар для передней подвески. Я шел не спеша, пропуская несущиеся мимо с влажным шуршанием машины, а сам смотрел на него. Бас стоял за лотком, вжав голову в плечи, глядя вниз, будто в оцепенении. Ему было холодно – ещё бы, провести целый день на сыром ветру – но он не делал никаких попыток согреться, не переминался с ноги на ногу, не двигал плечами, не шевелил руками, не расхаживал. Стоял себе неподвижно, выдвинув челюсть вперед, тупо глядя в асфальт. Он был в неподходящей к погоде синей синтетической курточке с гербом компании Opel, молния была застегнута до самого верха, в старых джинсах и в грязно-белых кроссовках с загнутыми вверх носами. От этих кроссовок я просто не мог отвести глаз. Где он взял их, на какой помойке, в каком старом обувном ящике? Лет пятнадцать назад такие кроссовки были последним писком моды. Что касается красной ленточки вокруг головы, то и она тоже была стопроцентным анахронизмом – теперь такие носят разве что длинноволосые теннисисты на корте. В те годы, в начале восьмидесятых, он носил такую же, что придавало ему внешнее сходство с Христом в терновом венце. Вполне хипповая аналогия.
Я уже стоял перед лотком и рассматривал товар. Торговал Бас в основном писчебумажными принадлежностями – на лотке лежали стопки тетрадей, на обложках которых были изображены котята и некто ужасный по имени «Pokemon». Далее – ручки с гелиевыми стержнями, а ещё кисточки в пластмассовом стаканчике. Это все был товар умопостигаемый, но тут были ещё вещицы, смысл которых оказывался мне недоступен – под мокрым целлофаном, усеянном крупными каплями, лежали красные тряпичные сердечки с вышитыми по краю словами «С любовью!» и с посаженными сверху мишками, стрекозами и зайчиками. Я не мог представить, кто это покупает и зачем. Некоторое очень небольшое время я созерцал лоток, а потом перевел взгляд на Баса. Я глядел на него, а он, чувствуя пристальное внимание к себе, стал нехотя и вяло выходить из комы. Не меняя позы, все так же стоя с вжатой в плечи головой и глубоко засунутыми в карманы куртки руками, он подвигал челюстью и открыл глаза – мгновение в них была стерильная, ничем не тронутая пустота только что возникшего сознания. Потом в них что-то поплыло.
Всегда неприятно, когда тебя рассматривают в упор, но тут неприятным было ещё и то, что он на моих глазах проходил тот путь сомнений, который я проделал пять минут назад, сидя в машине. Я уже въехал в ситуацию, уже свел концы с концами, уже смирился с обретением прошлого, а он пока что элементарно не был уверен, я ли это. Я ли это? Попробуйте задать себе этот вопрос, стоя перед зеркалом, три или четыре раза подряд, сделайте это абсолютно серьезно, вдумчивым тоном и с нажимом – и вы почувствуете, как в дальнем уголке мозга медленно пробуждается ваша родная, исконная шизофрения. Мог ли вышедший из красной иномарки Mazda-323 коротко постриженный состоятельный господин в очках, в коричневой кожаной куртке и белых джинсах от Kevin'a Clein'a быть длинноволосым, бледным от постоянного недосыпа, вечно возбужденным френдом, который так любил рок-н-ролл, что ходил не только на концерты, но и на репетиции великой группы Final Melody? Все это с такой ясностью читалось на растерянном лице Баса, что и я заразился его мыслями и на мгновенье утратил ощущение себя самого. А потом вдруг до меня дошел комизм ситуации – и я стряхнул с себя паузу.
– Бас, кончай пялиться, это я, – сказал я. – Гарантированно я. Показать тебе паспорт?
– А что, покажи, – согласился он, просыпаясь. Он подвигал плечами, живот его мерно поднялся и опустился под курткой. За эти годы он раздался вширь, набрал веса, стал неплохо весящим дяденькой. Пиво, наверное, пьет. Теперь в глазах у него была веселая ирония. – Как ты тут очутился?
– Приехал тебя проведать. Ты что тут делаешь?
Вопрос был вполне в стиле нашей прошлой жизни, жизни рок-н-ролльных героев, которым небо дом родной, море по колено и всегда не хватает портвейна – смесь бессмыслицы и смысла. Понятно, что он тут, за этим лотком с кисточками, делал, и при этом непонятно, что он тут, за этим лотком с кисточками, делал.
Он пожал плечами и вдруг улыбнулся. Улыбнулся, чуть склонив обросшую голову к покатому, обтянутому синей синтетикой плечу – и сказал дежурную фразу:
– А ты знаешь, я рад тебя видеть.
– И я рад тебя видеть, – эхом отозвался я – а дальше не знал, что делать. Двадцать лет назад мы расстались с ним на несколько дней, которые затянулись до вот этого сентября с мелким унылым дождичком. И группа его исчезла. Куда делись люди, творившие безумие в Final Melody? Куда исчез Мираж, мрачный гитарист, игравший нескончаемые импровизации в темном зале, набитом хипней? Куда делся огромный барабанщик Роки Ролл, король ритма, создатель ровного звука, умевший за минуту нанести по барабанам и тарелкам триста ударов? Куда делось всё?
– Бас, а ты не можешь всё это сейчас послать? Мы бы посидели с тобой где-нибудь тут поблизости. Раз в двадцать лет можно и поговорить…
Он печально оглядел свое хозяйство. В глазах тоска.
– Не могу. Мне вставят пистон! Я материально ответственный, – это прозвучало как «Я прокаженный». Он покрутил брюхом под своей легкомысленной курточкой и подвигал руками в карманах, подтягивая разношенные джинсы. И хмыкнул.
Дурная мысль выкупить у него все эти тетрадки и дневники, всех этих Покемонов и зайцев, выкинуть их в Москва-реку и весело отправиться пить пиво посетила меня. Когда-то это был бы вполне рок-н-ролльный поступок, который причислил бы меня к сонму героев – купил же Джим Моррисон однажды змей и ящериц в террариуме города Лос-Анджелес и выпустил их на свободу – но я уже давно ничего подобного не совершал, хотя мысли о таких поступках меня иногда навещали. Подарить букет из двадцати пяти красных роз новой секретарше председателя правления г-на Цурикова – как, кстати, зовут эту стерву в красных туфельках на каблуках? – и отправиться с ней кататься на речном трамвайчике. Медленно и сладострастно разорвать на глазах коллег годовой бизнес-план – сорок страниц, шестьдесят восемь пунктов – и легким жестом пижона выбросить обрывки в окно. Сидеть за рулем, уносясь со скоростью ста шестидесяти в час в сторону Черного моря, попивая портвейн из горла и напевая July Morning. Эти мысли выскакивали сами собой – их посылало мне глубоко запрятанное в лесах, отступившее вглубь степей, дрожащее во льдах жалким теплым комочком мое прошлое, мой рок-н-ролл, мой бедный преданный зайчик.
– Ты тут каждый день стоишь, Бас?
– Начало же учебного года! – возмутился он отсутствию во мне деловой сметки. – Тетрадки хорошо идут. А потом, может, встану на другой товар.
– Какой другой товар?
– Ну, газетами можно торговать. Дисками. Лучше дисками. Я люблю диски. Хо! Хей хо! – процитировал он Маккартни.
– А когда ты кончаешь?
– В шесть.
– А куда деваешь все это? – я чуть не добавил «барахло».
– Фургон приезжает и забирает. А ты думал, я на себе таскаю? Это бизнес, чувак!
Он снова хмыкнул. Это у него был многозначный, многоцелевой хмык – он говорил им о том, что все это странно, и что все это смешно, и что все это, если подумать, полный бред. Я с ним был согласен. Музыкант, басист, человек из самой таинственной и самой удивительной группы, когда либо существовавшей на наших скифских просторах – тихо стоит на задах Павелецкого вокзала и приторговывает с лотка. А где твоя бас-гитара, брат мой? Где книга твоих мемуаров на прилавке модного книжного шопа? И одновременно он этим хмыком извинялся за себя, за свое нелепое положение.
К этому моменту я ещё не был уверен, что скажу через секунду. Может быть, мы перебросимся парой ничего не значащих иронических реплик – и расстанемся ещё на двадцать лет. Я в последнее время опасался друзей прошлого. Не стоит думать обо мне хуже, чем я есть: я опасался их совсем не потому, что они могли попросить у меня денег. Нет, причина в другом: говорить с ними было совершенно не о чем. «Ты помнишь того-то?» – «А ты помнишь того-то?» – «А ты помнишь, как мы сто лет назад пошли в „Метелицу“ и украли у официанта бутылку вина?» Оставалось выпивать, но выпивать с ними было то же самое, что выпивать у метро с любым бомжем. Три четверти тех, кто когда-то был одушевлен музыкой, любовью и свободой, теперь превратились в пахнущих перегаром дегенератов. И я ловил в облике Баса черты и черточки вырождения, пытался услышать интонации профессионального неудачника, разглядеть грязные ногти и красные алкоголические прожилки в глазах. Но ничего этого не было. Глаза у него были светлые и веселые, а руки, которые он наконец извлек из карманов – хоть и красные от холода, но чистые. Я посмотрел на часы. Было полшестого.
– Хочешь, попьем пива, когда ты закончишь?
– Холодно сегодня для пивка, – сказал он. – Ну можно вообще-то. А что ты будешь делать полчаса? Постоишь со мной? Поторгуем на пару? Он хмыкнул весело.
– Съезжу заправлюсь на набережную.
2
Я не поехал заправляться на набережную – у меня был почти полный бак. Это была отговорка, чтобы не стоять с ним полчаса у лотка, в ожидании, пока закончится его рабочий день. Я сел за руль и тут же ушел с Дубининской в переулки. Мне было все равно, где кататься полчаса, но все-таки лучше это делать на хорошем асфальте. Я задумчиво ехал по тихому переулку со смешным названием – улица Щипок, это надо же – и вспоминал, где и при каких обстоятельствах видел Баса последний раз…
Я видел его последний раз на репетиции Final Melody перед самым их распадом. По странной случайности, происходило это неподалеку от тех мест, где он теперь торговал и по которым я сейчас ехал. Тут, в одном из переулков, был дом культуры, где в самом конце своей бурной истории группа репетировала. Это было летом 1981. Ну да, а распалась группа осенью. Я не смог бы сейчас этот ДК найти в сплетении тупичков, проулков, складов. Где-то тут, да, где-то тут… я помнил ранний летний вечер, светлое небо давно ушедшей и ставшей как сон брежневской Москвы, пустынную улицу в обрамлении бетонных заборов, за которыми громоздились груды строительных плит и штабеля кирпичей, трамвайные пути, с травой между шпал, серый куб ДК и широкие ступеньки, ведшие к стеклянным дверям. В темном вестибюле с гардеробом, сюрреалистически сиявшем сотнями никелированных вешалок, сидел за столиком с телефоном старичок-вахтер в черном кителе вечного железнодорожника. Он злобно побуравил меня глазками. В моей холщовой самодельной сумке, вызывающе раскрашенной в цвета американского флага, – за такую сумку тогда вполне могли забрать в милицию – предательски звякнули три бутылки портвейна.
Как ни странно, репетиционный зал, в котором тем летом Final Melody готовила свою новую программу, был вполне уютный. Я говорю «странно», потому что само понятие уюта не вязалось с этими людьми, двое из которых явно находились на грани сумасшествия. Для их музыки больше подошел бы гигантский ангар с летучими мышами под потолком или голое поле аэродрома. Они были бы хороши перепившимися на Вудстоке, наширявшимися в Хэйт-Эшбери, но волею обстоятельств им пришлось жить и играть в Москве восьмидесятых, и они справлялись с этой задачей, как умели. Небольшой квадратный зал, мест на сто, уставленный рядами сколоченных в ряды кресел с откидными сидениями, обитыми черным дерматином. Неглубокая компактная сцена, над которой висел красный плакат с белыми буквами «Решения ХХVI съезда партии – в жизнь!», заставлена аппаратурой, по полу струятся провода, в углу сцены огромный гипсовый бюст Ленина на обитом кумачом постаменте. У постамента, на полу, небольшой натюрморт: круг изоленты (они периодически ремонтировали свою разваливавшуюся аппаратуру, перебинтовывали провода), термос с чаем, бутылка портвейна…
За ударной установкой сидел голый по пояс громадный человек в фетровой шляпе на длинных светлых волосах и жонглировал барабанными палочками. У него были грудные мышцы боксера – выпуклые, безволосые, блестящие от пота. Палочки без всяких усилий с его стороны, сами собой, плавно парили в воздухе, словно связанные друг с другом невидимой ниткой, и также плавно приземлялись в ладони. Следуя ритму, который звучал у него в голове, он через равные промежутки времени с расслабленной улыбкой то ли добряка, то ли дебила обрушивал двойной удар на большой барабан – и опять продолжал свои цирковые развлечения жонглера… Это был Роки Ролл – барабанщик Final Melody.
В центре сцены стоял длинный, тощий, обросший и небритый человек в черной майке с короткими рукавами и в синих джинсах, прорванных над правым коленом. С дырки свисала белая растрепанная бахрома. У него было бледное лицо человека, одержимого тайным пороком, и глубоко сидящие глаза, глядящие с тем суровым неодобрением, с каким смотрят на посетителей зоопарка орлы и сапсаны. Гитара – черная, сияющая, с серебристой вставкой, – висела у него на широком, расшитом индейским узором ремне. – Ты заткнешься, Магишен? – спросил гитарист, гражданское имя которого было мне, конечно, известно, но которое не имело никакого значения, ибо он был – Мираж. – Магишен, заткнись, прошу тебя, френд! Ты мне мешаешь, козел! – сказал он с усталым смирением человека, вынужденного по двадцать часов в сутки общаться с идиотами.
Орган в ответ пискнул мышкой и испустил игривую фразу, в которой я узнал многократно ускоренную и спародированную мелодию из Прощальной симфонии Гайдна. Большой барабан в ответ молодечески ухнул. Человек по прозвищу Магишен, лица которого не было видно за двумя свисающими потоками длинных волос, помахал правой рукой. Вслед затем орган захрюкал. И он хрюкал беспрерывно, все то время, пока палочки блаженно улыбающегося Роки Ролла выписывали виньетки в воздухе…
Мираж с ненавистью глянул в зал – на мгновенье у меня на переносице возникло ощущение холода. Его взгляд пролетел мою голову насквозь и уперся в стену. Стена не поддавалась его безумию. Это была классика– свихнувшийся гитарист, в голове у которого уже клубились психоделические импровизации. Остальные ему мешали. Он крутанулся на кривых, стоптанных каблуках своих пыльных вельветовых туфель, раздраженный тем, что видел и слышал: дурачащийся органист, жонглирующий барабанщик, припершийся в зал энтузиаст, упрямая, не желающая падать стена… Сидя за рулем машины, неспешно витающей по мокрым переулкам в районе Павелецкого вокзала, я словно видел его перед собой таким, каким он был в тот вечер, когда, стоя спиной к пустому залу, устраивал гитару на плече. Я видел, как переползают по спине его лопатки, видел изгиб его позвоночника и движение тонких, не способных и раза отжаться рук. Потом, через какое-то время, я увидел, как пошел в сторону и описал круг его локоть. Это он медиатором провел по струнам – зачерпнул звук. Гитара загудела ровно и монотонно, она гудела с протяжной бессмысленностью ветра в тундре, и в какой-то момент показалось, что у этого унылого гудения нет ни начала и ни конца – поток воздуха, ровным фронтом текущий к горизонту. Но долго это не продлилось, вдруг внутри потока что-то взорвалось – трах! шарах! бабах! – вспыхнул огонь, и тут же из грохота вылепилась мелодия.
Группа врубилась. Они наяривали с серьезными лицами. Мелодия летела, сверкая серебряными звездами, брызгая желтыми искрами, в обвале подключившихся ударных, в упругом пульсировании ожившего баса, в упорном, непрестанном хрюканьи органа, который не сдавался и настаивал на том, что он свинья. Пипл, lets go! – в восторге завопил Роки Ролл, окончательно приземляя палочки в ладони и с дикой силой обрушивая их на тарелку. Он барабанил тяжелыми, толстыми концами – не в виде исключения, а всегда. Так выходило тяжелее, мощнее, громче. Репетиция началась.
На репетициях Final Melody летом 1981 года не происходило ничего, что напоминало бы обыкновенную работу над музыкой, которая, как известно, состоит из усердного многократного проигрыша вещей и их частей, прерываемого обсуждением музыкальных деталей. Репетиция – то есть не сама жизнь, а подготовка к жизни – им претила, они не хотели тратить часы на подготовку и предпочитали сразу врубиться с максимальным драйвом, сразу загрохотать по кривым расходящимся рельсам в свой бред. Мираж гнал соло вперед во все убыстряющемся темпе. Это был его стиль – одним рывком, в несколько мгновений, преодолевать область рутинного, среднего, привычного. Здесь ему делать было нечего. Он стоял спиной к залу, опустив голову, неподвижно, с напряженными плечами, и только иногда его белый анемичный локоть совершал внезапные рывки или круговые движения, как будто он вытягивал жилы из своей гитары или вырывал из неё её электрическое сердце. Он был худ, астеничен, у него торчали ключицы и была хлипкая шея, на него в некоторые моменты его страданий было больно смотреть – и при этом он умудрялся быть сильным и даже брутальным. Он расправлялся со звуком решительно, как мясник. Он распластывал звук, поднимал его ударом бича, заставлять его прыгать и течь, резал его на куски, рвал на части.
Каждый раз, когда он начинал своё соло, я знал, что предстоит испытание нервов. Уже взлетев на немыслимые высоты, уже закрутив вокруг слушателя сияющие раскаленные спирали гитарного звука, он вдруг – я думаю, умышленно, не без садизма – обрывал тему и опять заставлял гитару выть. Они играли – всегда играли – на пределе звука, на полной мощности аппарата, который по нынешним временам показался бы допотопным до крайности: гэдээровские комбики, чешские микрофоны, польские усилители… Я был, как я уже сказал, завсегдатай концертов, я слышал в те годы «Машину времени», и «Воскресенье», и «Рубиновую атаку», и «Аквариум», и «Високосное лето», и это тоже были совсем не тихони и отнюдь не пай-мальчики, но никто не играл с такой наглой и мрачной агрессией, как Final Melody. В те годы в советских газетах постоянно появлялись статейки о том, что рок-музыка вредна для здоровья, в частности, для ушей, у рок-музыкантов и их слушателей якобы катастрофически падает слух – вообще-то я не воспринимал эти дурацкие статейки всерьез, но Final Melody доказывали вредность рок-н-ролла для жизни каждым своим явлением. С ними если не сойдешь с ума, то хотя бы оглохнешь. Я открыл рот, пытаясь ослабить давление звука на перепонки. Одна из двух герлушек, которых притащил на репетицию Роки Ролл, жалобно улыбаясь, держалась ладонями за уши. Пол под ногами вибрировал, так, словно по улице мимо ДК проходила колонна танков. Эта была музыка такой интенсивности, которой никто тогда не достигал во всем мире, даже Led Zeppellin. Но больше всего меня поражало, как быстро они попадали в это свое безумие. Им и минуты не нужно было.
Гитара Миража истошно выла на высоких тонах, визжала, заходилась в экстазе. Роки Ролл с просветленный улыбкой бешено лупил по барабанам. Орган взвизгнул, пиликнул, испустил трель, разразился бурным размышлением о бренности бытия, бас-гитарист резким движением лицевого мускула перебросил потухшую сигарету из одного угла рта в другой… Давление меняется – это больше не воздух вокруг меня, а звук, плотный, как вода, мощный, как ветер, он толкает меня в грудь, он грозит оторвать меня от пола, он качает и увлекает, он вызывает сердцебиение, этот свирепый грохот.
3
Мы сидели с Басом в пивном ресторане «Золотая вобла» на Добрынинской, за столиком на втором этаже, у окна. Зал был пуст и сумрачен, за окном сгущался вечер. Осенью в вечернем свете улицы всегда есть что-то, вызывающее тоску – у меня, во всяком случае. Мы взяли пива и одну рыбную закуску на двоих.
– Я пришел в группу уже тогда, когда в ней происходило что-то дикое, – начал Бас свой рассказ и отхлебнул. – Я играл в «Чертовой Дюжине» – была такая команда, ты помнишь – и вдруг мне однажды звонит Мираж. Я прибалдел. Так и так, не хочу ли я поиграть в Final Melody? Предложение офигительное, что называется, с ног валит. Ну, понимаешь, это тогда было для меня примерно также, как если бы Джимми Пейдж позвонил в мою коммуналку на Покровке – я тогда жил в коммуналке на Покровке, в доме над гомеопатической аптекой, и мне там девочки по знакомству отпускали всякие травки для успокоения души – и пригласил поиграть с Led Zeppellin.
Я повел себя в высшей степени благородно: сказал, что не могу вот так, с бухты-барахты, бросить «Чертову Дюжину», а должен сначала подыскать на мое место человека, ввести его в состав. Это во первых. А во вторых, говорю, у вас же там на басу О'Кей. Он про О'Кея мне не ни слова, а про «Дюжину» сказал: «Ладно, давай, подыскивай себе замену, мы ждем». Вообщем, осенью 1980, где-то в октябре, я пришел к ним. Кстати, что случилось с О'Кеем и отчего он ушел из группы, я до сих пор не знаю. Они на репетициях даже не упоминали о нем, а если и упоминали, то с презрительной интонацией. Складывалось впечатление, что он умер, причем позорной смертью, от сифилиса, например… Или, возможно, обокрал их всех и свалил.
С самого начала, как я пришел, мы репетировали новую программу. Ничего больше не происходило, мы с осени 1980 по лето 1981 репетировали новую программу. Концертов не давали. Я с ними всерьез на публике почти и не сыграл, а жаль. Мираж от всех предложений отказывался. Нет, раза два все-таки сыграли за это время, был один концерт в Долгопрудном, мы играли вместо двух часов четыре, и в конце концов нам вырубили аппаратуру, но Роки Ролл барабанил до последнего, не хотел уходить с уже пустой сцены. Другой раз концерт был в доме культуры в городе Алексин, там вообще все кончилось полным дебошем. Магишен там поджег себе волосы. Ну да, просто достал зажигалку, щелкнул у головы – и запылал. Его потушил огнетушителем осветитель, и потом он же вывалил ему на голову ведро песку. Роки Ролл дал осветителю в зубы, на сцене возникли дружинники с повязками, тут же вылез какой-то старик с орденскими планками и седыми волосами в ушах и стал орать диким голосом, что не позволит монархистам позорить Советскую власть… И после этого концерта, завершившегося дракой Роки Ролла со всеми окружающими, Мираж вообще никаких предложений не принимал, даже разговаривать отказывался. Он рассчитывал в сентябре начать все заново – с новым звуком, с новыми вещами. Там ему деньги какие-то большие предлагали, пятьсот рублей, тыщу рублей, хорошие залы, то да сё… он всех слал.
Я вообще только в эти месяцы, когда мы репетировали новую программу – они называли её vitanuova, – понял, что такое рок-н-ролл. А я ведь к этому времени уже лет восемь играл в разных командах и много чего о себе думал. Это не были репетиции в привычном смысле слова – они не тренировались, они жили. Каждый раз играли каждую вещь по-новому, с новыми акцентами, но на следующий вечер уже не могли воспроизвести своих вчерашних импровизаций и делали все опять по-новому. Они не могли быть одинаковыми и ловили от этого кайф. К марту или к апрелю мы уже сыгрались до такой степени, что готовы были играть хоть на «Уэмбли» в присутствии леди Ди, но они все трое были так настроены, что ни о каких концертах речи быть не могло. Они каждый вечер играли в пустом бункере. Понимаешь, мы запирались в этой бетонной коробке и играли до часу ночи, когда приходил старый хрен в черном потертом кителе и выгонял нас. Мы ловили тачки и разъезжались, метро уже не ходило. Они бы играли всю ночь, но все-таки заканчивали, потому что боялись, что если будут нарушать, их выгонят из зала. А так – могли сутками там сидеть и без устали делать музыку. Ни для кого. Для самих себя. Для стен этих голых, ты понял?
Мы там давали потрясающие концерты. В зале никого или почти никого. Редкий случай – пара приглашенных, девицы какие-нибудь, которых Роки Ролл притащит, он из них был самый жизнелюбивый, Мираж и Магишен вообще были дурки, крезанутые по полной программе. Говорю тебе, это так. Мираж периодически ложился в Кащенку. Запрем двери, зажжем весь свет, – или, наоборот, весь свет потушим, – Мираж встанет к залу спиной, поерзает плечом – и поехали. Новая программа состояла из шести вещей, пять из них были приблизительно одного размера – минут по шесть-семь. Это были такие драйвовые, мощные вещи, которые могли поднять на ноги умершего – с жестким ритмом, с резкими соло на гитаре и органе. И была ещё шестая вещь, нормативная протяженность которой – я до сих пор это помню – составляла 21 минуту 60 секунд. Она так и называлась: 21:60. Не смотри на меня как на идиота, это не я идиот, а они. В зависимости от их настроения и состояния, от погоды и количества выпитого, эта 21:60 могла занимать от 22 минут до полутора часов.
Атмосфера на репетициях была такая, что мне часто не хотелось туда идти. Да, да. Как это объяснить тебе, не знаю. Это было потрясающее переживание для меня как музыканта, то, что я там слышал и делал, это был такой великий experience, но одновременно это было очень тяжело в человеческом смысле, потому что там был сплошной и откровенный депрессняк. Роки Ролл был ещё ничего, с ним я находил общий язык, с ним и его герлами и его портвейном, но те двое, Мираж и Магишен, были невозможны. Они были… как это сказать по-русски?… в постоянном дауне. Дип даун, френд, ты меня понимаешь! Оба психованные. Такое складывалось ощущение, что они по ночам три года не спят, неделями не едят, месяцами воды не пьют, а только сидят в углах и себя накручивают. Они друг друга заводили. От них било электричеством, трехфазным током. От Миража сильнее, чем от Магишена, Магишен был больше углублен в себя, он же был Великий Шаман – он сам себя так называл. Great Shaman of Moscow Psihodelia. Он тогда в коммунальной квартире на Страстном бульваре устроил сепаратный проект, лабораторию водяного звука. Ты слышал? Ну да, кто тогда про это не слышал, все слышали…
В ванной там у него стояли колеса, отодранные от детских колясок, – он воровал детские коляски, угонял их с лестничных клеток, – он приделал к ним лопасти и лил на них воду, бил хрустальной палочкой по валдайским колокольчикам, которые висели на бельевых прищепках, играл на колесной лире и писал все это на скорости девятнадцать на «Комету». Питер Габриэль свихнется от зависти, когда все это услышит. Так он говорил. На репетициях он считал, что ему все мешают, особенно Мираж со своей гребанной гитарой. Вообще-то звук Final Melody создал именно Магишен, тяжелый, с фузом, с квакающим и воющим органом, и при этом этот его витающий вокал, которым он пел никому непонятные кратенькие тексты типа: «Вот пошел снег, откуда взялся этот снег, пошел-пошел он, этот снег, и нам всем опять настает абзац». Он их сам писал. Он подвывал, тоненько так, жалобно. Ощущение жуткое, просто конец всему. А Миражу это все было по фигу, все эти заклины Магишена на Бахе, на японской средневековой поэзии, на природном звуке льющейся воды, эти его соревнования с Эмерсоном, кто лучше аранжирует Мусоргского или Грига. На этой почве они с Магишеном не сходились. Они друг с другом не разговаривали по несколько репетиций подряд. Слали друг друга матом.
После репетиции оба разлетались в разные стороны, Мираж и Магишен. Молча собирались и уходили, не прощаясь. Меня это доставало страшно: ну даже не кивнут, не бросят «Пока!» или «До следующего раза!». Куда они уходили, я не знаю, но оба уходили с таким видом, что вот, пока мы тут с Роки будем наслаждаться жизнью, то есть пить портвейн и есть плавленые сырки, они идут взрывать мосты и минировать железные дороги. Занятые люди, ничего не скажешь. Ну, у Магишена, я уже сказал, были свои сольные проекты и связанные с ними дела, то он едет за дудкой на Полежаевскую к какому-то френду, то встречается на Киевской с чуваком, который обещал ему продать старую виолончель. В этой лаборатории водяного звука на Страстном у него собирался кружок посвященных, нечто вроде секты, они пели хоралы, он собирался выпустить диск водяной музыки с хоралами, я один раз туда ходил и играл с ним на ксилофоне, принимал участие в записи произведения под названием «Концерт для колесной лиры, дудки и воды a dur», причем это самое «dur» означало посвящение дуркам, с которыми автор познакомился в Кащенке, когда навещал лежавшего там Миража. А куда уходил Мираж и что он вообще делал в то время, когда не играл на гитаре, я не знаю. Он был похож на человека, который в свободное от музыки время может делать что угодно. В нем была дикая несвязанность с миром, просто атас какой-то. Может грабить людей в темных переулках – фигачить их молотком по голове и вытаскивать из кошельков трешки, а десятки оставлять. Может фарцевать – продавать гитары и прочую аппаратуру. Через его руки, только за то время, что я с ними играл, прошло гитар десять. А может, он вообще ничего не делал, а, уходя, впадал в летаргию до следующей репетиции.
После репетиций у меня с ним никакого общения практически не было. Он укладывал свой черный Стратокастер в футляр и уходил. Он был худой, с длинными ногами, ноги переставлял очень быстро, у него была такая устремленная походка, как будто он разбегается, сейчас взлетит, лбом пробьет потолок и умчится в небо со свистом. Я бы не удивился, если бы узнал, что он со своей гитарой спит. Не в том смысле, что спит рядом с ней, а в том смысле, что занимается с ней любовью в извращенной форме – завязывает ей струны узлом, сладострастно выламывает колки… То, что он вытворял с ней на сцене, было сексом. Я не имею в виду, что он принимал эротические позы, засовывал её между ног или играл языком, как это одно время делал Б.Г. – кстати, выглядели эти извращения у Б.Г. жалко. Мираж такие штучки считал дешевкой. Вообще он был статичен на сцене. Он не прыгал, не скакал, не двигался. Звук двигался, а не он. Ему надо было сосредоточиться, и поэтому он стоял всегда спиной к залу. Каким звуком он заставлял свою подружку звучать и в какой экстаз её вводил… ты это слышал.
Кто-то говорил мне, что у него дома было пять электрических гитар одна лучше другой – там была у него даже джазовая гитара Gibson, выпуска пятьдесят какого-то года, и две акустические, очень ценные, чуть ли производства самого Леса Пола. Откуда он такие мог в те годы взять, я понятия не имею, я никогда не был у него дома и этих гитар не видел. Но на правду похоже – он был фанат гитар. Он их откуда-то брал и, прежде чем продать, пробовал. Он их любил не за то, что они хорошо звучат, а за то, что они гитары – ты понимаешь разницу? Я помню, он однажды приволок в бункер фиолетовую уродину, сделанную на уральском танковом заводе, и всю репетицию с мрачным наслаждением исторгал из неё утробный рев. И помню его фразу, как он говорит, глядя мне в лицо, с абсолютно серьезным видом: «Ты слышал, как она? Ты понял? Нет, ты понял, Бас?» И дальше с восторгом: «Эта гитара – дочь танка!». Для него это не были просто слова, просто треп, в его мире – там, за стенками его черепа – эта гитара действительно существовала в каком-то странном виде, может быть, как хорошенькая девушка на гусеницах, а может, как автомат Калашникова с грифом вместо ствола. И он из этого грифа палил по всем упырям: та-та-та-та…
В головах у них постоянно клубился дым – видимо, тот самый, который Deep Purple пустили над водой. Между собой они иногда перебрасывались репликами о том, что, значит, вот, вчера они играли с Джимми Пейджем, импровизировали, значит. Где? Да черт его знает где! Это Мираж вполне мог сказать, и никто его не спрашивал о том, где он отыскал Пейджа, ну не на Плешке же среди нашей родной хипни он его встретил. А Магишен мог сказать что-нибудь вроде того, что Марк Фарнер его зовет в Grand Funk, но он не пойдет, потому что слабая группа эти Funk, ему в такой слабой группе со своим выдающимся органом делать нечего. Так он говорил, с понтом. Само по себе в таких речах ничего странного не было, тогда все беспрерывно прикалывались и несли чушь, но дело в том, что они не прикалывались. Они говорили это абсолютно серьезно. Психоделия – по-русски говоря, бред – была у них в головах. Они сидели в бетонном бункере на железной дороге и рассуждали о том, что завтра им играть с Chicago в Нэшвилле, а Гиллан обещал сегодня прийти на джем-сейшен и не пришел – он вообще-то динамист, Гиллан. А дочь танка фачится – помнишь такое словечко? – с большим барабаном. И я, после того, как слушал это из репетиции в репетицию, уже не мог категорически сказать, что они бредят, я допускал такую возможность, что они где-то там у себя, в каком-нибудь притоне, выпивают по литру водки с седуксеном, погружаются в транс и вступают в спиритический контакт с Пейджем, Лордом и Гитарой, дочерью Танка…
С Роки Роллом у меня отношения были вполне дружеские, мы несколько раз после репетиций распивали с ним бутылочку портвейна. Или пару бутылочек, тройку бутылочек, квартет и октет… Он был проще тех двух, барабанщик, все-таки. Любил барабанить, и все дела. Я думаю, игра в пустом зале его тоже доставала, но он никогда никаких претензий не предъявлял, понимая, что с Миражом говорить бессмысленно. Тот решил, что надо пятьдесят лет провести в бункере на Павелецкой, отработать эту карму – значит, будем пятьдесят лет жить в бункере. Он старался сделать жизнь там приятной: принесет бутылочку, расскажет анекдот, герлушки, опять же… Однажды мы после репетиции поехали с герлами к одной из них, я помню, была большая квартира где-то на Преображенке, без родителей, которые в тот момент уехали на дачу, и на этом фледу мы провели два дня и две ночи, постоянно распивая портвейн и в перерывах между сеансами секса сходясь на кухне и ведя там длинные разговоры о дзен-буддизме. Мы считали Советский Союз чем-то вроде тысячелетней китайской империи, которая будет всегда и в которой единственный способ продержаться – исповедовать философию буддизма. Роки Ролл в будущем собирался стать, как он выражался, «профессиональным буддистом», хотел отправиться учиться в бурятский даоцан.