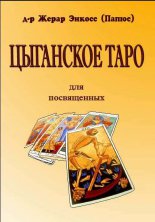Истина и закон. Судебные речи известных российских и зарубежных адвокатов. Книга 2 Козаченко Иван
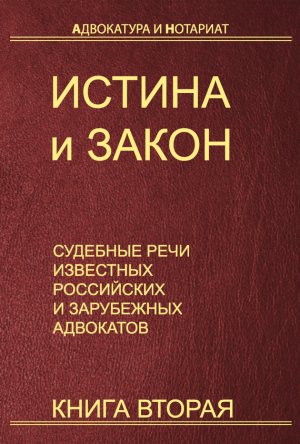
Милостивые государи! Когда в иные времена истязуемый пытками, вздернутый на дыбу, изможденный страданиями, злополучный обвиняемый, моля о пощаде, взывал: «Ай, ой, умираю… Сознаюсь», – разве воспользовались бы вы таким сознанием против несчастного? А если позже, вырвавшись на свободу, он воскликнул бы: «Посмотрите на мое истерзанное тело, на руки и ноги, еще израненные и дрожащие; последние силы, самая жизнь покидали меня, и я сознался… Но пред всемогущим творцом заклинаю вас – верьте, я невиновен!», – что же, решились бы вы и тогда утверждать: «Нет, он признался, стало быть, виноват!».
Не забудьте же, что для некоторых людей нравственная пытка гораздо ужаснее. Презирая телесные муки, ее они выдержать не могут. Ведите их в застенок, раскаляйте орудия страданий – у них станет духа перенести боль физическую, но не пытайте их нравственно, здесь они бессильны. Ла Ронсьер не задумался бы пред увечьем и даже смертью, но он дрожит, будучи призван к суду товарищей, раз в основание решения этот суд заранее берет экспертизу против обвиняемого. Тогда храбрость покидает его, и, дабы избежать крушения, купить молчание, он восклицает: «Сознаюсь!». Но запомните твердо: написав и отправляя письмо, «Клянусь честью, – говорит он, – я не виновен! Хочу одного – признанием, которого домогаются от меня, избавить мою семью от позора».
Повторяю, если несчастному, сознавшемуся под гнетом телесных испытаний, не хватило бы у вас смелости бросить в глаза: «Ты виноват, сам признал, все равно, среди каких условий; сознался – умри!», – то, умоляю вас, не убивайте этими же словами ла Ронсьера; удалите прочь его признания, отнюдь не добровольные, а вырванные душевными муками; не спокойный разум, а дряблость характера – вот их прямой источник.
В самом деле, рассудите: называя себя автором подметного письма, адресованного д’Эстульи, он делает первое признание, но этим не довольствуются, нет, говорят, мало: вы должны приписать себе всю анонимную корреспонденцию, без изъятия. Чего же требуют? Ведь писем, отправленных генералу, он не видел, а содержания не знает. По всей вероятности, они похожи на то, которое читал, на единственный пасквиль, ему известный. Что он может предпринять в момент, когда первое признание уже взято и обращено ему во вред? Здесь мы видим холодное благоразумие и последовательность его врагов; его держат, наступив ногой на горло и требуя признания во всем, чего хотят. Он подписывает свой приговор еще раз. Заручившись вторым доказательством, инквизиторы все-таки не считают себя удовлетворенными. Ненасытные, они приказывают теперь назвать соучастников. Какой ответ напрашивался прежде всего? Разве не самое простое было сказать: «Помилуйте, вы требуете невозможного!». А как отвечал он в действительности? Обратите внимание на следующие выражения его письма: «Услышав, что господин д’Эстульи желает от меня еще одного сведения, я пришел в отчаяние. Невозможность удовлетворить его обязывает меня просить вас повлиять на д’Эстульи всячески, дабы оставили меня, наконец, в покое и не добивались того, что ведет к моей окончательной погибели!».
Ясно, что упрек, будто ла Ронсьер молчал о невозможности удовлетворить д’Эстульи, чужд истине и что именно такова была его первая мысль, ближайшее возражение. Как он держит себя далее? Не переставая клясться, что невиновен, он даже среди признаний и вслед за ними спешит к адвокату посоветоваться, как доказать свою правоту. Ищет лакея из дома Мореля, чтобы разъяснить, хотя несколько, эту непостижимую тайну и напасть на след виновного. Еще позже, имея возможность бежать, он отказывается и опять протестует, что оклеветан напрасно.
Изложенным, надеюсь, я убедил вас, что подсудимый – не автор писем и что под тяжестью угроз, в минуту глубокого отчаяния он сам накликал беду, которой вовсе не заслуживает. Но и этим моя задача не ограничивается: в деле есть вопрос, еще более важный.
Речь идет о покушении, не о том обыденном, которое совершается молча и без шума, нет, – о таком, громкая, так сказать, всенародная обстановка которого была лишь вторым изданием уже известных, столь же невероятных, письменных предупреждений. Ла Ронсьер подготовляет свой умысел среди бела дня против целой семьи Мореля и вот-вот нанесет ей удар в сердце, оскорбив девушку, которой показания вы слышали.
Ни генерал, ни его домашние не могли сомневаться более, потому что угрозы повторялись каждый день. Еще немного, и Мария станет «бедным, падшим созданием, предметом общего сожаления!» – таковы страшные слова, ежеминутно появляющиеся в разных концах дома, вот что твердят анонимные послания. Что же предпримет семья, так нагло преследуемая? Чем обеспечат себя эти благочестивые люди, имея юную, непорочную, окруженную заботами и любовью дочь? Ведь они воспитали ее на Библии, и даже сейчас, уже взрослая, она все еще остается под крылышком матери. О, разумеется, надзор будет удвоен, утроен, если надо. Не покинут же ее беззащитной на жертву гнусного нападения, не дадут сбыться предсказаниям, если и вздорным, то возобновляемым непрерывно и покровительствуемым какой-то таинственной силой.
Увы, господа! – барышня Морель остается по-прежнему одна, без надзора и защиты, на самом верхнем этаже обширного дома. Отец и мать далеко; нельзя даже лакея позвать на помощь. Марию охраняет одна, столь же юная гувернантка. Тогда, благоприятствуемый этим странным уединением, ла Ронсьер, говорят, пробрался к ней в комнату. Что он там будет делать? Что его сюда привело? Необузданный разврат, безумная любовь, требующая удовлетворения во что бы то ни стало и не ведающая препятствий, напротив, раздражаемая ими?
Нет, вовсе нет! Не любовь привела его сюда; не симпатию, а ненависть питает он к Марии. В переписке это повторяется так часто, что сомневаться невозможно. Он пришел отомстить за себя, таковы его первые слова. «Я жажду мести!» – восклицает он. Мстить? За что? За обиды, им самим нанесенные, за угрозы, столько раз повторяемые, за непонятную безнаказанность, которую допускала в отношениях к нему эта властная семья? Трудно уразуметь что-либо…
А, он хочет отомстить генералу за то, что его выгнали из дому! Но ведь кровавая месть исполняется во вкусе фантастическом… Требуют ответа путем бесчестья дочери. Нет, вы не можете объяснять покушения таким образом, ибо гораздо раньше изгнания он уже писал: «Если буду в состоянии изувечить, убить вас, я это сделаю. Затем, ненависть моя выразится в последствиях, которые отымут у Марии все счастье, всякий покой. Самая смерть сделается вашим благодеянием». Разве не помните вы письма от 14 сентября, то есть за неделю до сцены с генералом: «В недалеком будущем эта прелестная девушка обратится в падшее создание и не вызовет другого чувства, кроме сострадания!». Очевидно, что не сцене 21 сентября подобает роль причины мести. Не ведая ее, мне остается спросить у вас, что же толкает ла Ронсьера на преступление? Во имя чего действует он?
Независимо от того, он ли действительно проник в комнату? Можете ли вы, положа руку на сердце, утверждать это?
На этом пункте возникает соображение, опасное для подсудимого, если будет опровергнуто, и, наоборот, решающее вопрос окончательно в его пользу, когда оно справедливо и доказано. Речь идет об алиби, и, заметьте, в этом случае нельзя не верить ла Ронсьеру, как бы ни была плоха его память, ибо, не дальше следующего дня начались для него тяжкие испытания. На другое именно утро происходила дуэль, которая заставила его вспомнить все мелочи своей жизни, оттиснула, запечатлела, врезала их в его мозг. Накануне дуэли он был в театре, встретил Мореля, а генерал видел его, в свою очередь. Он сидел в креслах рядом с Моргоном, что последний также категорически удостоверил на следствии. Но каким образом Моргон в состоянии определить день? Не ошибается ли он? Вызванный судебным следователем, он показал: «Однажды, вечером… накануне своей дуэли, ла Ронсьер был в спектакле и оставался до конца». Ясно, что это происходило перед дуэлью, в то самое время, когда подготовлялось и должно было совершиться покушение на честь Марии Морель. Правда, значительно позже Моргон видоизменил и смягчил свое показание. Заявив положительно, что ла Ронсьер оставался до конца представления, он два месяца спустя, на втором допросе, говорит так: «Я видел его в театре лишь несколько минут!». Впрочем, это безразлично; и, не доискиваясь объяснений подобной забывчивости свидетеля нигде, кроме присущего нам всем ослабления памяти на известном расстоянии от события, я думаю, что пред вами удостоверены как факт нахождения моего клиента в театре именно в означенный вечер, так и его способность болтать тогда о разных житейских мелочах, а равно его полное спокойствие.
Стало быть, вы знаете, что, отправляясь на сомнительное, а вместе и наглое предприятие, он показывался на глаза генералу Морелю и, что бы ни говорили запоздалые колебания Моргона, не уходил со спектакля до конца. При таких условиях мои противники поняли, что необходимо добыть одну, очень важную улику. Надо, решили они, установить связь между подсудимым и его соучастниками; следует доказать, хотя бы в одиночном случае, что их видели вместе. И вот следствие направляется на эту цель с рвением, достойным лучшей участи. А, милостивые государи, вы не можете представить себе, какова была энергия обвинения! Пустили в ход все средства. Ведь Сомюр не Париж, где всякий шум затихает быстро и без следа уносится в общем вихре. Здесь, в маленьком городке, не могли не казаться изумительными и не обратить общего внимания усилия, с которыми стучались во все двери; спрашивали всех и вся и, увы, не добились ничего! Вот подлинные слова конфиденциального письма следователя: «Данные недостаточны, а между тем свидетели вызывались неоднократно, отовсюду и допрашивались настоятельно. Дело перерыто и исчерпано во всех направлениях». Значит, долгая судебная процедура, которой ла Ронсьер, сидя в тюрьме, не мог мешать, разыскивала, докапывалась, бросалась в разные стороны, домогалась у встречного и поперечного: «Не знаете ли чего-нибудь», хваталась за малейшее указание и, тем не менее не могла открыть никакого следа сношений прислуги Мореля с обвиняемым.
Вдруг сегодня, когда прошло уже восемь месяцев и почти в конце судебного следствия, является из Сомюра свидетель неведомый. Кто он? Лакей господина Бэкёра, близкого друга генерала Мореля. А! Если он в самом деле знает что-либо о преступлении, которое повергли в отчаяние целую семью и ужаснуло весь город Сомюр, он, разумеется, не стал бы молчать. Кто не слыхал о настоящем процессе, кто не стремился обнаружить злодея? Так вот же вам человек, принадлежащий к дому близких знакомых генерала и восемь месяцев хранивший тайну огромной важности в глубине сердца!
Тысячу раз слыша разговоры о деле, он упорно молчит. Ему тысячу раз было известно, что Самуила прогнали, заподозрив в сообществе с ла Ронсьером, и что все ищут доказательств их сношений; он это знает и все-таки молчит. Ни единым словом не помог он следователю в течение целых восьми месяцев… Наконец, внезапно, чуть не в момент заключительных прений, когда мы лишены возможности разузнать что-либо о нем самом, когда нет способа взвесить его показания, он захватывает нас врасплох.
Что же говорит свидетель?..
Самые необыкновенные и поразительные вещи! Извольте видеть, он в 9 часов без четверти, вечером, гулял по мосту, ожидая госпожу Бэкёр. Вдруг видит человека в беловатой блузе и такой же старой фуражке. Неизвестный приближается; обратив внимание на его костюм, разглядывает теперь лицо, пользуясь ярким светом луны. Следовательно, обвиняемый – имея серьезные причины скрываться, обеспечивая себе безнаказанность путем подготовления заранее данных алиби, показываясь на спектакле в военной форме, затем перенаряжаясь дома, а, совершив злодеяние, вновь надевая форму и снова отправляясь в театр, – берет, для того чтобы лучше скрыться, белый костюм и такую же шапку, очевидно, долженствующие обратить внимание прохожих, и при ярком свете луны направляется к самому бойкому месту Сомюра, на мост, где его должны заметить непременно! Дальше Мартиаль Гише видит, как неизвестный человек подходит к окнам гостиной дома Морелей и, поднявшись на носках, разглядывает, что там делается. Вдруг прибегает Самуил Жильерон и настолько громко, что могли слышать прохожие, говорит неизвестному: «Берегитесь; сейчас выедет карета, спрячьтесь!», – и тот прячется. Гише остается наблюдать, но это не мешает человеку в белом вернуться к Самуилу и на глазах у Гише, да еще так громко, что он слышал каждое слово, спросить: «Как же я войду?» – «Я сумею устроить все, – отвечает Жильерон, – будьте покойны».
Я отлично понимаю испуг моего противника при внезапном появлении такого свидетеля. Как он сам заявил вам, он не мог не чувствовать, что подобные сказки могут быть гибельны разве только для Морелей. Совесть подсказывала, что Гише не говорит правды, и поверенный гражданского истца ожидал, чем это кончится, с содроганием и не без страха! Затем – так объясняет он, сделав над собой усилие – противник мой легко убедился в справедливости показаний этого человека…
Нет, нет, господа, свидетель не имеет понятия об истине! Такой порядок вещей, очевидно, немыслим. Не станет рядиться в белый, невольно привлекающий взгляд костюм тот, кому надо скрываться, и не пойдет он при полной луне на самое оживленное место города договариваться с соучастниками, и притом так громко, чтобы подробности могли быть подслушаны прохожими. С другой стороны, человек, случайно проникший в подобную тайну и застигнувший заговорщиков чуть не на месте преступления, ожидает дней заседания целые месяцы, чтобы поразить судей разоблачениями, которых они столь долго и так безуспешно домогались!
Однако чем руководствуется этот, поздненько-таки заготовленный свидетель? Какая выгода движет им? Кто послал его лгать пред вами? Поверенный Морелей рассуждает так: бывают люди, которым непременно хочется играть роль в знаменитом процессе; во что бы то ни стало, но припутают они свое темное, никому неведомое имя к вопросу, для всех интересному, к прениям, возбуждающим страсти масс.
Посмотрим, точно ли это побуждение привело сюда Гише и нет ли другого?
По окончании спектакля, где он находился непрерывно, где встретил генерала, беседовал с Моргоном, что делает ла Ронсьер? Возвращается домой. Двери вслед за его приходом запираются, так что уйти снова он не может. Вы не забыли, конечно, положительных заявлений по этому поводу, данных сестрами – хозяйками гостиницы. Ах, эти хозяйки, его хозяйки! Да, я отлично помню о господине Сент-Викторе, у которого хватило дарования собрать столько лживых слухов, сплетен и клеветы на подсудимого. Господин Сент-Виктор осмелился сказать, что если девушки Руоль пока не значатся в списках полиции, то их нравственность от этого не выигрывает ничего. Но вы слышали также энергические жалобы бедных сестер. «Нас забрасывают грязью, – плакались они, – только потому, что мы беззащитны и беспомощны!» Справедливый и горький упрек! Что же, в самом деле? Разве мы уже не в храме правосудия? Уж точно ли оно равно для всех? Не спала ли повязка с его глаз, и беспристрастие, которому здесь должно быть верное убежище, не изгнано ли и отсюда?
Пусть в этот храм явится богатая и высокопоставленная девушка – ее спешат окружить заботами и покровительством. Скользкое выражение, малейшая подозрительность, легкое дуновение, на нее направленное, – боже мой, ведь это непростительная, тяжкая обида, и прямые обязанности, самые священные права защиты ее не в силах извинить. Но когда идет речь о несчастном, забитом создании, тогда дело иное, и вы видите, как далеко распространяется болтовня свидетелей, куда идет сыскная тактика обвинения!
У них были слабости, говорите вы. Да не все ли равно? Я готов допустить это. Но ведь нам важно знать другое. Их показания заслуживают ли доверия суда? – вот что надо решить. Вспомните показание сомюрского мэра: их отец погиб жертвой рыцарской храбрости, спасая чужих детей во время пожара; теперь его дети вынуждены работать, чтобы жить, и как сам мэр, так и его помощник убеждены, что эти юные создания неспособны обмануть правосудие. Был ли ла Ронсьер любовником которой-нибудь из них? Нет, никогда! Даже здесь никто не дерзнул намекнуть об этом: но они все-таки лгут, они глумятся над присягой, твердите вы. О, разумеется, кто же не рад солгать под присягой на суде, вовлекая в беду себя самого и повергая мщению закона свою собственную жизнь, лишь бы выручить какого-нибудь мерзавца, чудовище в образе человеческом!..
Итак, подсудимый, оставаясь в театре до 11 часов, вернулся домой, а Елизавета Руоль заперла двери. Не имея ключа, он не мог выйти позже и, во всяком случае, был бы непременно замечен девушкой, которая работала всю ночь у окна своей комнаты, обращенного на лестницу, лежавшую на его пути. С другой стороны, его уход непременно обратил бы внимание Руоль-матери, которая жила в соседней комнате, за тонкой, едва в полтора дюйма, перегородкой, и при условии, что двери его номера, дурно повешенные, задевают пол и скрипят, когда их отворяют. Но, возразят мне, он мог скрыться через окно. Неправда! Архитектор-эксперт, человек уважаемый и вырабатывающий свое мнение вообще тщательно, а по этому делу особенно, удостоверил, что произведя всестороннее исследование на месте, он не нашел ни малейшего следа подобного воровского путешествия ла Ронсьера. Стало быть, его алиби доказано.
Очевидно, приходил не он; ему нельзя было проникнуть ночью на 24 сентября в спальню Марии Морель.
Достигнув этого момента дела, встречаем новый вопрос. Посетитель спальни, как он добрался туда, какими средствами воспользовался? Очень и очень не мешает расследовать это. Но мои противники не хотят идти за мной. Неужели? Да, господа, им неугодно. Вот до чего дошли мы с либеральными взглядами на уголовное правосудие. Руководствуясь показанием единственного и притом заинтересованного свидетеля, вы стараетесь обвинить человека в убийстве, а когда он доказывает невозможность преступления, вы считаете себя вправе отвечать: «Что вы нам толкуете о доказательствах; пора их выбросить за борт!». Совершенно новый прием, и, признаюсь, он меня смущает! А я все-таки хочу знать, каким путем ла Ронсьер мог войти. Никто не ведает! Испробовали всякие предположения, все средства; не брезговали ни смешной фантазией, ни комбинациями, заведомо гнусными. И что же? Судебный следователь в одном из протоколов делает такое заключение: «Надеюсь, что госпожа Морель объяснит нам, каким образом проникли в комнату ее дочери. Для меня это большая загадка».
Нет, решительно нет! Госпожа Морель не объясняет ничего, но зато она усиленно требует, чтобы нас приговорили к каторжным работам. Поищем дорогу сами и, если возможно, допытаемся, как вошли?
Была ясная, лунная ночь. Дом генерала, построенный из белого известняка, стоит не в переулке, а на площади и оставался не в тени, а был ярко освещен. Напротив, по другую сторону моста, – гауптвахта и постоянный часовой. Конечно, нельзя оттуда узнать, кто именно лезет, но нельзя также не заметить на совершенно белой поверхности движущегося тела – человека, который подымается и входит в окно. А разве не известно, предупреждают нас, что караул иногда спит. Ладно, пускай спит, но ведь мог и не спать; значит, надо признать, что преступник рассчитывал на сон часовых. Дальше. Если спит целый караул, то уж, конечно, не дремлют патрули, проходящие через мост почти непрерывно. Но допустим, что и это вздор. Игнорируя патрулей и часовых, ла Ронсьер воздвигает леса, привязывает лестницы, располагает веревки, устраивает подступы, вообще делает все необходимое, хотя знает, что будет замечен прохожими или дилижансами, которые в продолжение ночи нередко проезжают по мосту.
Прекрасно, все готово, но как же именно доберется он? По лестнице? Нет, ибо требовалось, утверждают эксперты, по крайней мере, три человека, чтобы пронести по улицам Сомюра и установить лестницу в 45 футов длины. Кроме того, у всех, кто имеет подобные лестницы в городе, спрашивали, не исчезала ли одна из них, хотя бы на короткое время, и вследствие отрицательного ответа оказались вынужденными отбросить это предположение. Вспомнили о другой, веревочной лестнице, и вот, на радость обвинителям, обнаружилось, что такая лестница обыкновенно встречается в багаже молодого офицера. Ла Ронсьер взошел на чердак, укрепил там свои веревки и спустился в окно к Марии Морель. Довольно хитрый и опасный прием! Отбросили это и перешли к новому соображению. Лестница, привязанная на чердаке, спускалась до земли, то есть имела от 45 до 50 футов длины, и вот по ней-то взобрался подсудимый. Таково последнее предположение; на нем остановились. Отлично. А все-таки лестницу необходимо укрепить. Где же? Кинулись на чердаки, пробовали все доски и балки, осмотрели всякий гвоздь – и ничего не нашли. Впрочем, нет: на потолке комнаты барышни открыли два железных болта, сюда, очевидно, и была привязана лестница. К несчастью, болты выбелены известью, которая трескается и отпадает при малейшем трении, даже от нажима пальцем. Внимательно, долго исследовали их и не нашли никаких следов прикосновения. Вероятно, решили тогда, веревки были обвязаны вокруг деревянного бруска, нарочно установленного поперек окна, или укреплены к ременной, кроватной раме?! Однако подобная система, независимо от сложности и труда скрыть ее от Марии или гувернантки, должна была выдержать значительную тяжесть, а брус, ремни и веревки неизбежно оставили бы черты на подоконнике, на краске откосов и рам окна. Архитектор Жиро понял это ясно, изучил подробно, но пришел к выводу прямо отрицательному. А если отнесемся к вопросу еще глубже, то встретим безысходные для обвинителей затруднения. Покрытая грифельными досками крыша выдается против чердака значительно вперед; по ее окраине замечается новый выступ жестяной, водосточной трубы. Подсудимый должен был подыматься по веревочной лестнице, укрепленной на чердаке и опускающейся сообразно поименованным изгибам. Взгляните же на крышу и желоб; на них ведь не могло не остаться следов трения, даже повреждений более заметных. Поломок? Нет ни одной, следов не усматривается вовсе! Что же? Тяжесть взрослого человека, качающегося подобным образом на воздухе, прошла бесследно, нисколько не повредив грифеля? Как? Давление лестницы на жесть даже не погнуло ее? Объясните, пожалуйста. Если не сумели истолковать это раньше в течение восьми месяцев самого строгого следствия, то не угодно ли просветить нас, по крайней мере, сегодня, в решительный момент процесса. Откройте же, господа прокуроры, каким путем добрался злодей в комнату барышни? Дальше. Чтобы составить лестницу в 45 футов длиной, необходимы две толстые веревки и, по наименьшему расчету, сорок поперечных палок. Где, у кого достал их ла Ронсьер? Передопрашивали всех торговцев города, не продавал ли кто-нибудь таких материалов; отовсюду получили одинаковый ответ: нет! Затем – по совершении преступления, вслед за дерзким насилием, учиненным человеком, который, отправляясь на разбой и как бы опасаясь, что его не разыщут, бросает в своей комнате на комоде письменное указание на себя самого, – по окончании всего этого, говорю я, куда девалась лестница? Опять искали всюду ее остатков, кусков, палок или веревок; вычерпывали колодцы, перепахивали рвы, бегали по амбарам и чердакам; лазили в погреба, везде и не один раз, и опять ничего. Так как же, господа, проник ла Ронсьер к Марии Морель?!
Нельзя не видеть, далее, что предприятие, задуманное обвиняемым, и тяжело, и опасно. Выступ кровли – не менее девяти вершков; стало быть, лестница, неизвестно как привязанная к мансарде и ниспадающая отвесно, с выступа до земли, будет удалена от стены на такое же расстояние. Очевидно, что, пробравшись до уровня окна, надо раскачаться и, не выпуская лестницы из рук, прыгнуть на узкий подоконник раньше, чем обратное отклонение веревки увлечет назад. На такой высоте подобная гимнастика мне кажется не очень легкой, пожалуй, даже гибельной. Тем не менее, говорят нам, вверяя свою жизнь этой шаткой, колеблющейся и дрожащей опоре, будучи обязан рассчитать все шансы неудачи и уменьшить вероятность собственной смерти, а силой обстоятельств вынужденный обеспечить себе как можно больше гибкости и ловкости, дабы счастливо избежать стольких опасностей, ла Ронсьер затрудняет себя сам, надевая длинную и широкую военную шинель. Мало этого, из непостижимой и сумасбродной предосторожности, он берет еще кивер и, что всего удивительнее, не теряет его с головы, как бы потешаясь над сложной эквилибристикой, выпавшей на его долю!
Преодолев все, – вот он у окна, среди сообщников, из коих один укрепил лестницу на чердаке, другой держит ее снизу, а третий стоит настороже. Он у окна! Не будем же и мы терять его из виду, поглядим, что станет он делать.
С целью отворить раму он разбивает стекло. Припомним в эту минуту важное показание стекольщика, работавшего у Морелей, и тот факт, что ему нет дела лгать в пользу ла Ронсьера. Допрошенный в начале следствия, когда производство оставалось еще тайной для подсудимого, этот честный малый дал, с очевидным прямодушием и добросовестностью, точные ответы на все вопросы. Вот моя книга, заявил он, где ясно указан день, когда я вставил новое стекло, и я утверждаю, что не было возможности просунуть руку в отверстие, мной найденное в замененном мной стекле. Свидетель объяснил, далее, каким образом такая безразличная для него мелочь сохранилась в его памяти даже три месяца спустя. Нет ничего странного, что, вставлял стекло, он всегда рассчитывает, какое употребление сделать из старых осколков. Точно так же, увидев разбитую часть окна комнаты Марии Морель, он сказал себе: вот прекрасный случай, у меня останется большой кусок стекла, и я употреблю его в дело. Понятна причина, что он обратил сюда внимание, ясно, почему он помнит состояние, в котором нашел раму, и если при данных условиях кто-либо может сообщить точные сведения, то, разумеется, это мастеровой. Пусть же госпожа Аллен рассказывает, что стекло было разбито сверху донизу; пусть Аккерман, друг Мореля, в свою очередь, повествует нам: «Восемь месяцев назад я с женой проезжал через Луару, по мосту, видел, что во втором этаже, в комнате Марии, оконное стекло было расколото наискось, и хотя я никому до сих пор не заявил об этом, но сегодня припомнил», – я не верю таким свидетелям. Показание стекольщика Жорри, труженика, прямо заинтересованного в своей работе и свидетельствовавшего не восемь, а два месяца позже события, в моих глазах, более правдоподобно.
Отлично, возражают мне, но ведь если бы хотели подделать улику, стоило бы кинуть что-нибудь в стекло и раскроить его вдребезги… Да нет же, господа: все предвидеть немыслимо; отъявленные негодяи, заранее подготовляющие средства защиты на суде, и те упускают нередко из виду самые простые предосторожности.
Позвольте привести вам факт из моего личного опыта. В уголовном деле (Бенуа), на которое я уже один раз ссылался, юноша, перерезавший горло родной матери, тоже хотел симулировать взлом снаружи. Он разбил именно стекло, но и там, через пробоину, нельзя было просунуть руку. А между тем это был заведомый мерзавец, злодей ловкости изумительной, негодяй, в такой мере пронырливый, что малейшее подозрение долго не касалось его и что на эшафоте едва не погиб другой, невиновный. (Волнение.)
Мы знаем, слава богу, что на всякого мудреца довольно простоты и что почти всегда какая-нибудь жалкая оплошность ниспровергает самый хитрый расчет.
От изложенного фактического, поразительного, решающего и очевидного абсурда перейдем в другую сферу, к несообразностям нравственного порядка.
Обвиняемого могли заметить. Часовые видели человека, проходившего через мост. Рискуя жизнью, он все-таки пробирается в комнату девушки, хотя знает, что, застигнутая внезапностью, она непременно станет кричать. Что ему за дело! Он храбрее, чем можно себе представить. Все это, разумеется, было бы понятно, войди он к несчастному созданию, крики которого некому услышать или которому легко было бы зажать рот.
Но, господа, рядом с барышней находились Аллен и мальчик Роберт… Что, если они закричат, подымут суматоху, взбудоражат целый дом? Ведь его неизбежно убьют на месте. А, будь, что будет, – он все-таки идет!
Как же вы хотите, говорили здесь, чтобы, цепенея среди ужасов подобного насилия, девушка могла найти силы кричать?
Но уважаемые противники мои обязаны помнить, что госпожа Морель отнюдь не теряла присутствия духа, все видела и все слышала. Нет шага, нет движения, происшедших в ее комнате, нет слова, произнесенного в течение всего события, которых бы не воспроизвела она пред нами с точностью изумительной. Вот о чем я не прочь был бы с ней побеседовать. Увы! Надеюсь, памятен вам чуть не религиозный культ, которым окружили ее, и вы легко поймете, что бы вышло, начни я только свой допрос. Вот как разумеют здесь свободу защиты! Впрочем, на предварительном следствии кое-что рассказала она сама. Взгляните на протоколы ее показаний и убедитесь, с какой ясностью мысли разглядела она все, как внимательно удержала малейшие подробности, как твердо и самоуверенно повествует. Наблюдая, в свою очередь, я должен признать вообще, что девушка Морель отличается замечательным хладнокровием и твердостью. Вы сами тому очевидцы; не было мгновения, когда бы ей пришлось взволноваться или утратить самообладание, да еще где, – в этом зале, среди всенародного, так сказать, судилища и лицом к лицу с человеком, имевшим столь роковое влияние на ее судьбу.
Однако вопреки факту, что она отчетливо видела все происшедшее и описывает ныне с такой мелочностью, в ее рассказах усматриваются серьезные противоречия. Говоря, например, отцу: «Преступник вымазал себе лицо сажей», – она сообщила, наоборот, мисс Аллен, что оно было закрыто куском черной материи; далее, свидетелю Бэкёру сказано, что нападавший был замаскирован; здесь, на суде, еще противоречие: она уверяет, что лицо было открыто. С другой стороны, в беседе с отцом Мария прямо заявила, что не узнала злодея, так как в комнате было темно; мисс Аллен говорила, что это, кажется ла Ронсьер, а пред матерью и на суде она уже настаивает категорически, что это был именно он.
Руководствуясь такими показаниями, решите же, по чистой совести, пред богом и людьми, что ла Ронсьер, а никто другой, входил к госпоже Морель.
Послушайте, если хотите, что говорит она о дальнейшем. Убийца, жаловалась она мисс Аллен и Бэкёру, схватил меня с кровати и бросил на пол. В следующем показании кровать уже не фигурирует; напротив, при первом шуме Мария сама встает с постели, хватает стул и готовится к обороне. Пусть будет так. Но вот опять непостижимая, изумительная подробность: пред столь грозной опасностью девушка не кричит!
Помощь легка и возможна: мисс Аллен так близко, что может слышать дыхание своей воспитанницы; двери в ее комнату всегда открыты – факт, удостоверенный ею самой. Ясно, что, разбив стекло, открыв окно и войдя, убийца был раньше всего поставлен в необходимость закрыть двери и тогда лишь вернуться к барышне. Так вот, среди подобных приготовлений, располагая временем, встав с кровати и то вооружаясь стулом, то занимая позицию, то готовясь к борьбе, Мария не издает ни звука. Вопреки сопротивлению, ей обвязывают шею платком, а тело веревкой, поднимают сорочку, ведут длинную беседу, наносят тяжкие удары, а она молчит! В течение долгой, хладнокровно наблюдаемой и так обстоятельно теперь ею описанной сцены, когда покушались на ее девственность, ругались над ее честью, самую жизнь ее ставили на карту, она не крикнула ни разу! Ни единого звука!?
Меня останавливает еще вопрос. Зачем эти мелочи, к чему затруднять себя самого и бесцельно увеличивать опасность? Платок, например, детский платок, будто бы принесенный злодеем? К чему он? Зажать рот? Нет, он не служит ни к чему. Веревка, проведенная вокруг талии, связывает ли и обессиливает ли руки? Вовсе нет! Сдергивают кофту; как, путем скольких усилий, с какой целью рвут ее? Я спрашиваю и не вижу никого, кто бы мог дать ответ. А мисс Аллен! Пожалуйста, обратите внимание, – мисс Аллен, эта воспитательница, верный страж юной, насилуемой девушки, что делает она? Мисс Аллен?
Она спит. Что? Звон разбитого стекла, треск быстро открываемого окна, скрип двери, говор, страшная борьба, отчаянные усилия с обеих сторон… Как? Ничто, ничто не будит ее… Что? Весь этот грохот, гулко раздающийся во мраке ночной тишины, стук вырываемого и отбрасываемого стула, голос злобы, все более и более увлекающийся и все громче звучащий, – нет, она не слышит ничего… Легкая преграда притворенной, а сначала даже открытой двери, столь жалкое препятствие заглушает весь шум на этом узком пространстве, совсем уничтожает его. Мисс Аллен остается глухой. Спит крепко… Она спит, говорю я вам!
Только когда уже все кончено, удары ножом нанесены, а оконное стекло покрыто кровью, только в этот момент гувернантка просыпается. Ей послышались слова Марии, которая, отбиваясь от убийцы, говорила по-английски: «Елена! Идите ко мне на помощь». Аллен является. Но почему же она не кричит? Вот она у дверей, оказывающихся притворенными, ее зовут на помощь, слышны голоса двоих. О, ведь, это уже не волнение девушки, испуганной сновидением; там убийца, вампир, сосущий кровь, злодей, пожирающий ее честь и жизнь! А вы, ее друг, хранитель ее, человек, которому ее доверили, – и вы не кричите. Преступление совершается чуть не на ваших глазах, а вы отмалчиваетесь! Не верю я вам, мисс Аллен. Будь у вас охота спасти юную подругу, о, неудержимый инстинкт увлек бы вас. Невольный, раздирающий крик раздался бы по всему дому. Еще раз, нет, мисс Аллен, вы не заслуживаете доверия, а события не могли происходить, как вы рассказываете.
Но вот дверь открыта! Она уступает «первому толчку», мисс Аллен входит… Где же убийца? Он исчез, малейшие следы пропали… Как! В столь короткое время?! Однако, если верить Марии Морель, преступник, услышав стук в дверь, «поддавшуюся от первого усилия», видя себя настигнутым, обнаруженным, подымается и вместо немедленного бегства говорит: «Ну, теперь останется довольна!». Затем, порывшись в кармане шинели, достает письмо, кладет его на комод и лишь тогда уходит через окно. Ведь ему предстояло поймать веревочную лестницу, ухватиться и, вновь доверившись ей, сойти на землю; а тем не менее, в момент, когда бросилась к барышне ее гувернантка, не оставалось уже ничего; все исчезло быстрее, чем на сцене, по свистку механика! Одна Мария лежит на полу с платком и веревкой, которые не стесняют, однако, ни шеи, ни рук.
Есть между вами, господа присяжные, отцы семейств, люди, обожающие своих детей, – радость жизни, свое собственное будущее; вы их любите, одним словом, как мы все любим свою семью… О, господи, боже мой, какой ужас отчаяния! О, если бы ваша дочь была… Не могу подыскать выражений! Если бы нашли вы ее опозоренной, униженной, истерзанной, нравственно убитой; не правда ли, из ее замирающей груди, из глубины сердца скорее даже, чем из ее уст, вырвался бы стон наболевшей души: «Матушка! Родимая, где ты? Приди ко мне, я хочу тебя видеть!».
Увы, совсем не так ведет себя Мария Морель, в момент опасности она и не подумала молить родителей о помощи; теперь, когда, запятнав ее позором, горе свершилось, она опять не ищет утешения на груди матери. Она ложится в постель и остается здесь в течение нескольких часов; по ее словам, ей не хотелось нарушать сон родных… Наконец, – шесть часов утра. Прекрасно, мисс Аллен идет, конечно, предупредить госпожу Морель, а та – прибегает испуганная и кидается в объятия дочери? Нет, вовсе нет! Что вы говорите? В шесть часов, когда Аллен ушла, Мария встает, одевается и садится к окну поглазеть, что делается на улице. Не может быть! Как, девушка, только что опозоренная, побитая, тяжко израненная? Да, да. Она встает, одевается, смотрит в окно и кого же видит, кто мог бы поверить? Там, на мосту, в свою очередь, глядит на нее ла Ронсьер, улыбаясь дьявольски. Имел важные причины скрываться, приняв такие предосторожности, ловко обеспечив себе алиби, столь непостижимо изгладив всякие следы, ла Ронсьер, и никто другой, храбро дежурит под ее окнами, как бы хвастаясь злодеянием, вновь оскорбляя жертву и доводя до последнего ожесточения месть отцу.
Вы помните, далее, что в Сомюре это было время веселья и празднеств, смотры генерала продолжаются, идет речь о 28 сентября. У барышни все руки исцарапаны, а грудь покрыта синяками; кровь еще сочится из ужасных, долго не заживавших ран и, как говорят «очевидцы», «заливает» комнату. Что же видим мы? Вот кто-то наряжается, надевает бальное платье… Хотели, уверяют нас, сберечь тайну ночи 24 сентября, и с этой целью решено было вывезти барышню в свет. Нет, наоборот, пускай она туда не показывается; пусть, напротив, никто ее не видит и не будет иметь возможности разгадать ее секрета по лицу и состоянию духа… Спрячьте ее бледность, слезы, обмороки, ужасы; закройте, а не раскрывайте бальным платьем ее руки и грудь или, по меньшей мере, избавьте ее от участия в карусели утром, если уже находите полезным тащить ее во что бы то ни стало на бал вечером. Не насилуйте ее, сударыня! Для вашей умирающей дочери слишком много двух праздников в один день!
Но, говорят, баронесса Морель не знала о ранах дочери. Она не знала? Нет, это немыслимо. Ведь кровь, утверждаете вы, лилась на пол комнаты; ее нельзя было не заметить. Откуда же взялась она? Неужели позабыли вы спросить! Наконец, в упомянутый роковой день были получены еще три письма, и письма эти сказали вам: «Попытка мне удалась… Мне хотелось ее чести и крови – я достиг всего!».
Пойдите же, расспросите свою несчастную дочь, Допросите ее! Какие муки суждено было выстрадать вам! Что с тобой, дитя мое? Что значат эти потоки крови! Скажи, не скрывай от родной матери! Бегите же, сударыня, бегите; ее печаль и стыд ответят вам, а стало быть, увидите вы – кто дерзнет сомневаться – эти страшные порезы и раны, быть может, смертельные! «Но, – повторяет госпожа Морель, – я щадила ее невинность и девственность, ее шестнадцать лет». Невинность подверглась оскорблению, а девственность? – кому же, как не матери, надлежало убедиться, пережила ли она посягательство?
Несчастная мать! Дело идет уже не о синяках и побоях, и не о разлитой крови; вопрос касается насилия, еще более кровавого. Когда вам пишут, что у дочери отняли ее честь и что, может быть, она уже носит под сердцем плод злодейства, не вам ли надо знать все? А если так, чего же вы ждете, какие невероятные затруднения останавливают вас?
Все новые и новые угрозы появляются каждый день. Теперь знают уже, что, вопреки всем препятствиям, это исчадие ада найдет средства к достижению цели; знают, что, по изумительной наглости, через неуловимых сообщников и неведомыми путями, он проник в комнату; уведите Марию из этой проклятой конуры, избавьте ее от зрелища потоков ее собственной крови. Возьмите свое дитя и, хоть в настоящую минуту, укройте ее своими крылышками… О, слишком долго не делалось ничего подобного. Барышня по-прежнему остается наверху и если перешла в комнату Аллен, то ложится спать поблизости от рокового окна.
Между тем 1 января, то есть больше чем три месяца спустя, идут, по распоряжению судебной власти, удостовериться в существовании ран у Марии Морель.