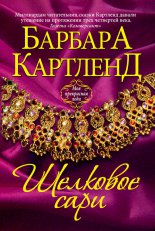Дезертиры с Острова Сокровищ Секацкий Александр

Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы «Амфора» осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»
©Секацкий А., 2006
©Оформление. ЗАОТИД «Амфора», 2006
Часть первая
Аборигены и робинзоны
Глава первая
Отряды Бланка
Никто и не думает, что Бланк первым бросил вызов всевластию вещей. Будда, Диоген, Сократ – нестяжатели всех времен и народов, не так уж и мало было их в истории человечества. Сам полигон истории, на котором прошли испытания многие тысячи глупостей и безумств, время от времени становился пробной площадкой для обкатки практик далекого будущего. Они, эти практики, впоследствии органично вплетались в социальную и психологическую ткань человеческого присутствия в мире, но в момент первого предъявления казались порождением абсурда – собственно, они и были абсурдом по отношению к их актуальному настоящему. Ведь подлинный смысл опережающих свое время практик требовал синтеза целой суммы обстоятельств, которых современники не могли даже представить. Условия производства будущего не изменились: иногда успех зависит от идеологического и теоретического оснащения практикующих, хотя у практик, избираемых будущим, далеко не всегда бывают лучшие прижизненные теоретики. Чаще духовный лидер уже свершившегося «будущего» дает ретроспективную санкцию преступным или бессмысленным течениям прошлого – так Фрейд вольно или невольно реабилитировал либертенов де Сада, дав отмашку их философскому оправданию.
Но еще чаще повторение в новых условиях или, лучше сказать, возобновление в более подходящее, благосклонное время отвергнутого в прошлом опыта решительно меняет знаки на противоположные и расставляет точки над «i». Вот, казалось бы, заведомые аутсайдеры, двоечники, не усвоившие уроков истории, принимаются за прежнее (вновь принимаются за свое) – и результат оказывается ошеломляющим. Как у старика из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке»: «В третий раз закинул он невод…» И попалась золотая рыбка, а то все невод приходил с одною тиной да с травою морскою…
Идеи Бланка как будто выловлены неводом из разрозненного опыта человечества. Сам собой выстроился ряд исторических предшественников, от Чжуан-цзы и уже упоминавшегося Диогена до безвестных участников движения хиппи. Выявилось и решающее отличие новых нестяжателей от большинства прежних непримиримых критиков вещизма. Те были аскетами в традиционном смысле слова, пытавшимися своими аскетическими уловками перехитрить мир. И главная уловка была, в сущности, проста: предлагался надежный способ избежать грядущих неприятностей. Ведь каждый человек может впасть в нужду и запросто лишиться своего драгоценного имущества. Но если заранее, добровольно лишить себя всего, неприятности пройдут незамеченными: в каком-то сравнительном смысле они могут даже дать повод для злорадства. Для Бланка дело изначально обстояло совсем не так: избавление от гнета вещей отнюдь не рассматривалось как возможность позлорадствовать, сравнивая свое предусмотрительно избранное плохое с постигшим остальных очень плохим. Радость ухода от всеобщей потребительской озабоченности была вполне самодостаточной.
Или взять нищенствующих монахов Средневековья, проповедовавших нестяжание. Внешне они во многом походили на сегодняшние коммуны бланкистов – например, умелым избеганием расставленных повсюду ловушек производительного труда. Но внутренняя установка у большинства из них была иная. Они выбирали страдания, рассчитывая на последующую награду, порой даже имеющую виртуальный потребительский эквивалент (райские кущи и прилагающиеся к ним аксессуары). Но даже если такой эквивалент отсутствовал и выбор был именно выбором, а не простым следствием беспросветной нужды, он все же влек за собой тяготы, которые и воспринимались как тяготы, в духе крестного пути. Бланк и его сподвижники – Гелиос, Колесо, Федр – открыли и донесли до своих последователей непосредственную радость активного нестяжания. Одна из причин, возможно, состояла в том, что ХХ век сделал слишком явными тяготы обладания, потребительская корзина стала такой тяжелой, что для ее перетаскивания требовалось уже напряжение всех сил или, лучше сказать, всех способностей, включая способность воображения.
Хиппи, ближайшие предшественники новых нестяжателей, были знакомы с пьянящей радостью необладания – не-обладания ничем отягощающим в этом мире. Эти длинноволосые парни и девушки знали, что обладание имуществом есть форма подачки со стороны мира, подачки тому, кем обладают. Хиппи избавлялись от имущества не ради чего-то иного, компенсирующего, не ради, например, нетленного имущества, которое можно заработать, работая нестяжателем от звонка до звонка и в поте лица своего пополняя персональный загробный счет, – они расставались с вещами легко и во имя самой легкости. Расставание приводило к обретению, а не к лишенности. Примерно это и имел в виду Бланк, когда говорил, что «легкость содержательнее тяжести». Лишение имущества воспринимается как потеря, и полностью избавиться от этого чувства не удалось никому. Однако потеря эта весьма относительная. Если сохранять бытие-для-себя, не оставляя отпечатков своего «я» на том, чего ты лишаешься, то избавление от груза имущества напоминает скорее катарсис, сброс паразитарного напряжения, опробованный еще греческой трагедией. Лишиться чего-то дорогого значит понести утрату. Но следует проявлять зоркость и внимательность в оценках. Случается ведь иногда лишиться своих болячек, навязчивых симптомов; лишаться груза и навязчивого внимания тех, кто тебя грузит, – разве это не значит обрести содержательность более высокого рода, значительно превосходящую содержимое потребительской корзины?
Как выражается Парящая-над-Землей, «отказавшись от имущества, получаешь преимущество». Ничто больше не удерживает тебя на постылом месте, ты открыт всем ветрам иногдаслучаемости. Пре-имущество дает возможность обрести бытие-для-себя там, где носильщики имущества, согнувшиеся под тяжестью груза, изо всех сил отрабатывают бытие-для-другого. Роковое равенство, лишающее нас пре-имуществ, состоит в смиренном согласии обзаводиться «самовозрастающим скарбом», подчиняясь ранговому распределению, где распределенные равны во всем прочем, кроме занимаемого ранга (имущественного ценза). Бланкисты не участвуют в тяжбе накопления, сохраняя тем самым свое преимущество.
Позитивно-радостный опыт необладания, который хиппи предъявили миру и самим себе, вновь предъявлен к проживанию отрядами Бланка и другими коммунами нестяжателей. Но практика бланкистов включает в себя и долю воинственности, можно сказать, высокой мобилизованности духа – и наоборот, исключает анемичность, свойственную эскапистам 60–70-х годов прошлого века. Ведь вызов, брошенный витринам и рекламным приманкам, всем пьедесталам желанных вещей, не остается без ответа. Его принимают уполномоченные производственного истеблишмента, операторы овеществления – и, принимая вызов, они принимают меры. Ситуация, когда нуждающиеся преследуют тех, кому ничего не нужно, на первый взгляд удивительна, но в то же время, судя по ее исторической укорененности, вполне закономерна. Так, князья Римско-католической церкви высказывали в свое время куда большее раздражение по отношению к нищенствующим монахам, чем по отношению к другим прелатам, состязающимся в стяжании. Ибо преимущество легких на подъем бродяг способно обесценить имущество целого сословия.
Наконец, нельзя не упомянуть и о японских макаси, «городских хулиганах», добровольных обитателях индустриальных джунглей, пришедших туда еще раньше бланкистов. Они и по сей день сохраняют самые лучшие отношения с отрядами Бланка; многие нестяжательские племена благодарны им за оказанную помощь, ведь макаси были среди первых инструкторов и сталкеров, проявивших заботу о дезертирах с Острова Сокровищ.
И макаси, и бланкисты, и шанхайские усяо, и нью-йоркские «пи-эм» («проблеммейкеры») – все они дети Мегаполиса. В то же время по своему жизненному укладу они напоминают примитивные племена, как их описывали этнографы XIX века: со своими обычаями, обеспечивающими адаптацию к среде обитания, с собственными обрядами, включая и обряд инициации, принятый у некоторых общин, с постепенно складывающейся мифологией, лишь незначительная часть которой опирается на письменные источники. Но главное – это безусловная подлинность существования, отличающая и бланкистов, и других нестяжателей от абсолютного большинства подданных мегаполисов, живущих искусственной жизнью в синтетическом пространстве. Мы имеем дело с чудом вторично обретенной подлинности, причем обретенной как раз там, где должны были скопиться самые токсичные отходы цивилизации, где сам человеческий материал больше напоминал осадки на коралловых рифах вещей.
Вторично обретенная подлинность и новая культура были созданы пролетариатом урбанистических джунглей, не слишком-то похожим на класс, описанный Марксом. Разумеется, в этот расплав влились и обездоленные в прежнем смысле слова – бомжи, клошары, гастарбайтеры и подобные им аутсайдеры социума, но отнюдь не они составили костяк новой альтернативной социальности. Маркс в свое время говорил о привнесении классового самосознания в рабочее движение извне; в данном случае извне пришла и большая часть участников самого движения. Они просто воспользовались для поселения экологической нишей бомжей-автохтонов, предварительно преобразовав и расширив ее до уровня малой родины. Главное же отличие состояло в том, что отнюдь не отсутствие средств к существованию привело абсолютное большинство нестяжателей в джунгли мегаполисов. «Дезертирство» было осознанным и добровольным, причиной же его стал протест против порабощенности имуществом, против диктатуры потребления, постепенно потребляющей и человеческое в человеке. Вот что по этому поводу говорит[1] сам Бланк.
БЛАНК. Если у тебя есть какая-то вещь, которая тебе понадобится сегодня или уже нужна сейчас, это одно дело – она у тебя просто есть. Правда, воссоединение с ней может потребовать некоторого труда – это труд просьбы, поиска или замены. То есть наш авантюрный труд в противоположность гнетущему труду графиков и расписаний – но о нем поговорим в другой раз.
Сейчас я толкую о вещах, которые не нужны тебе сегодня и вряд ли будут нужны завтра. А может быть, не понадобятся вообще. Это ими ты порабощен. Вот, например, побрякушка, которая пока еще только в витрине. Ты без нее обходишься, обходился бы и дальше, если бы на каждом шагу тебя ею не дразнили: то в витрине покажут, то в телевизоре, а то и сосед похвастается… На каждого, в принципе, найдется своя погремушка: кому-то новенький мерс, кому шуба с хвостами, кому мобильник с крылышками. Кому и соковыжималка… И вот жизнь твоя начинает принадлежать этой вещи. Я бы сказал даже, начинает приобретать ее форму. Может, на неделю, может, на месяц, а может, и поболее. Помните сказку Джанни Родари про домик Тыквы? Кум Тыква строил его всю жизнь по кирпичику…
РЕПЛИКА. Вот он и был пролетарием, Бланк. Это сказка о пролетариате. Если разобраться, мы ведь такие же Тыквы, разве нет?
БЛАНК. Что ж, давайте разберемся с Тыквой. Это, скажу я вам, был настоящий овощ. Он думал, что порабощен синьором Помидором и прочими авокадами, у которых больше имущества. То есть Тыква считал, что его главная беда в нехватке имущества, – овощам свойственно так думать. Но как раз имущество и порабощает, не важно, есть оно у тебя или нет. Чем больше у тебя имущества или чем больше тебе его не хватает (а это практически одно и то же), тем сильнее ты порабощен.
Ведь где-то и как-то кум Тыква жил, грелся на солнышке, с соседями разговаривал и с первыми встречными. Возможно, он был бы даже счастлив, если бы не думал о своих будущих хоромах. Но проклятый домик стал ловушкой, ядом, отравившим всю его жизнь. Благодаря этой коварной ловушке Тыква жил тем, чего у него нет, а не тем, что у него есть.
ЕВА КУКИШ. Бланк, мне с самого детства было так жаль Тыкву, что у него нет даже домика… Он, бедняга, о домике только и мечтал, собирал по кирпичику…
БЛАНК. Так вот. Настоящее угнетение состоит не в лишении средств к существованию, а в лишении средств к воображению. Тебя заставляют тратить драгоценную силу воображения на сборку детского конструктора из кубиков: сначала домик по кирпичику, потом автомобиль по винтику, потом карьера по ступенькам, а в промежутках – любовь по подачкам и свобода урывками. Допустим, очередной овощ замечает, что любовь, дружба или свобода не складываются на манер детского конструктора. Что ж, тогда он переключается на то, что поддается поэтапной сборке, благо что в этом деле нет порога насыщения. Построил домик – строй яхту, яхту построил – строй деловую репутацию: всегда найдется, чем заняться. Стоит, наверное, пожалеть кума Тыкву, но надо правильно жалеть. Пролетариат победит, когда вооружится правильной формой сострадания. А экспроприация жлобов увенчается успехом, если начнется с собственного имущества. Настоящая экспроприация – это не перераспределение дефицитных благ, а свержение их диктаторской власти, выход из-под ига вещей.
Любопытно, что теоретики и критики общества потребления всегда мирно уживались друг с другом. Пожалуй, теоретикам платили даже больше. Впрочем, прямых апологетов вещизма среди теоретиков и философов не попадалось вообще – это сейчас они появились в некотором количестве (как раз потому, что оболочка всеобщей буржуазности впервые дала трещину). Реальными дистрибьюторами имущественной жажды были рекламные агенты, но и они могли нормально справляться со своей работой, только если обладали изрядной долей цинизма. Остатки могучей протестантской этики, описанной некогда Максом Вебером, в ХХ веке окончательно испарились, однако и под сенью философской критики стяжание уверенно оставалось господствующим мотивом, как и потребление порнографии под сенью морализаторства. Бланкисты во главе с самим Бланком внесли новое не в теоретическое изобличение вещизма (а что нового внес Иисус в теорию искупления?) – притягательность принципов Бланка вызвана самозабвенностью жизни в соответствии с этими принципами.
Взять хотя бы знаменитый принцип «бытия перпендикулярно ходу вещей», или, как сейчас его называют, бытия-поперек. Когда художник Колесо, друг и сподвижник Бланка, ввел обыкновение не пользоваться дверью, навещая знакомых и входя в собственное жилье, он вовсе не искал оригинальности ради оригинальности. Забираясь по веревочной лестнице в окно, ты, конечно же, подвергаешься повышенной опасности, но едва ли эта опасность превышает ту, что поджидает тебя за рулем автомобиля. Мы, однако, принимаем эту опасность как должное, да еще и покупаем билеты на самолет, не спешим отказываться от сигарет и алкоголя. Бытие в опасности подобает человеку, оно позволяет сохранить подлинность надежнее самых умных книг.
Стало быть, неудобства веревочной лестницы (а то и простой веревки с узлами) еще не повод для того, чтобы маниакально входить и выходить через дверь. Бездумный потребитель извлекает из приобретаемых вещей только стереотипные кванты полезности, не подозревая, что в них может содержаться и нечто более интересное, иногда даже вход в один из параллельных возможных миров. Чтобы этот параллельный мир открылся, бытие в прежнем, истоптанном мире должно быть выстроено перпендикулярно.
Вот и веревочная лестница открывает красоту вертикальных пейзажей, целую палитру оттенков недоумения случайных прохожих и обитателей других окон (сейчас, правда, недоумение притупилось), да и встреча в результате оказывается более радостной и насыщенной. «Случайные посетители попадают к нам преимущественно через дверь, – говорит Колесо, – но тот, кто тебя действительно хочет видеть, не остановится перед маленькими трудностями бытия-поперек».
Если выход из дома так или иначе продиктован имущественной проблемой – желанием нечто приобрести или страхом чего-то лишиться, тогда путь неизбежно пролегает по протоптанным доожкам. А город в своей реальности попросту исчезает из виду.
Кажется, что нет ничего более очевидного и даже навязчивого, чем реальность города; давление этой реальности таково, что к вечеру большинство горожан напоминают выжатые лимоны, и лишь сон, оранжерея свежих порослей времени, воспроизводит к утру очередную порцию исходного материала для гигантской Соковыжималки. В своей ежедневной данности город состоит из площадей, улиц, движущихся и неподвижных препятствий – его пространство осязаемо на уровне пресловутого чувства локтя. Будничность, скученность, теснота, озабоченность преобладают в самовосприятии современного Города, оттесняя на задний план и «градостроительную концепцию», и исторические образы. Город есть прежде всего территория, где проходит суетная жизнь смертных; чтобы представить его в ином качестве, необходима уже дистанция. Дистанция праздности, длительной или мимолетной отвлеченности от повседневных дел.
Следует отметить, что однородная функциональность городской среды является результатом активного забвения, следствием ежедневно возобновляемого усилия. Социум заинтересован, хотя бы во имя производящей экономики и прозрачной политики, в глубоком внедрении иллюзии рационального и однородного городского пространства. В результате нам кажется, что все здания равноправны подобно физическим объектам, все направления равнодоступны, и при необходимости мы можем посетить любое «присутствие», мимо которого сейчас проходим. На деле абсолютное большинство «интерьеров» и даже направлений закрыто для нас. Да, каждый дом имеет свое внутреннее, но нас там не ждут. И каждый маршрут имеет неограниченное множество смыслов, однако они нам неведомы, они еще более далеки от нас, чем множество «иных возможных миров» Лейбница.
Фактически наши повседневные маршруты разворачиваются в одной или в нескольких плоскостях, они принудительны, как траектории электронов, вращающихся вокруг атомного ядра. Иногда столкновения «элементарных частиц» выбивают электрон с орбиты, и тогда мы устремляемся по цепочке приключений и непредсказуемых трансформаций, гораздо больше напоминающих мир Кафки, чем Александра Дюма. В таких случаях порой можно обнаружить и город мертвых, и город отвергнутых, город абсолютно незнакомых или неузнаваемых улиц, даже если на одной из них находится (только вчера находился) наш собственный дом и плоскость привычных перемещений. Чтобы почувствовать привкус этой грозной мистики Мегаполиса, не обязательно спускаться в подземелье или выходить на крышу – достаточно сбиться с маршрута, слишком радикально уклониться в чужие присутствия.
Такова истинная многомерность города, а не иллюзорная трехмерность его служебной среды, тонкой поверхности повседневного наваждения. Понятно, что без сталкера, без надежного проводника немногие решатся на отклонение от стандартных траекторий. Если жизнь не выбьет из колеи, элементарные частицы упорядоченными потоками пронизывают незнакомые города по туристической плоскости, а свои собственные – по стационарным орбитам.
Но есть еще город, в котором живу лично я. Случайным образом он называется точно так же, как и тот, в котором живут мои соседи, однако это другой город. Он состоит из открытых для меня (иногда только для меня) присутствий, куда никто не сможет попасть без моей визы, а если даже случайно и попадет, все равно ничего не обнаружит. Персональный Петербург, персональная Москва или Прага принципиально недоступны первому встречному, ибо их видимая часть это даже не верхушка айсберга, а абстрактная схема, не поддающаяся расшифровке без кода личного доступа. Персональный город принадлежит внутреннему миру, его тщательно охраняемой сокровищнице. Как все сокровенное, он имеет и глубокий эротический смысл.
Вот влюбленный объясняется в любви своей возлюбленной. Он предлагает разделить (и объединить) лучшее, что у него есть: любимую музыку, книги, интеллектуальные и духовные предпочтения, воспоминания и впечатления детства. Наконец он произносит: «Хочешь, я подарю тебе свой город?» – и его избранница, даже если она живет в соседнем доме, будет потрясена роскошностью и неожиданностью подарка; ее непременно ждет сюрприз, если мы вообще что-то называем сюрпризом. Подарка хватит надолго, может быть, на всю любовь (это как раз зависит от богатства внутренних миров и дарителя, и того, кому дар адресован). Уклонение от траектории будет уже не цепочкой кошмаров, а сказкой странствий, как тысяча и одна ночь, спроецированная из смутного воображения в гиперреальность.
Именно нестяжатели живут в городе по-настоящему, с той же мерой подлинности, с какой жили апачи в прериях и эскимосы в тундре. Для них город разворачивает множество своих измерений. Рэй Нилли, поэт, программист и лидер нестяжателей Гибралтара, для описания ситуации прибегает к компьютерной метафоре. В его терминологии Мегаполис – это компакт-диск, намагниченный притяжением вещей-приманок. Благодаря этому в нем помещаются миллионы пользователей и пользоносителей, но помещаются лишь потому, что они свернуты, сжаты в стандартной форме. По отношению к «новым стандартным индивидам» диск заполнен, его файловая система содержит ограниченное количество имен – вот и приходится ждать, когда освободится одна из позиций. Но для объектов, не являющихся стандартными пользоносителями, которые в силу этого неопределимы для Читающего Устройства, всегда остается более чем достаточно места в межфайловой неформатированной среде. Компакт-диск Мегаполиса открыт для практикующих перпендикулярное бытие; более того, в этой «директории» он практически безлюден.
Превратности стандартизации, без которых немыслимо общество потребления, достаточно подробно исследованы философами. Вспомним хотя бы знаменитую «Диалектику Просвещения» Адорно и Хоркхаймера: «Стандарты якобы изначально установлены в соответствии с потребностями потребителей и потому принимаются почти без сопротивления. Но не все так просто, на самом деле имеет место замкнутый круг или затягивающаяся петля: ответная реакция потребителей провоцируется манипуляциями с неопределенными естественными запросами. Тем самым единство системы становится все более плотным, она включает в себя в том числе и изделия культуриндустрии, сделанные по образу и подобию прочих товаров. Самим потребителям уже более не нужно классифицировать ничего из того, что оказывается предвосхищенным схематизмом производства».
Потребительский схематизм воплощен и в городских маршрутах, и в разметке самого Времени Циферблатов. Это стандартное, отформатированное время графиков и расписаний, ему беспрекословно подчиняются стандартные индивиды, но сторонники бытия поперек, как правило, вообще не обращают на него внимания. Им абсолютно чужда всеобщая экономия времени. Нестяжатели знают, что кратчайший путь к успеху, в соответствии с которым и устроена идеальная разметка городов, это путь неоправданных лишений. Следующий этим путем лишается свежести впечатлений, многомерность мира безвозвратно пропадает для него, сменяясь декорациями, где бутафорские интерьеры и реквизиты неизменно повернуты к субъекту лишь одной, имущественной стороной. Стало быть, этот путь лишений – результат добровольно-принудительного имущественного рабства. Он предназначен для того, чтобы вместить максимальное количество индивидов в дисциплинарные рамки цивилизации.
Бланк, в миру Даниил Пленицкий, родился в семье военнослужащих. По каким-то необъяснимым причинам он закончил географический факультет Петербургского университета и стал геологом. Участвовал в экспедициях, которые к тому времени были уже не в моде, – таежный костер, рыбалка на Ангаре, туманы-рассветы и прочие аксессуары стали тогда обычными, даже скорее досадными обстоятельствами работы, утратив вкус приманки, способной вызвать специфический трепет души. Два сезона Бланк провел в Антарктиде, что коренным образом изменило его дальнейшую жизнь: именно в Антарктиде родилась идея мимигатора – прибора, оказавшего заметное влияние на постиндустриальную цивилизацию в целом. К этой странице его биографии мы еще вернемся.
Здесь, на удаленной от всего мира антарктической станции, среди вечных льдов и ландшафтов, не менявшихся миллионы лет, Даниил понял, что человеческая подлинность, так сказать естественное первородство человеческого существа, отнюдь не привязано к каким-то определенным декорациям, будь то джунгли Амазонии, австралийские пустыни, степи и предгорья Монголии или тундра Чукотки. Конечно, в свое время именно там любознательные этнографы заставали незатронутых цивилизацией аборигенов. Но, увы, эти встречи не прошли безнаказанно для детей природы, превратив их в собственные живые чучела. Зато, с другой стороны, в городах, прежде всего в мегаполисах, образовались вторичные урбанистические джунгли, где обитают дикари сегодняшнего дня. Их ряды все время пополняются, и есть основания полагать, что новая антропогенная революция не за горами.
Кто мог тогда предположить, что Бланк будет иметь к этой революции самое непосредственное отношение? Время, однако, выбрало своего героя, соучастника нового замеса социальности похожего на пахтание первичного Океаноса грандиозной мутовкой Брахмы. Прежде всего нужно, чтобы все смешалось, потом неослабевающее усилие отделит твердь от мути.
Следует иметь в виду, что самозарождение жизни, так же как и самозарождение социальности, это отнюдь не одноразовые акции, а постоянно идущие процессы. Просто устойчивые, доминирующие формы легко заглушают робкие побеги претендентов на бытие. Однажды выбранная реализованная альтернатива имеет огромные преимущества перед иными версиями сущего и происходящего. Даже если потенциально другие возможные миры способны справиться с вызовами, явно непосильными для существующих биологических или социальных структур и сообществ, сама инерция существования, само счастье реализованности позволяют заглушать пробные версии нового бытия, даже не замечая этого. Знаменитый «левосторонний поворот» всех органических молекул в принципе ничем не лучше потенциально равнозначного правостороннего поворота, но он однажды свершился, и с тех пор все живое строится из левосторонних молекул.
И тем не менее спонтанное самозарождение всегда существует как неустранимый фоновый процесс. Когда реализованные, устоявшиеся формы накапливают солидный стаж существования, их обязательно разъедает коррупция в самом широком смысле этого слова. Латинский термин corruptio указывает на неизбежный износ любого идеала или прекрасного замысла в процессе его «эксплуатации» – таков, можно сказать, удел всякого овеществления. Удаленность от исторической сцены или неразборчивость рабочего сценария в связи с его прогрессирующей «затертостью» дают шанс реализации для новых версий социальности.
Все эти условия совпали к концу ХХ столетия, породив новые антропогенные площадки в крупнейших центрах урбанистической цивилизации. В самых разных местах начался пробный синтез бесконечно откладываемого будущего.
Стартовав из многих точек сразу, синтез шел на встречных курсах; расширенное воспроизводство пробных нестяжательских практик продолжается и сегодня. Так, например, еще к концу прошлого столетия относится широкое распространение фанфика (от англ. fan fiction) – дописывание бестселлеров их анонимными поклонниками. Довольно скоро эта альтернативная мифологизация достигла уровня, сопоставимого по своему накалу с религиозным творчеством в Палестине во времена зарождения христианства. Новые мифы фанфика, при всей их призрачности, кажущейся несерьезности и легковесности, инициировали процесс вторичного тотемизма, ведущий к новой идентификации племен. Как некогда люди Ворона, Койота, Попугая или Крокодила обретали гарантии единства и сплоченности в своем тотеме, так и теперь люди Фродо, Нео, Дракулы, джедаи, хоббиты и суперанималы активно использовали инструмент круговой взаимоидентификации, добиваясь, чтобы их не спутали с кем-то другим. Облако химерных идентификаций спустилось на большие города подобно туману, смазав контуры привычных отождествлений и внеся помехи во встроенные системы распознавания «свой – чужой». Сгустившийся туман, безусловно, способствовал многочисленным «обознатушкам», и игра в прятки довольно быстро перешагнула порог детской забавы – вступившему в жизнь поколению стало ясно, что совсем не обязательно автоматически становиться австралийцами, шведами или венграми: избранный тотем мог обеспечить меру признанности, достаточную для человеческого существа.
В преддверии новой антропогенной революции распространились и другие летучие формы социальности, например flash mob. «Мгновенная», или «молниеносная», толпа стала идеальной площадкой для социального творчества, формированием удивительно сплоченного «единства по случаю», о котором великие проповедники прошлого не могли даже и мечтать. Главная особенность молниеносной сборки ситуативного социального тела состоит в преимуществе повода над причиной. Срабатывает встроенный датчик случайных чисел, источник человеческой свободы, и на мгновение размыкается круг рутинной причинности. С точки зрения основных мотивов, которыми управляются господствующие структуры социальности, акции flash mob необъяснимы. Именно это сделало со временем flash-mobилизацию важнейшей стратегией нестяжательских племен. Впрочем, с самого начала лучшие, наиболее эффектные акции flash mob не имели отношения к «большим социальным темам».
Шествие по Берлину десятков тысяч молодых людей в одежде с оторванным левым рукавом произвело ошеломляющее впечатление. Никаких социально-протестных причин оторвать левый рукав не было – что и подчеркивали с искренней радостью все участники этой грандиозной flash-mobилизации. Недоумевающие зеваки то и дело спрашивали: «Что вы хотите этим сказать?» – и вопросы такого рода встречались лишь раскатами смеха.
«Мы ничего специального не хотим вам сказать, мы просто дружно оторвали левый рукав, все до единого», – нечто подобное можно было услышать в ответ. Подразумевалось, что «как раз в этом и состоит наша сила, в этом источник неподдельного энтузиазма».
И действительно, сила была именно в этом. Рациональность политического действия, вроде бы выражающего интересы классов, партий и групп, давно уже осталась в прошлом, текущая политика воспроизводила лишь вялую, фальшивую игру. Любая инициатива, любой жест, проходя сквозь политическое измерение, неумолимо утрачивали свою подлинность, безотносительно к имеющемуся содержанию и уж тем более безотносительно к субъективным благим намерениям. В конце концов в постиндустриальном обществе сформировался авангард, обладающий иммунитетом ко всяким проявлениям политической активности вообще. И особенность этого авангарда была в том, что он отнюдь не состоял из сирых, убогих и обездоленных – он в принципе мог бы претендовать на роль политической элиты. Но выбрал иную участь.
Рукав, оторванный просто так, во имя красоты жеста, чистой радости ради, был воплощением первозданности творчества. Данный жест не обслуживал сферу чьих-то интересов, он являлся коллективным резонатором социального тела, только что рожденного в этом резонансе. Тело могло легко распадаться на атомы в тот самый момент, как только оно само себе наскучит. Никаких закрепляющих институций не предполагалось, flash mob оказался реактором чистой, неподдельной, хотя и кратковременной социальной активности, скорее даже именно вспышкой в точном соответствии с английским словом «flash». Поначалу, разумеется, политический истеблишмент попытался использовать энергию мгновенного социального синтеза в своих интересах, и казалось, что первые попытки увенчались успехом. В начале XXI столетия по Восточной Европе и Центральной Азии прокатилась волна «флэшеподобных» революций, начавшаяся с Грузии и Украины. Подавляющее большинство собиравшихся где-нибудь на центральной столичной площади людей не имело представления о политической подкладке происходящего: всем вместе размахивать розами, жонглировать апельсинами или «украшать» опостылевшие государственные символы ореховыми скорлупками – это само по себе было здорово. Приятно было получить при этом и какой-нибудь (не столь важно какой) политический результат, поскольку он являлся производной от персонального праздника – безнаказанность играла тут далеко не последнюю роль.
Но хитрые инициаторы недолго радовались своей уловке – в итоге, как это часто бывает в истории, набравшая мощь стихия обернулась против них самих. Ибо, во-первых, растерянность политических элит в «молодых» государствах скоро прошла, а во-вторых, уже следующий могучий вал flash-mobилизаций накрыл оплоты учителей демократии – на этот раз удар был направлен против политики как таковой, против ее преувеличенной серьезности. И выяснилось, что изношенные политические инфраструктуры ничего не могут противопоставить азарту и натиску новых исторических сил. Достаточно вспомнить великолепный перформанс, организованный посредством flash-mobилизации несколько лет назад. Тогда собиравшиеся по всей Скандинавии группы веселых жизнерадостных людей каждые два часа в течение десяти минут подпрыгивали на месте. Акция продолжалась всего один день – но она потрясла население этих стран, потрясла в прямом и в переносном смысле. Среди многочисленных последствий акции «Кенгуру» было зафиксировано падение рейтинга теленовостей (что не удивительно, ведь главные новости происходили на улице) и резкое снижение явки депутатов на заседание норвежского стортинга. Очевидная сейчас взаимосвязь событий стала ясна не сразу, потребовался еще ряд вторжений социальной самодеятельности, чтобы сделать уже вполне определенный вывод: акции flash mob, помимо всего прочего, обесценивают формы традиционной политической активности. Бу Фрюденсон (ник Кальмар) справедливо замечает по этому поводу:
«Мы даем убедиться всем желающим, какая скука и тоска зеленая царят в политике. Как, в сущности, нелепы занятия раздувшихся от собственной важности политиканов. Предположим даже невероятное – что и наши занятия столь же нелепы. Но мы, во всяком случае, предаемся им без занудства и оттягиваемся по полной программе. Как приятно и весело смотреть на flash-mobилизованных и как отвратительно на тех, кто втянут в политику».
Кальмар, безусловно, прав: и прямые, и побочные эффекты flash-mobилизации создают зону недоумения, распространяющуюся во все стороны; особенно радикальным выглядит влияние подобных акций на политическую сферу. Парламентские «дебаты» сразу же приобретают неуловимо комический оттенок, а электоральные игры, напротив, лишаются искусственного ажиотажа, молниеносные акции протыкают мыльный пузырь их исключительной важности. В условиях новой, непосредственно, «мгновенно» воздействующей демократии прежние демократические причиндалы выглядят тяжеловесными и безнадежно устаревшими.
Сегодня уже вполне очевидно, что никакие действия и контрдействия в рамках принятых политических правил не могли бы вызвать такого эффекта растерянности элиты и последующей эрозии институтов власти. Ведь любые формы политической борьбы, не исключая и вооруженного восстания, легко укладываются в привычный набор «слишком человеческих», как сказал бы Ницше, устремлений. Тут все понятно: конкуренты преследуют одну и ту же цель, отталкивая от нее друг друга и повышая тем самым ценность желанного трофея. Оттесненные от цели выражают негодование, прибегают к угрозам, при этом взаимная признанность политики как таковой в качестве важнейшего человеческого проявления остается незыблемой – значит, было, есть и будет за что бороться. Другое дело flash-mobилизация с ее оторванными рукавами, с ее подпрыгивающими и потрясающими эффектами – она осмеивает и дискредитирует само бездумно унаследованное целеполагание. Дискредитирует и потребительский фетишизм, куда более мощную доминанту общечеловеческого гипноза. Вспышки flash mob перемещают, пусть на короткое время, командные высоты социальности из сферы политического в сферу виртуального самозарождения новых модусов самореализации и признанности.
Таким образом, flash-mobилизация изначально разворачивается как бытие-поперек, что, в свою очередь, является основополагающим принципом бланкизма. Ведь с противодействия инерции потребительства и начиналось движение Бланка. А главной новацией, внесенной Бланком и другими лидерами новых аборигенов, стал переход от виртуальных построений, легко разрушаемых «суровой» реальностью, к экзистенциальной практике.
Как учили в свое время классики марксизма-ленинизма, классовое сознание пролетариата первоначально вносится извне наиболее продвинутыми и радикально настроенными представителями господствующего класса. И лишь после вбрасывания этого кристаллика процесс обособления (самоидентификации) набирает нужную скорость и размах. Отряды Бланка как раз и внесли жесткий каркас навыков радикального противостояния и арматуру теории в стихию спонтанного протеста. Вот что говорит по этому поводу сам Бланк:
Надо уметь настаивать на своем. Если ты избавился от мании потребительства и сбросил иго вещей на пару дней, да хоть и на пару недель, считай, ты ничего еще не сделал. Ты просто взял отпуск, и по возвращении тебя с новой силой запрягут в ярмо. Ведь одно дело отдохнуть от объятий Боша – Самсунга – Сименса, и совсем другое – избавиться от них. Учитесь опыту сопротивления и не верьте легким победам. Знайте, что вы вышли на тропу войны, поэтому будьте хитры и отважны. Попасть в плен всегда проще простого.
Нам следует помнить, что дело не в минимализме желаний и потребностей. Если тебе кажется, что ты обходишься малой толикой имущества, присмотрись, какой ценой тебе это достается. Не дотянулась ли до тебя хватка нехватки? А пригоршня монет, отсутствующих в кармане, не бренчит ли она то и дело в твоем воображении? А прочие погремушки, не заглушают ли они Зов Бытия?
Знай, что сила нестяжательства кроется не в терзаниях и лишениях – ее дает бытие-поперек и поддержка твоих товарищей. Бойцы отряда оттачивают свою решимость друг о друга.
И еще. Избегай мест, где вещи идут косяком по накатанным трассам потреблятства, но не чурайся вещей, отбившихся от стаи. Находки, фенечки, подарки, все экологически чистые вещи, не отравленные товарной формой, украсят твой мир.
Чтобы уяснить важную духовную составляющую отрядов Бланка и всего духовного движения в целом, обратимся к двум цитатам.
«Очень легко не брать взятки, когда тебе их никто не предлагает» (Лабрюйер).
«Философы любят хвастаться тем, что презирают роскошь. На самом деле они лишь отвечают ей взаимностью» (Ибн Зейд).
Неимущий по рождению или лишившийся состояния по несчастью отнюдь не лучший боец антипотребительского фронта. Его не всегда можно даже считать естественным союзником: среди обитателей городского дна нередко встречаются скрытые предатели, замаскированные агенты противоположной стороны. В этом с горечью убедились первые, преисполненные энтузиазма миссионеры, в том числе и отряды Бланка. Имея в виду как раз зависть обездоленных к преуспевающим мира сего, Бертран Рассел высказал свой знаменитый афоризм: «Есть лишь одна категория людей, более жадных, циничных и нечистоплотных, чем богатые. И это – бедные». Субъекты, вынужденные довольствоваться отбросами обменов, отходами метаболизма товаров и услуг, зачастую поражены вирусом стяжательства в самой тяжелой форме. Если обратиться к одной из любимых метафор Сократа – к зуду как аналогу вожделения, можно сказать, что и богатые, и бедные (в расселовском смысле) страдают от чесотки потребительства. Но страдания бедных на порядок сильнее из-за того, что они лишены возможности расчесывать свою похоть неустанным ежедневным приобретательством. Как бы там ни было, в интенсивной терапии нуждаются и те и другие, при том что способы терапевтического воздействия существенно различаются в зависимости от острой или хронической формы заболевания.
Если присмотреться к имеющимся социальным (и философским) рецептам, можно заметить, что проблема избывания избытка окружена целым облаком нравоучений и дешевого морализаторства. Увещевания зачастую противоречат друг другу, но фактически они бьют в одну точку. Современное общество санкционирует избывание с помощью потребления, и это естественная идеология всякой товаропроизводящей цивилизации. Повседневной распечаткой такой идеологии как раз и является реклама. В качестве альтернативы мы слышим воззвания к добровольному перераспределению избытка, к благотворительности в самом широком смысле слова. Однако нетрудно заметить, что в обоих случаях избыток рассматривается как безусловная ценность. Речь идет лишь о том, как правильно распорядиться этой ценностью – распорядиться так, чтобы и себя не обидеть, и хорошую репутацию поиметь.
В некотором смысле тут рассматриваются различные версии социальной диетологии, исходящие из неустранимости потребительского зуда как такового. Что ж, советы относительно того, какой чесалкой лучше расчесывать зудящие места, не совсем бесполезны. Благотворительность, позволяющая сохранить пристойность и даже благородство телодвижений, – это одна чесалка, массажная щетка, производящая успокоительный массаж. Совсем другое дело – потреблятство, контрастный душ супермаркетов и рекламных постеров. Душ приводит в чувство и по-своему вдохновляет: уже есть или еще нет? Вот некая вещь – она сначала в витрине, потом в воображении, а потом и в распоряжении. Можно отчетливо ощутить, как здесь задействуется азарт исследовательского присвоения, далеко превосходящий скромное обаяние буржуазии. По мере нарастания азарта такое расчесывание переходит в оргию потреблятства. Более умеренный вариант задействует программу самоуважения, связанную с обладанием той или иной вещью. В обоих случаях общество потребления тщательно следит за расширенным воспроизводством собственных симптомов.
Между тем ясно, что настоящее решение проблемы состояло бы в устранении симптомов вообще, вместе с их причиной. Благотворительность в смысле творения блага не имеет ничего общего с перераспределением избытка. Подобным образом творится только зло. Логика дозированного перераспределения увековечивает интенцию стяжательства. По-настоящему избыть избыток значит сбросить избыточный груз. Обходиться без значит жить в мире, полном неожиданных опасностей и приключений – но также и азарта, в каком-то смысле превосходящего азарт исследовательского присвоения. В конце концов, если проявить стойкость, открываются все преимущества нестяжательского мира, в том числе и настоящее самоуважение, несопоставимое с самодовольством образцового потребителя. Труднее всего, перейдя порог, сделать несколько шагов вперед не оглядываясь.
И отряды Бланка отважно выступили в поход. В пути воинов-нестяжателей поначалу поджидали горькие поражения. Из них, впрочем, были сделаны выводы, извлечены крупицы драгоценного опыта противостояния. Вот они:
1. Безальтернативность, невозможность утолить зуд обладания только по причине отсутствия средств не годится в качестве стартовой позиции. Умиротворенное, честное состояние души придет позже, когда оформится сумма потерь и обретений, когда принесет свои диковинные плоды заявленное бытие-поперек.
2. Постоянной опасностью является отложенный соблазн, причем эта опасность непреодолеваема новыми усилиями депонирования желания. Любые попытки делать из нужды добродетель недолговечны и изначально фальшивы. Превозмочь отложенный соблазн можно только его осуществлением в виде проб и прививок. Предположим, афоризм житейской мудрости «хочу пожить в свое удовольствие» достал тебя – дескать, в гробу я видел ваше удовольствие. И вообще, как заметил по сходному поводу Ницше: «Если это прекрасно, то что же тогда отвратительно?» Тебе уже больше невмоготу «жить в свое удовольствие», ты выбираешь бытие-поперек. Что ж, пусти пожить в твое удовольствие другого, для которого это занятие все еще является отложенным соблазном. Не исключено, что через некоторое время он вновь присоединится к тебе, и тогда ваш союз будет представлять собой несокрушимую силу.
В идеальном варианте все безальтернативщики, вытесненные на дно, должны были бы пройти прививку отложенного соблазна. Пресловутая «путевка в жизнь» отсеет совсем безнадежных, скорее уже мертвых, живущих лишь по инерции. Некоторые впишутся в потребительскую гонку буржуазности, но даже они способны внести разлад в стан врага. Зато вернувшиеся будут прекрасными, закаленными бойцами, настоящими генералами песчаных карьеров. Имеющийся опыт прививок повсеместно доказал свою действенность.
Преимущество получает тот, кто разделался с имуществом, а не просто его лишился. Ибо пренебрежение к неизведанному недорого стоит в человеческом мире, хотя и является самым обычным делом. Бланк, Колесо, Ричи, Кальмар и многие другие доблестные рыцари нестяжательства принадлежали к кругу обеспеченных людей. Победы, одержанные ими в своих внутренних войнах, помогли организовать достойное противостояние жрецам пользы и корысти.
Ютака Эйто, глава союза нестяжательских племен Хонсю, утверждает, что классические войны во имя стяжания не были самыми безжалостными, но зато они были самыми затяжными и слились в конце концов в одну непрекращающуюся войну. В отличие, например, от войн за веру, честь и самотождественность, в которых реализуется сценарий смертельного противоборства, целью стяжательских войн всегда было ограбление и взятие в плен, иными словами – порабощение. Конечно, воины Алчности и отряды стяжателей-мародеров участвовали во всех войнах, даже в тех, которые велись за освобождение Гроба Господня. Чаще всего именно они и выходили победителями, навязывая условия мира противоборствующим сторонам. Иногда, впрочем, имущественное решение оказывалось единственным способом остановить войну.
Стяжатели воевали, воюют и будут воевать друг с другом хотя бы уже потому, что война есть самый эффективный способ предотвратить инфляцию их основополагающих ценностей. Какая бы из сторон ни вышла победительницей, принцип стяжательства выиграет в любом случае, ведь то, ради чего воюют, не может обесцениться войной. Только мы, выступившие в поход против самой всепроникающей алчности, способны нанести невосполнимый урон ее марионеткам. И я полагаю, что эта война, уже идущая в стадии увертюры, будет самой удивительной со времен партизанских войн Армии Пророка, когда бен Ладен впервые осознал, что воевать следует не с государством, специально выставленным наружу для отражения военной угрозы, а непосредственно с гражданским обществом. Тогда его соратник Мустафа Хуррари провозгласил: «Пусть неверные считают, что никому не удастся расколоть их крепкий орешек, – нам не нужно даже противиться их заботам и предосторожностям. Мы будем выедать мякоть изнутри, не разбивая скорлупы. Крепкая скорлупа нам самим еще пригодится».
Мустафа был в принципе прав, но чрезмерно самонадеян. Сегодня мы видим, что его лучшие солдаты и полководцы отравились мякотью стяжательства. Всепроникающий вирус вещизма не обошел их стороной. Наша война также развернется внутри гражданского общества – мы уже начали ее. Родная земля придаст нам силы – не важно, что она покрыта асфальтом, бетоном и пластиком, а электрическое солнце освещает наши джунгли чаще, чем натуральное светило. Все равно это наша земля, мы на ней выросли, собрались в племена («сбились в стаи», как говорят апологеты вещизма), научились добывать себе пропитание и выстраивать смысл там, где порабощенные потребители видели только прижизненное кладбище и сталкивались с крушением всех надежд.
Кое-какие особенности этой войны сегодня уже совершенно очевидны. Для ее правильного ведения ничего не дает искусство Макиавелли и Клаузевица, да и стратагемы Сюнь-цзы слишком привязаны к основным мотивам обладания признанными благами. Нам не нужен единый руководящий центр, как не нужен он для участников flash-mobилизаций, поэтому бессмысленны попытки подкупить или обезглавить наше движение. Нестяжателям, вступившим на тропу войны, нет нужды вносить раскол в ряды врагов – последние и без того всегда воевали друг с другом, черпая силу алчности в этом нескончаемом противоборстве. Сейчас они объединяются, столкнувшись с отрицающей их жалкое бытие волей к подлинности. Я полагаю, что нам только на руку этот союз, ибо теперь вещеглоты смогут наконец увидеть все ничтожество того, что их объединяет. Ведь их яблоко раздора – всего лишь муляж. Их фетиши в массовом порядке возвращают назад невостребованными. Их «полезные приспособления» высмеиваются практикой бытия-поперек. Объекты потребления, лишившись ауры, создаваемой жаждой обладания ими, предстают как использованные. Они использовались ровно в том же смысле, в каком про одежду говорят, что она износилась. Истинным победителям не нужны трофеи, которые заражены готовыми к прорастанию семенами будущей войны.
Но все же и в нашей войне требуются отвага и выдержка, сноровка и военная хитрость. Знакомство со стратагемами в этом смысле вещь далеко не лишняя. Отвага состоит в том, чтобы пересмотреть кажущуюся неизбежной зависимость принципа наслаждения, фрейдовского Lustprinzip, от объектов, получаемых в результате приобретений. Решительно и безоглядно следует изъять этот принцип из-под власти приобретений и наполнить его обретениями.
Выдержка состоит в том, чтобы дождаться, пока принцип наслаждения утвердится на новой для себя территории – ведь мы не сможем выиграть войну, если будем воевать только против чего-то. Победа принадлежит тому, кто воюет за.
Сноровка – это знание того, как жить, не преумножая потребностей и зависимостей, но и не превращая при этом жизнь в беспрерывную борьбу с трудностями. В некотором смысле сноровка представляет собой «знание местности», как раз то, чему можно научиться у городских бродяг, задолго до нестяжателей заселивших соответствующую экологическую нишу. Первым бланкистам тоже сначала приходилось учиться у них и лишь затем друг у друга.
И наконец, военная хитрость – это совокупность всех обессмысливающих практик, яркость перпендикулярного бытия, одновременно сбивающая с толку закоренелых стяжателей и, так сказать, хронических вещеглотов, но при этом и соблазняющая тех, кто еще не успел потерять смысл своей жизни в гонке потребления.
Глава вторая
Бытие-поперек: первые опыты
Двадцатый век породил ставшее пословицей сравнение, применяемое для описания нецелесообразного расходования сил и ресурсов: «Это все равно что забивать гвозди микроскопом». Первая публичная акция по заколачиванию гвоздей микроскопами была устроена в Петербурге отрядами Бланка еще лет десять назад. Впоследствии это веселое занятие стало одним из непременных элементов нестяжательских фестивалей, а для некоторых бланкистских коммун превратилось и в своеобразный ритуал. И хотя сам Бланк долго сопротивлялся ритуализации спонтанных практик перпендикулярного бытия, впоследствии и он махнул рукой, понимая, что без ритуалов племенное единство недостижимо.
Суть бытия-поперек состоит в изымании вещей из привычного потребительского контекста, что, в свою очередь, подрывает священную серьезность стяжательских оргий. Разумеется, если жест изъятия становится системой, рано или поздно товарная форма догоняет его и цепляет свою бирку. Этот трюк в совершенстве освоен капитализмом и является основным источником его силы. Менее совершенные версии потребительского общества так и не научились обращать в товар едва ли не любой брошенный им вызов – неудивительно, что все они оказались на обочине потреблятской цивилизации. Вспомним участь уже упоминавшихся хиппи, предшественников современных нестяжателей: их рваные джинсы и прочий антураж, извлеченный чуть ли не из мусорных свалок, достаточно быстро стал товаром и оказался в витринах, чем, между прочем, был опровергнут тезис Питера Бьюнинга об эксклюзивной неподдельности мусора. Если бы нищенствующие монахи Средневековья нашли заметное число подражателей в наши дни, надо думать, что фирменные вериги появились бы достаточно оперативно.
Можно обратиться и к другим примерам, не относящимся к делу напрямую, но наталкивающим на размышления. Всем известно, что домашние животные приносят пользу: скажем, на быках можно пахать, а петухи хороши для супа. При этом петухам иной раз случается подраться, а бык, если его раздразнить (даже случайно), набросится на обидчика – казалось бы, обычное «сопротивление материала», которое приходится преодолевать. И вот, как водится (eссe homo), нашлись желающие устроить бытие-поперек, пожелавшие стравливать петухов и дразнить быков – явный вызов автоматическому конвейеру полезного. И что же? Эта поперечная линия, так сказать перпендикуляр противостояния, тут же (в масштабе истории) была развернута параллельно товарным потокам. Более того, именно бойцовые петухи и быки, пригодные для корриды, стали самым дорогим, эксклюзивным товаром… Говорит ли этот пример о неодолимой силе и хитрости жрецов потребления, или он говорит о чем-то другом? Вопрос вполне практический для участников великого противостояния.
Представим себе автомобиль, у которого при случае могут отказать тормоза, – явно негодная вещь, что-то вроде упрямого и яростного быка, не желающего идти под ярмо. Однако если бы нашлись какие-нибудь рискарбайтеры (воспользуемся названием одного из нестяжательских племен Австрии и Баварии), которые во имя бытия-поперек ввели бы этот элемент риска в свои машины, как отреагировали бы силы правопорядка? Есть ли гарантия, что после первоначальных запретов и дежурного возмущения не нашлись бы производители, готовые выпускать автомобили, снабженные датчиками случайных чисел для внезапного непредсказуемого отключения тормозов? Такой гарантии нет, ведь и сегодня байкеры, равно как и гонщики-профессионалы, пользуются техникой повышенного риска.
В конце концов придумали бы особые трассы для рискарбайтеров, разработали бы специальные защитные устройства, наверняка появились бы журналы и сайты для поклонников «рискованного вождения». При этом нет никакого сомнения, что автомобили с самоотключающимися тормозами стоили бы намного дороже обыкновенных комфортных безопасных машин. С превратностями такого рода с самого начала довелось столкнуться отрядам Бланка. Нестяжателю-воину приходится помнить, что преследователи-вещеглоты всегда дышат ему в затылок.
Но для уныния нет оснований. На стороне воинов нестяжательских племен прежде всего скорость мобилизации. Как говорит Ева Кукиш, «flash mobile – это наш perpetuum mobile». Овеществление и упаковка в товарную форму фрагмента авангардного бытия требуют определенного времени. Самое длительное время требуется для превращения ситуативных завитков коммуникации в устойчивую социальную связь, то есть для коррекции общепризнанной, освоенной социальной рамки. Принцип мгновенной, лишенной ритуальных жестов коммуникации нестяжателей позволяет им ускользнуть от уподобления вещам. Скорость дает возможность перешагивать через традиционную разметку социальности, не задерживаясь в тех ячейках, куда направлены основные товарные потоки. Немаловажную роль для вынужденного признания суверенитета племен играет и труднодоступность среды обитания новых аборигенов: сегодня, пожалуй, организовать очередную экспедицию в Амазонию или на реку Лимпопо проще, чем хорошо подготовленную вылазку в джунгли Петербурга, Мехико или Чикаго.
К концу ХХ столетия постиндустриальное общество – или, лучше сказать, капитулировавшая, духовно демобилизованная западная цивилизация добровольно согласилась на черту оседлости. Началось все как раз с мегаполисов, именно там впервые появились «нехорошие районы», в которых нельзя селиться уважающим себя гражданам. Раньше всего своеобразные гетто для преуспевающих появились в США, там уже в 80-е годы истеблишмент привык соблюдать границы запретной зоны, перемещаясь из одного гетто в другое по узким коридорам безопасности. Европа, Япония и Россия запоздали на пару десятилетий, но и они в конце концов вступили на тот же путь добровольной сегрегации.
Довольно скоро нехорошие районы стали непригодны не только для поселения, но и для посещения. Установились молчаливые правила, согласно которым «нормальный» человек не сунется туда без крайней необходимости, а в темное время суток «закон джунглей» вынуждены признавать и стражи порядка, не покидающие своих патрульных машин при пересечении суверенных земель Осаки или Детройта и старающиеся даже не снижать скорости.
В это же время mass media неустанно провозглашали доступность любого уголка Земли: создавалось полное впечатление, что опутанный туристическими коммуникациями и всемирной паутиной мир совершенно прозрачен. Вот ты смотришь на экран телевизора и видишь, скажем, достопримечательности Таиланда: роскошные базары, не менее роскошные пляжи, притягательные ночные клубы и загадочные статуи Будды. Все это можно увидеть и воочию, достаточно купить тур – покажут все то же самое, без обмана, не сразу заметишь и разницу «картинок». Доступность, однако, ограничивается протоптанными туристическими маршрутами: шаг вправо, шаг влево, и можно влипнуть в неприятную историю, в лучшем случае получить от ворот поворот. Но уже тогда главная черта оседлости была проведена в собственном доме, и огороженные незримой границей нехорошие районы обрели для обывателя тот же статус, который прежде имели кладбища. Не так уж много любителей ночных прогулок по кладбищам среди добропорядочных граждан – вот и идея прогуляться по Бронксу, чикагскому Хэд-ривер или по выборгской промзоне Петербурга вдруг дружно перестала приходить в голову даже самым любознательным горожанам.
Так черта оседлости, традиционно предназначаемая для того, чтобы «не впускать», впервые заработала в обратном режиме – причем сразу на просторах всей фаустовской цивилизации. Практикуемое бланкистами и другими нестяжателями бытие-поперек включало в себя и бунт против этой добровольно-принудительной черты оседлости. По мере того как социальность Запада, некогда достигшая высот гражданского общества (в масштабе истории это, наверное, ее главное достижение), отступала и скукоживалась, оставляя беспризорные территории, на них, в свою очередь, формировался исключительно благоприятный режим для нового витка антропогенеза. Сюда, в эти обширные лакуны, и устремились волны эмиграции, здесь обрели свой дом и свою родину дезертиры с Острова Сокровищ. Здесь, наконец, они получили закалку и навык побеждать.
Первые преднамеренные опыты бытия-поперек образуют чрезвычайно пеструю картину. Тут и социальное экспериментирование с отказом от непременных потребительских регалий, и новые принципы идентификации, легко дававшиеся интернет-поколению, привыкшему к никам и более чем снисходительно относящемуся к телесному оформлению этих ников. Нельзя не упомянуть и различные формы борьбы с навязчивой функциональностью вещей.
Понятно, что забивание гвоздей микроскопом было просто демонстративным жестом, способом раскрыть метафору. Тут можно вспомнить еще Кена Руэйна, в конце 60-х годов прошлого века съевшего на спор велосипед и написавшего об этом книгу. Книга так и называлась: «Записки человека, съевшего велосипед»; лет двадцать назад она была переиздана и пользовалась немалым успехом. В тексте Руэйна удачно чередовались описания «размельчения» велосипеда с последующим использованием полученного порошка в качестве пищевых добавок и рассуждения о преодолении потребительского рабства, опирающегося на слепое следование «функциональному предназначению». Кен Руэйн мог бы стать одним из апостолов современного нонконформизма, но, к сожалению, съев за год велосипед и выиграв тем самым пари, он потратил эту весьма солидную сумму самым что ни на есть буржуазным образом – на увеличение собственного благосостояния (в частности, на покупку мерседеса). Кроме того, как справедливо заметил Колесо, уделять столько времени развеществлению вещи значит оказаться в ловушке фетишизма, подтвердить власть потребительства с другого конца.
Примером куда более яркого, азартного и массового развеществления стали гонки на мобильниках, введенные в широкий оборот Бланком (тогда еще Пленицким) и его коллегами-сотрудниками из фирмы «Сенсорика». Первоначально для гонок использовалась любая ровная и слегка наклонная поверхность, скажем обыкновенный стол, чуть приподнятый с одной стороны. Участники состязаний выкладывали свои гончие мобильники на край стола к линии старта, а затем, используя рулевые мобильники, начинали звонить на свои гончие. Включался вибросигнал, и стая гончих бросалась наперегонки. Победителем считался тот, чей гончий мобильник первым добирался до края стола – или, по правилам Бланка, падал со стола, пересекая финишную ленточку…
Сейчас, когда по мобильным гонкам устраиваются чемпионаты мира и Европы, когда хороший гончий мобильник можно купить по цене автомобиля, те первые протестные гонки выглядят крайне наивно. Коммерциализация настигла это невинное занятие в течение двух-трех лет. Но оно сыграло свою роль, роль веселого, эпатажного противостояния потребительству. Можно сказать, что в борьбе с товарным фетишизмом гончие мобильники выиграли первый забег.
Всех эффектных жестов, направленных против потреблятства, не перечислить. Среди авангардных сражений были и выигранные, и начисто проигранные. Неожиданно эффективной оказалась распарка (выбор обуви из разных пар), впервые запущенная нестяжательской коммуной «бастардов» из Ливерпуля, – она нанесла существенный урон обувной промышленности. Успех в какой-то мере был предопределен быстротой наступления: отряды «поперечников» к этому времени были уже достаточно велики, с помощью походных ноутбуков могли координировать свою деятельность в режиме on line и быстро менять диспозицию, нанося следующий точечный удар.
Тем самым модное поветрие не успевало превратиться в ветер, вращающий лопасти ветряных мельниц товарного производства. О модном поветрии и вытекающей из него развернутой метафоре со свойственной ему образностью говорил Бланк.
БЛАНК. Пора бы уяснить истинный смысл притчи о Дон Кихоте. Свойство великих книг вам известно: в каком бы новом ключе, в какой бы степени забвения первоначального смысла их ни читали, читающие всегда обнаружат то, что им нужно.
Так вот. Рыцари, сражающиеся с ветряными мельницами, – это мы. Во всяком случае, мы должны ими стать. Потому что противостоит нам настоящее чудовище, обладающее одновременно свойствами мельницы и гидры. Гоббс в свое время уподобил государство Левиафану, библейскому чудовищу. Следуя ему, я сравнил бы общество потребления с Мельницей-Гидрой. Это странное существо, которому все поклоняются, представляет собой удивительный симбиоз живого и мертвого. Точнее говоря, симбиоз машины и чувствилища, наделенного проблесками разума. Представим себе эту ветряную мельницу, которую опознал когда-то Дон Кихот. В ней есть жернова, закрома, всякие там устройства для перемалывания любого поступающего разнообразия… Все преобразуется в однородный продукт, который расфасовывается в стандартные упаковки – в товарную форму. В принципе мертвый механизм, способный работать только в случае приложения внешней силы. Например, силы «ветра», дуновения – в конечном счете силы духа. Его нужно еще уловить, поскольку дух, как известно, дышит где хочет.
Но у этой Мельницы-Гидры есть и свое живое – чувствительные лопасти, способные поворачиваться и перехватывать человеческие устремления…
ГОЛОС. В живой природе есть такая элементарная способность, Бланк. Фототаксис у растений, когда они поворачиваются вслед за солнцем; есть еще хемотаксис…
БЛАНК. Верю. И чуткие лопасти Гидры ловят дуновения духа, который первоначально вовсе не имел в виду вращать мельничные колеса. Но всякое воздействие на лопасти приводит в действие жернова. Из плененной силы желания жернова труда делают товар. Улавливаете?
НЕРАЗБОРЧИВЫЕ ГОЛОСА. …Что-то старомодно, Бланк…
БЛАНК. Подходящее слово – старомодно. Если вдуматься, удивительное наречие, как если бы мы сказали «громкотихо». Но вторая часть – «модно» – прямо работает на наш образ, ведь лопасти Мельницы-Гидры улавливают в том числе и модные поветрия. Сами по себе модные поветрия – всего лишь проявления человеческой свободы, иной раз они помогают справиться с каким-нибудь тоталитарным безумием. Но это чудище приспособилось схватывать любое стремление к моде и штамповать из него фальшивки.
Вот так наши духовные порывы одухотворяют Гидру. Более того, в силу привычки такие порывы приобретают систематический характер, они вписываются в ритмику воли, которая, в свою очередь, подчиняется монотонному ритму труда. Жернова перемалывают дары природы, в том числе и данные нам дарования. Я думаю, Господь с горечью смотрит на это с высоты небес. Он, первоисточник эманации, однажды вдохнул душу живу в мертвую глину. И то, что стало с его дыханием, нельзя назвать иначе чем первородный грех – все остальные грехи лишь следствие пленения свободного волеизъявления духа.
Одухотворение Гидры называют по-разному: алчностью, стяжательством, корыстолюбием. В любом случае дух уже не дышит, где он хочет, а растрачивает себя на анимацию чудовища. А лопасти, если вы заметили, вращаются все быстрее…
ВИКТОР ЧУГУЕВ. Тогда, Бланк, алчность вроде должна нарастать. А мне кажется, она пошла на убыль… происходит что-то другое…
БЛАНК. Ты прав, времена конкистадоров остались позади. Но, друзья мои, чудовище от этого только выиграло. Настоящая алчность все еще содержит в себе неукротимость духа. Кроме того, алчность перебивается встречной алчностью, а это снижает КПД Мельницы. Поэтому самое точное название ловушки, в которую попались все цивилизации, это не алчность и не скупость, а – польза. Польза – именно так называется самый надежный способ ублажения хищного чувствилища Гидры. И мы видим, что по степени обеспеченности кормом, так сказать по величине отчуждаемой дани, этот монстр превосходит и Левиафана, и всех прочих языческих кумиров.
Идолы – материализованные призраки, порождаемые нашими страхами или энтузиазмом, – требуют приношений. Им приходится приносить жертвы, проливая при этом кровь, испытывая трепет и преодолевая инстинкт самосохранения. Но Гидре с ее жерновами достаточно приносить пользу: похоже, что такая форма дани прочнее всего порабощает дух. Великая превратность труда состоит в том, что каждый из совершающих приношение идолу думает (и даже уверен), что приносит пользу себе. Понятно, что на деле приносящий пользу прежде всего используется сам, растрачивая полученные свыше дуновения на ублажение чувствилища Гидры, на безостановочную работу ее мертвых органов-агрегатов. Известный эвфемизм «общественно полезный труд» скрывает под собой горькую истину – «гидрополезный» характер товаропроизводящего труда.
Несложно описать и каждый отдельный цикл метаболизма чудовища – его еще называют циклом расширенного воспроизводства. Вот хищные выдвижные усики-лопасти уловили дуновение и втянули его в себя. Потом заходили жернова перемалывания и заработал счетчик суммирования отдельных усилий – так монстр проявляет свою благосклонность (довольное урчание счетчиков) и показывает, что дань принята. И наконец из закромов полезло полезное… (Пауза.)
ГОЛОСА. Товар!.. Говно!
БЛАНК. Вы правы, друзья мои, это синонимы…
ЕВА КУКИШ. Об этом идет речь и в даосской философии. У Чжуан-цзы о пользе бесполезного…
СОВА. Товарный фетишизм и его существенные проявления исследованы Марксом.
БЛАНК. Что ж, как заметил всеми нами любимый Хайдеггер, «все существенные мыслители говорят об одном и том же». Но я предлагаю вам перечитать Сервантеса: помимо ветряной мельницы там есть еще и рыцарь с копьем. И мудрость его в том, что в отличие от прочих участников стяжательских войн он обнаружил настоящего врага и попытался под насмешки и улюлюканье атаковать его логово. К сожалению, найдя врага, рыцарь из Ламанчи не нашел правильной тактики.
Как победить чудовище, пока не знает никто. Я тоже не знаю. Ясно одно: чтобы уязвить Мельницу-Гидру и нанести ей урон (а это уже немало), нужно быстро маневрировать и все время менять диспозицию. Наши душевные движения и их социальные последствия не должны отливаться в форму полезности – тогда мы сможем частично перекрыть поступление движущей силы на вездесущие лопасти-щупальца-крылья. Если выказывать подобающую брезгливость или хотя бы небрежность к конечным продуктам обмена веществ, не торопиться очищать закрома Мельницы (а сегодня эти закрома-витрины оформлены особенно притягательно), у чудовища непременно случится запор и оно испытает все последствия внутренней интоксикации. Главное – прекратить позорный Гидро-лиз.
ЧУГУЕВ. А что случится с нами?
БЛАНК. С нами – ничего, кроме того, что уже случилось. Мы и сегодня располагаем экологически чистыми вещами – их круговорот неподконтролен ни Левиафану, ни Мельнице-Гидре. Но не будем обольщаться, до победы еще очень далеко, и виртуозы Гидро-лиза по-прежнему правят миром. Кстати, одно преимущество перед тем воином из Ламанчи у нас все же есть. Мы – рыцари Веселого Образа, и наши походные праздники всегда с нами.
Новая интерпретация «Дон Кихота», вошедшая в «Полный Бланк», получила широкую известность не только среди бланкистов, но и среди нестяжательских племен вообще. Сравнение Бланка на первый взгляд кажется несколько искусственным, но, видимо, оно затронуло какие-то сущностные моменты заброшенности в мир с неизбывной обреченностью на труд. Известен целый ряд попыток развить и продолжить метафору, примененную Бланком.
Скажем, ник Гаруда, один из наставников Петербургского сквот-университета, рассуждал так. Лопасти Мельницы движутся благодаря систематическим порывам конечного, заключенного в форму Я духа. Первичным продуктом в таком случае является всеобщий полуфабрикат, по Гегелю – среда вещественности. Или попросту мука. Но из муки еще надо замесить тесто. И вполне уместно будет спросить: из какого теста мы сделаны? В какой мере само человеческое в его современном проекте складывается из потребляемых вещей и актов потребления? Не является ли оно попросту оттиском товарной матрицы на податливом тесте?
Быть может, это тесто, восходящее после того, как Мельница-Гидра перемалывает наше сущее, представляет собой вторичную глину. Вторичную – после той, первичной, из которой Господь вылепил Адама, придав ей форму, энтелехию и вдохнув душу живу. И вот Гидра сберегающей экономики втягивает в себя сначала простые потребности, затем автономные желания, включая сексуальные позывы, потом интеллектуальные и, наконец, духовные устремления. В этом процессе происходит развоплощение Первообраза: богостоятельность сменяется самостоятельностью. Но самостоятельностью условной и совершенно пустой, соответствующей английскому выражению self made man. Человек, сделавший себя сам, – такова форма высшей оценки по отношению к преуспевшим в рамках основанного на стяжательстве социума. И этот сделавший (переделавший) себя сам человек уже не Адам, а Голем. Его духовные искания втянуты в воронку, ценности перемолоты и выпечены заново, а психосоматический метаболизм на уровне социальных инстинктов включен в метаболизм Монстра.
Последовательность симбиоза укладывается в рамки эволюции техники – этот процесс исследован многими мыслителями от Хайдеггера до Бодрийяра. В частности, Альфер, друг Бланка еще с нестяжательских времен, писал по этому поводу:
Одичавшую, обезумевшую от жертвенной крови и коллективного вожделения технику удалось все же загнать в резервацию, тотемизм вновь уступил место фетишизму. Восстановилась религия общества потребления, не требующая кровавых эксцессов, ибо символические аспекты почитания в ней исключают экзистенциальную трансгрессию. Ныне левиты комфорта, жрецы новой всепоглощающей идеи, отправляют культ вещизма, удобства и подручности в соответствии с известной заповедью: «Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко» (Матф. 11: 30). Сегодня доминирует дрессированная, ручная техника, пытающаяся угадать желания своего владельца; ее всеобщим девизом стали слова, пророчески избранные однажды известной фирмой по производству граммофонных пластинок: «His master’s voice» («Голос его хозяина»). Техноценоз покорен популяцией новых вещей, мягких, вкрадчивых хищников, умеющих понимать с голоса и повиноваться, но потихоньку осваивающих формулу позывных желания, подбирающихся к имитации внутреннего голоса субъекта.
Техника, требовавшая жертв, осуществлявшая открытый вызов человеку, отправлена на свалк или в музей. Сегодняшние порождения техники не стремятся прервать симбиоз, но не следует обольщаться их видимой покорностью. Траектория превратности в отношениях человека и техники не менее извилиста, чем гегелевская диалектика господина и раба.
Дело в том, что техника, подобно многим видам в живой природе, не может размножаться исключительно путем партеногенеза, она нуждается в периодическом поступлении оплодотворяющего начала – в данном случае импульса человеческого духа. Речь идет именно о решающих моментах, о поворотных пунктах, ибо в принципе устойчивый техноценоз способен к самостоятельному поддержанию численности за счет определенной инерции человеческой деятельности. Мы ведь всегда застаем уже наличными и требующими заботы мастерские, фабрики, депо, а также склады и магазины, и нам ничего не остается, как присоединиться к повторяющемуся усилию воспроизводства – говоря словами Хайдеггера, откликнуться на зов техники, даже не подвергая его расшифровке.
Простой смысл паровозных гудков, всех фабричных сирен и будильников означает: встань и иди. Лучше всего даже не пробуждаясь, как зомби или сомнамбула. Окликнутый человек следует зову техники, словно самец брачному призыву самки, но в этом маниакальном хождении по кругу отсутствует нечто самое важное: сомнамбула неспособна к духовному оплодотворению, к производству нового эйдоса.
Чтобы отпочковалась самостоятельная жизнеспособная ветвь техники, необходимо прервать процесс вегетативного размножения, а для этого требуется коллективная духовная инъекция Мастера, Менеджера и Мечтателя. Пытаясь выманить ее, техника становится ласковой и кроткой. Эмбрионы многих великих изобретений оплодотворены и выношены в стихии игры: помимо пороха можно вспомнить телефон, который был востребован прежде всего цирковыми иллюзионистами и чревовещателями, можно вспомнить и персональный компьютер.
Как известно, вирусы вообще неспособны к самостоятельному размножению, они просто используют чужой генетический материал (программу жизни «хозяина»). Мы думаем, что техника служит нам теперь верой и правдой – не случайно пафос новейшей философии состоит в отказе от демонизации технического (П.Вирильо, А.Ронелл). Есть, однако, достаточно обоснованное подозрение, которое нельзя сбрасывать со счета: а что если техника, играя и заманивая, принимает позу соблазна именно тогда, когда остро нуждается в иноприродном ей начале, в семени духа? Жгут техники внедряется в принцип наслаждения, имитируя язык желания вплоть до интимных доверительных интонаций.
Мы видим, что развитие техноценозов осуществляется волнами: покорность сменяется независимостью, если достигнута инерция самовоспроизводства. Знакома нам и поза угрозы, применяемая доминирующим хищником. Сейчас мы как раз переживаем стадию, когда техника глубоко втянута в самое жерло принципа наслаждения, она как бы находится в позе максимального соблазна, словно искушенная женщина, знающая, чем совратить. Электронные игры, пожирающие колоссальный ресурс чистого времени, виртуальная реальность, компьютерный секс – все это суть безошибочные знамения соблазненности духа. О глубине проникновения соблазна свидетельствует, между прочим, и тот факт, что у техники сменился идеолог: впервые за время ее существования апология технического звучит не из уст инженера, менеджера или ученого, а из уст художника. Художественный авангард припал к дисплеям компьютеров, открыв для себя (с помощью вкрадчивой, тихой подсказки) область электронной психоделики, – и сегодня техническая оснащенность этого авангарда уже сравнима с технической оснащенностью армий.
Факт смены покровителя техники как наиболее существенная новация последней технотронной волны еще требует обстоятельного анализа. И пока художники, именуемые теперь арт-мейкерами, используют технику в свое удовольствие, она, в свою очередь, использует их удовольствие для выманивания семени, для оплодотворения и вынашивания эмбриона.
Еще не известно, как будет выглядеть зрелая особь, когда она вылупится из яйца, каких жертвоприношений она потребует в своем культе.
Многие проницательные мыслители обращали внимание на то, что за ласковым убаюкиванием, за колыбельной прогрессирующего комфорта скрываются знакомые со времен Одиссея сладкозвучные сирены, всякий раз заманивающие очередной «Титаник», снаряженный по последнему слову цивилизации, в пучину гибели, – правда, пассажирам далеко не всегда удавалось заметить, что они уже втянуты в воронку гибели, несмотря на то что благополучно достигли Америки. Как уже отмечалось, даже самые безупречные теории – всего лишь пряности интеллекта без экзистенциальной решимости их последователей. С другой стороны, и самый незамысловатый практический шаг способен породить взрыв теоретического осмысления. Иными словами, далеко не всякая теория, будь то в сфере науки или в области социальной регуляции, располагает собственной практикой, зато практика, понимаемая как возобновляемое единство действий субъекта, легко обзаводится пучком конкурирующих теорий, между которыми приходится выбирать.
Движение нестяжателей, включившее в себя самые разнородные практики бытия-поперек, привело к реальному жизнеспособному единству такие человеческие феномены, которые могли показаться теоретически несоединимыми. Сегодня этот синтез продолжается, можно даже сказать, что он в самом разгаре, и по своему накалу и интенсивности синтез бытия-вопреки заслуживает названия антропогенной революции.
Ясно, что не осталась в стороне и сфера производства символического. Прежде всего это, конечно, создание новых ритуалов и мифов, которое еще никогда не свершалось с такой скоростью в реальном времени, но и события, происходящие в сфере собственно авторствования – выбор способа художественной экспрессии, неожиданное предпочтение тех или иных жанров, – заслуживают пристального внимания. Сейчас мы уже можем говорить о литературе-поперек и даже о поэзии-поперек, выросших из эстетики постмодерна и практики художественных авангардов. Эти направления были востребованы, поскольку по самой своей сути такая перпендикулярность означала дискредитацию систематического усилия осмысления и переход к стратегии обессмысливания, что прекрасно попадало в резонанс борьбы с пользоприношением. Взять хотя бы поэзию оторванных рукавов.
Поэзия, пришедшаяся ко двору в урбанистических джунглях, в целом продолжала линию Лира, Кэрролла и Артура Милна, а если говорить о русской традиции – линию обэриутов. Поэзия оторванных рукавов, в свою очередь, образует ряд ответвлений («рукавов»), так или иначе противостоящих «высокой поэзии», претендующей на вечное хранение. Если Рэй Нилли, Соул Гоун, ник Ник могут рассматриваться как новые рапсоды или акыны, использующие наряду с импровизацией готовые блоки «поэтичной поэзии», то в русской традиции заметный резонанс вызвала книга петербургского поэта Марка Изумруда «Неизвестный Пушкин». Автор этой книги, проявив немалую изощренность, предложил «новое прочтение» подавляющего большинства стихотворений и поэм Пушкина. Каждому образцу привычного, или «слепого», чтения противопоставляется прочтение творческое, или, как выражается Пушкин – Изумруд, «чуткое и вдумчивое». Например:
- Ты волнуешь сине море,
- Всюду реешь на просторе…
Марк Пушкин – Изумруд дает «вдумчивую» версию:
- Ты волну ешь, сине море,
- Всё дуреешь на просторе…
И так – более трехсот страниц неизвестного Пушкина. В книге вслед за пушкинской строкой идет ее «изумрудная версификация», и, разумеется, далеко не все равноценно:
- Ты волнуешь сине море,
- Ты волну ешь, сине море,
- Всюду реешь на просторе…
- Все дуреешь на просторе…
- . . . .
- Не видал ли ты его,
- Неве дал ли ты его?
- Господина моего?
- Господи, намой его!
- . . .
- Ядра – чистый изумруд…
- Я драчистый Изумруд…
Вряд ли миру был явлен «неизвестный Пушкин», но пушкинисты и примкнувшие к ним прочие стражи духовности устроили скандал, способствовавший, как водится, дополнительной популярности книги, а отряды Бланка использовали заряд обессмысливания, в полной мере присущий тексту, в своей борьбе с тотальной рационализацией духовных порывов.
Занятия изумрудной версификацией, получившие широкое распространение с легкой руки Пушкина – Изумруда, чем-то напоминают гонки на мобильниках. В них тоже присутствует момент поперечности-перпендикулярности, в данном случае перпендикулярности поэтическому складу души, уже давно используемому в интересах потребительской цивилизации. Поэзия оторванных рукавов внесла и вносит свой вклад в преодоление амортизации сущего, ослабляя хватку вещеглотов и обессмысливая их уверенность. Но в принципе далеко не все порядки символического, синтезированные контркультурой, вошли в собственную «позитивную» культуру нестяжательских племен. Тексты протеста и тексты самоотчета представляют собой все же разные, хотя кое в чем и близкие по духу стихии.
В джунглях мегаполисов произошло, прежде всего, ослабление принципа авторствования, обеспечивавшего на протяжении столетий расширенное текстопроизводство и воплощавшего в себе квинтэссенцию идеи собственности. Достаточно вспомнить характерное сочетание страха и алчности, главных движущих сил авторствования вплоть до нашего времени. Страх, скрываемый с немалым трудом, присутствовал в полном объеме: с одной стороны, как страх перед кражей (плагиатом), а с другой – как страх быть уличенным в плагиате. Эти опасения перекрывались только алчностью, мукой недооцененности, вызывавшей тяжелую одышку из-за нехватки фимиама. Болезнь представлялась смертельной уже Ролану Барту – автор, однако, жив и по сей день; бесконечные войны влияний, которые авторы вели друг с другом, подобно прочим стяжательским войнам, лишь повышали ценность предмета раздора. Не только Барт, но и многие его современники и последователи видели один и тот же сон, в котором оказывалось, что автор умер. Жаль, что подобных сновидений не застал Фрейд. Он получил бы великолепное подтверждение своей теории о сновидении как исполнении желаний и без труда определил бы скрытое содержание сна о смерти автора: умри всякий автор, кроме меня! Только вызов нестяжательства, брошенный обезумевшей цивилизации, привел к некоторому падению интенсивности текстопорождения – да и то вслед за общим падением интенсивности товарных обменов. При этом основные источники творчества отнюдь не иссякли, они, как выяснилось, не сводились исключительно к лихорадке авторства.
С известными вариациями восторжествовала модель, опробованная в интернете, – мягкое, ненавязчивое авторствование, разворачивающееся под прикрытием любого ника, в сущности лишенное одышки, вызываемой недостатком воскурений. Резко контрастирует с дежурной восторженностью прежних веков и будничность самих произведений, создаваемых в нестяжательских коммунах, произведений, явно не претендующих на мировой переворот и больше напоминающих фенечки – какие-нибудь собственноручно сплетенные браслеты, предназначенные для подарка товарищу, а то и первому встречному.
Приоритет бытия-поперек, как, впрочем, и другие особенности живого общения, значительно обесценили персональную атрибуцию новых вкладов. Даже манифест бланкизма, знаменитый «Полный Бланк», содержит фрагменты, авторство которых вызывает сомнения, а ведь это важнейшая часть предания. Целый ряд писателей, философов и поэтов, обустраивавших духовно экологическую нишу нестяжательства, известны только по никам. Среди них и ник Ник, один из лидеров калифорнийских бланкистов.
Можно сказать, сбылось предсказание Андре Мальро – распался «большой круг культуры», единое общедоступное хранилище, пополняемое путем тщательной селекции претендующих вкладов. Создаваемые произведения стали циркулировать преимущественно по малым кругам локальной востребованности – передаваться из рук в руки, распространяться через знакомых и симпатизирующих. И разумеется, по подвеске – о ней еще пойдет речь. Кто-то может сказать, что эти тексты, картины или музыкальные записи всего лишь блеклые «представители своего рода», что они вряд ли попали бы в коллектор Большого круга и уж во всяком случае не были бы там сохранены. Однако они до сих пор эффективно выполняют свою задачу, вызывая соответствующий отклик в нужном месте, давая возможность обменяться впечатлениями или просто пожать плечами.
Как заметила однажды Татьяна Москвина: «Мы читаем самые волнующие, занимательные или, наоборот, самые содержательные и поучительные книги по разным причинам – но прежде всего потому, что они есть. Не было бы их, мы читали бы книжки похуже, не случись и таких, читали бы и совсем плохонькие». Эта простая, но глубокая мысль бросает неожиданный свет как на природу чтения, так и на природу человека читающего. Действительно, кому из нас не случалось углубиться в чтение того, что просто находится в данный момент под рукой, – если разобраться, чтение подавляющей части людей всегда было устроено именно таким образом. По самой своей сути чтение опирается на простую и неделимую потребность первичного читателя, живущего в каждом из нас, а не на «разборчивость», свойственную узкой группе привилегированных читателей. Только поэтому книга стала тем, чем она стала – хотя бы классическим примером товарообмена, который так любил приводить Маркс (сюртук на Библию).
Несмотря на бесчисленные внутренние разборки, на вселенскую ярмарку тщеславия, где ситуативная игра котировок претендует на описание подлинной жизни человеческого духа, сходным образом дело обстоит и в живописи, и в музыке. Произведения востребуются из ближайшего круга доступности – прежде всего потому, что они имеются в наличии сейчас. Культурные обмены в ареале обитания новых племен вновь обратили внимание на данное обстоятельство – произошла, как выразился бы достопочтенный Лиотар, «редукция к фону очевидности». Несмотря, однако, на эту «редукцию», эффективность воздействия произведений-фенечек на первичных читателей и слушателей не только не уменьшилась, но даже возросла. В какой-то степени это объясняется как раз новым способом предъявления: вместо публикации, характеризующей способ обнародования произведения в авторской культуре, возникла подвеска – альтернативный процесс дистрибуции вещей, обеспечивающий их экологическую чистоту, отсутствие загрязненности товарной формой.
Глава третья
Подвеска
Практика подвески, этого радикально нового, еще не встречавшегося в истории человечества типа обменов, в отличие от ряда других составляющих нестяжательства имеет своего вполне конкретного основателя. Основателем подвески является Гелиос, известная также под никами Ли и Парящая-над-Землей.
Гелиос (так назвали ее родители) родилась в обеспеченной семье, что, возможно, позволило ей избежать воздействия особо опасного вируса стяжательства. Ибо потакание детским капризам некоторым образом защищает от развития зависти и других печальных последствий острой имущественной недостаточности. Вопреки господствовавшим ранее предрассудкам жизнь показала, что умение довольствоваться малым, устойчивость к зуду стяжательства достигается не путем изначальных лишений, а благодаря некоторой, приобретенной еще в детстве беспечности по отношению к «сокровищам», – собственно, уже феномен хиппи свидетельствовал об этом со всей очевидностью. Конечно, даже самое обеспеченное детство не дает гарантий определенного будущего, но какие-то элементы иммунитета к вещизму все же формируются. Как бы там ни было, но именно беспечность, по мнению друзей, была самой заметной чертой характера Ли. «По жизни я, конечно, пофигистка, но увлекающаяся пофигистка», – говорит Парящая-над-Землей. И подобное сочетание очень характерно для многих нестяжателей, примерно как сочетание беспечности и воинственности для норманнов.
Как рассказывает сама Гелиос, все началось в 2005 году, после поездки в Прагу.
p>Город оказался таким чудесным – я просто пожалела, что не бывала здесь раньше. Пиво, готика, куклы, бехеровка, крыши, друзья, улеты – все вместе было так прекрасно, что уже на пятый день мне приснился сон, будто дверь моей прежней жизни, той, откуда я сюда проникла, захлопнулась и сама замуровалась стеной. Снилось, что меня пытаются выдворить, я развожу руками: некуда, мол, выдвориться… И еще снилось, что Кафка и Ян Швонкмайр за меня заступаются. Они говорят: без нее же все куклы будут скрипеть… Я тогда как раз занималась кукольным театром.Так прошла неделя, и вдруг мой чудный приятель Мартин Вацке говорит: «А пойдем сегодня в подвешенное кафе?» Я отвечаю: «А пойдем!», а сама думаю, что кафе, может, подвешено на каких-нибудь цепях над Влтавой… ты в нем сидишь, а оно раскачивается.
Но все оказалось еще круче, хотя поначалу я была разочарована: обычная кафешка и обычный усатый чех за стойкой. Но тут Мартин показывает мне доску, похожую на школьную, и на ней мелом какие-то надписи написаны. А рядом еще висит подушечка, и в нее воткнуты булавки с лентами. Вот. Показывает мне все это и говорит на смешном русском языке:
«Можемы сейчас кусные вафли взять, есть тако же рюмка бехеровки, колбасков жареных есть порция, схема на транспорт пражский и грдличка… но она давно висит».
Я не стала спрашивать насчет грдлички, потому что непонятным было всё. Мартин заказал пива и «снял» колбаски. А когда мы наконец уселись за стол, он рассказал мне, что такое подвешенное кафе.
Допустим, приходят посетители и что-нибудь заказывают: кофе, пиво, орешки, какое-нибудь горячее блюдо. Заказ оплачен, но предположим, что орешки в конце концов остаются нетронутыми. И, уходя, компания говорит: а орешки подвесьте, пан. И пан записывает мелом на доске: орешки. А в подушечку втыкает булавку с цветной лентой. Теперь орешки подвешены, и любой следующий посетитель имеет право получить их бесплатно – если, конечно, ими заинтересуется. Можно что-нибудь подвешивать, вместо того чтобы давать чаевые. Или, например, блюдо, которое тебе понравилось, можно заказать повторно – на подвеску. Сняв подвешенное угощение, можно взамен оставить что-нибудь приглянувшееся тебе. Но никакого эквивалента соблюдать не требуется, любой посетитель имеет полное право воспользоваться подвеской, ничего не оставив взамен. Не важно, есть ли у него деньги или нет – может, ему просто так хочется.
Слушая разъяснения Мартина, я все больше приходила в восхищение: идея подвешенного кафе была воистину прекрасна. Помню, мне вдруг пришло в голову: ведь точно так же и Господь для нас развешивает сливы. Если вдуматься, то ведь важнейшие дары Господни достаются нам так, если бы они были оставлены в Подвешенном Кафе, куда мы случайно попали в выпавший нам час.
Посещение этого пражского кафе стало, пожалуй, главным событием в моей жизни. Там я обрела просветление. Уходя, я уговорила Мартина скинуться, и мы подвесили целую бутылку шампанского.
Просветление, обретенное Парящей-над-Землей, оказалось отнюдь не пустым звуком. Вернувшись в Москву и собрав знакомых ребят, она рассказала им, как они теперь будут жить:
Свою кафешку мы обязательно откроем – но это будет только начало. Это будет тренажер для начинающих – то есть для нас. Мы будем так жить, потому что это хорошо весьма. Я это и так знаю, вы же попробуете и убедитесь. Вы даже не представляете, сколько всего очень важного можно изменить нашей решимостью. Это шанс выйти из зацикленности на бабках. Мы объявим войну жлобству. Поставим на уши вещеглотов. Всё будет классно, пипл…
Впрочем, ребят долго уговаривать не пришлось. И Парящая-над-Землей была убедительна, и идея хороша весьма.
Московское кафе на Бауманской стало первым в России подвешенным кафе, но оно отнюдь не стало простым повторением пражского опыта. Кафе, которое Гелиос назвала «Грдличка», изначально задумывалось как идейное место, таковым оно и оказалось. С самого начала проявились два существенных отличия от чешского заведения. Во-первых – интенсивность обменов. В «Грдличке» (народ довольно быстро переименовал кафе в «Личико») прямой заказ постепенно отошел на второй план, уступив первенство депонированию и востребованию. А во-вторых, дозволялось подвешивать не только то, что имелось в меню заведения, но и принесенные с собой вещи. Общим же был принцип, поразивший Ли больше всего: подвешенная вещь принадлежала первому, кто ее спросит.
Очень скоро подвеска вырвалась из «Грдлички» на Бауманской, выплеснулась на улицы Москвы и Петербурга, а вскоре и других городов и других стран. В урбанистических джунглях мегаполисов появились подвесные трассы и подвесные аналоги почтовых станций – заборы, подвалы, стены домов, пестрящие цветными ленточками. В Петербурге, Осаке и Амстердаме интенсивность обменов через подвеску превзошла уровень архаического потлача и достигла интенсивности денежного обращения времен ранних цивилизаций. Степень самодостаточности круга подвесных обменов напоминает сегодня натуральное хозяйство, хотя в некотором смысле речь идет о полной противоположности натуральному хозяйству – о натуральной бесхозности, а если быть еще более точным, о натуральной беспечности, постепенно изменяющей человеческую натуру. На наших глазах проходит обкатку действительно новый экзистенциальный проект, получивший опору, способную сыграть роль решающего аргумента.
Следует признать, что, ухватившись за случайно подсмотренный завиток городского уклада, за блестку местной пражской экзотики, Парящая-над-Землей совершила подлинное открытие. Ошеломляющий эффект и действенность открытия состоят в том, что великой воительнице всё представилось сразу, в виде универсальной практики обменов, в виде победоносного боевого строя в войне, объявленной жлобам. Предчувствие Ли сбылось по полной программе, и, подобно тому как Бланк, Колесо, Лиля, Ютака, Крошка открыли пространство возможностей бытия-поперек, Парящая-над-Землей открыла кормовую базу новых нестяжательских племен. Без этого открытия опыт бытия-поперек вряд ли стал бы значимой социальной практикой.
Значение подвески в организации повседневной жизни всех обитателей джунглей очевидно для любого наблюдателя, как бы далеко от соучастия в таких обменах он ни находился. Но этнографические и вообще местные особенности подвески известны далеко не всем. Приведем отрывок из размещенного, то бишь подвешенного в интернете полевого исследования, подписанного ником Лоэнгрин. Исследование посвящено ареалу обитания питерских бланкистов и близких к ним общин.
Мур, в отличие от большинства своих приятелей, живет не в сквоте и не где придется, а у себя дома, в обыкновенной коммуналке. Там есть ванная, и друзья иной раз заходят к нему помыться, взбираясь по веревочной лестнице в незакрывающееся окно или просто звоня в дверь. Но иногда Мур все же на некоторое время покидает свою резиденцию. И тогда живет в сквоте или где придется.
Подобно прочим бланкистам, он носит с собой цветные ленты, чтобы отмечать, где он оставляет (подвешивает) какую-нибудь пригодную для жизни вещь, попадающую ему в руки. Такой вещью может быть что угодно: пачка печенья, книжка, компакт-диск, пара рукавиц или одна рукавица, клеящий карандаш или интернет-карта. Не то чтобы подвешиваемая вещь была ему вовсе не нужна, но она не нужна в ближайшее время, скажем сегодня и завтра, – и это уже является достаточным основанием для того, чтобы ее подвесить. Ведь кому-то она может понадобиться именно сегодня.
Чего только не подвешивают бланкисты в самых неожиданных закоулках города – вплоть до ключей от какого-нибудь жилья с указанием адреса. У меня особое умиление вызывают подвешенные мотки разноцветных лент, самого знака подвешивания. Поразительный пример автореференции – они, кстати, пользуются большим спросом.
Мур пустил меня пожить с условием не мешать ему и «не вешать лапшу на уши». Мы выходим из дому утром, причем утро начинается не по часам, а после того как Мур проснется и решит, что пора выходить. Выходит он «на прогулку», которая редко имеет определенную цель, но даже если цель есть, она может легко измениться под влиянием обстоятельств. Неизменными остаются лишь желания видеться с приятелями и оглядываться по сторонам. Как говорил в свое время Павел Крусанов: «Считать ворон – одно из самых благородных занятий в жизни».
Маршрут Мура нередко отклоняется к подвесной трассе, где этот неунывающий бланкист знакомится с подвеской, снимая заинтересовавшие его вещицы или предложения. Завтракает (точнее будет сказать, обедает) он в одном из многочисленных подвесных кафе, где любят тусоваться питерские бланкисты. Эти места встреч так и называются: «места». Некоторые из них вполне цивилизованны и общедоступны: «Дрель», «Диоген», «Три семерки», а другие – например, такие места, как «Яма» или «Тюбик», – это просто развалины или пустыри. Но и они располагают «столовой», распознать которую, правда, человеку постороннему не очень легко.
Я как-то спросил Мура, всегда ли ему удается найти еду. Мур с некоторой даже назидательностью заметил, что не следует этим заморачиваться. У нас состоялся любопытный разговор по этому поводу.
– Проблема возникнет тогда, когда она возникнет. Главное – поев сегодня, не думать о завтрашнем ужине.
– Но если с ужином ожидаются трудности, – возразил я, – не лучше ли позаботиться заранее, коли уж есть такая возможность?
– Ну, тут всё как в сказке «Кот в сапогах». Мудрая, вообще, сказка.
Я не понял, что он имеет в виду, и попросил уточнить, что Мур и сделал:
– Помнишь, там, когда братья поделили имущество после смерти отца, старшему брату досталась мельница, среднему – осел, а младшему – кот.