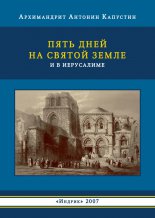Осень надежды Аде Александр

– А если это любовь?
Он мрачно задумывается.
– С моей стороны – пожалуй. Как сказано у Тютчева: «О ты, последняя любовь! Ты и блаженство, и безнадежность…» Что касается вышеуказанной дамы… Вряд ли. Она молода, красива, даже очень… Что еще?.. Эгоистична. Самоуверенна. Если в ее психике и завалялся какой-то комплекс, то комплекс абсолютной полноценности. Есть женщины, для которых секс – как чашечка крепкого и ароматного турецкого кофе. Она не то чтобы аморальна. Скорее, она выше морали. В ней есть что-то от Кармен. Психология проста: если мне хорошо с мужчиной, почему бы с ним не переспать? Со своим благоверным она трахается ради денег, со мной – Бог ведает, почему. Может, по-дружески. А с кем-то, возможно, переспит из благодарности. Или из любопытства… Я потому так откровенно и, в сущности, цинично, повествую о ней, что вам она неизвестна. А мне просто необходимо облегчить душу…
И он снова налегает на коньячок.
Когда прощаемся, внезапно предлагает:
– Не могли бы мы… так, иногда… общаться? У вас должно быть немало занимательных случаев из практики. Разумеется, я не собираюсь вставлять их в роман, мне достаточно зернышка, искорки… Посидим в ресторане. За мой счет. И будем квиты.
Соглашаюсь немедля. При этом пищепитейную оплату моих рассказов отвергаю напрочь: вполне хватит и того, что я – наконец-то! – обретаю уши, в которые смогу вливать воспоминания стреляного сыча.
К тому же поставлять материал для детективов – об этом можно только мечтать.
Домой заваливаюсь около полуночи. Анна встречает меня в алом халате, накинутом поверх ночнушки. И, загадочно улыбнувшись, достает рулончик ватмана.
Любопытствую:
– На дом взяла почертить?
– Не совсем.
Разворачивает трубочку – Неизвестная надменно (будто бы сверху вниз) глядит на меня, выпрямившись в коляске на фоне зимнего Петрополя.
На этой репродукции она еще румянее, еще свежее, чем на иллюстрации в альбоме. Нежнее овал молодого лица. Краснее гордые, в блестящей помаде, губы. Синее атласные ленты. Влажнее черные, с поволокой глаза.
Только теперь замечаю, что у нее поверх (почему-то сизых) перчаток аж два золотых браслета. А украшенная брошью с жемчужинами и страусиными перьями шляпка «франциск» и отороченное собольим мехом пальто, которое называлось тогда «скобелев», вовсе не черные, а слегка в синеву. Шикарная дамочка. По тем временам.
Анна осторожно прикалывает репродукцию булавками к обоям, говоря при этом:
– Возможно, она тебя вдохновит, и ты быстрее раскроешь преступление.
Потом, отойдя и полюбовавшись, замечает:
– Если откровенно, эта щеголиха мне малосимпатична. Современники, кстати, считали ее содержанкой, наверное, не без оснований. Зато в советское время она стала чем-то вроде отечественной Моны Лизы. Возможно, потому что люди всегда мечтают об идеале красоты – но при этом странным образом предпочитают слащавое, пошлое, путая красоту и красивость. Сегодня таких девочек, самоуверенных и нахальных, можно встретить в дорогих бутиках и ресторанах. Кстати, твоя артисточка, судя по всему, из той же породы.
Соглашаюсь. Хотя в башку лезет гаденькая мыслишка, что Анна слегка завидует молодости девчонки из позапрошлого века. К этому, думаю, можно добавить неприязнь порядочной женщины к смазливой вертихвостке. Зачем тогда принесла репродукцию? Зачем на стену повесила? Или все мы, люди-человеки, в тайниках и лабиринтах души капельку мазохисты?
– Я могла бы немножко помочь тебе, – Анна, трется щекой о мою щеку, за день покрывшуюся мужественной щетинкой. – Ты не против?
– Извини, но я хочу разобраться сам, – возражаю с твердостью зрелого мужика и упрямством ребенка.
Вижу, что она расстроена, обнимаю, целую. И Анна смиряется. Конечно, ей страсть как охота покопаться в этом деле, связанном с дорогим ее сердцу искусством. А заодно продемонстрировать восторженной публике – то есть мне – блистательные способности экстрасенса. Но на этот раз я твердо решил обойтись без добровольных помощниц.
– Спи, – говорю. – Я скоро.
Она уходит в спальню, а я, как пасьянс, раскладываю на кухонном столе фотки трех сыновей Ионыча.
Вот старший отпрыск банкира. Толстячок – точная копия папани, только в «омоложенном» варианте. В костюмчике, при галстучке. Респектабельный, надежный, как бронированный сейф. Чтобы такой отважился – даже ради о-очень больших деньжищ посягнуть на папашино добро… Не поверю. Он и в банке зашибает прилично, и карьера ему светит офигенная. Зачем рисковать? По Ионычевым словам он не игрок, не наркоман, примерный семьянин. Нет, его пока отложим.
Средний. Этот тоже дистрофией не страдает, скорее даже наоборот. Но еще не заматерел. На нем демократичная синяя курточка с капюшоном. Еще бы, студиоз. Покуривает (чем Ионыч сильно озабочен), а в остальном вполне положительный хлопчик. Остепенится – и бодро зашагает прямой дорогой по следам папани и братана к сверкающим, как Монблан, вершинам экономики и финансов. И этого мы пока трогать не станем.
Младшенький таращится на меня с фотографии серьезными правдивыми глазищами. Есть такое выражение: «крупные черты лица». Сказать такое про пацана – значит, не сказать ничего. Глазищи, ротище, носище – здоровенные, утрированные. Уши – как у летучей мыши. А сам худущий, шейка цыплячья. Хотя, возможно, с возрастом наберет вес и обратится в подобие Ионыча. Он заснят в желто-рыжей футболочке, изукрашенной золотистыми латинскими букавами, и джинсиках.
Старшему короеду Ионыча за тридцать, среднему – двадцать, младшему – пятнадцать. Стало быть, в первый раз банкир женился раненько, возможно, еще студентом, и прожил со своей благоверной лет пять, как минимум. Зато вторую женушку бросил быстро, похоже, к тому времени почувствовал себя богатым и всемогущим. Ну а потом, когда и вовсе в силу вошел, стал менять спутниц жизни, как перчатки, выбирая красивых и молодых. Словно боялся, что не успеет перед закатом насладиться любовью.
Хотя какая тут любовь, ребята.
Надо заметить, что Ионыч, хоть и расставался со своими подругами безо всякой жалости, однако детишек не забывал. Следил за пацанами строго, не позволял соскользнуть на неверную дорожку. Нанимал гувернанток. Так что за детишками присмотр был.
Впрочем, сказанное касается первых двух наследничков. Потом Ионыч завертелся с юными феминами и младшего упустил. А может, пацан ему не слишком нравился? Уж очень на папашу не похож. Не нагулянный ли? И не потому ли Ионыч с третьей своей расстался?
Есть в этом деле две любопытные детальки.
Первая. Чтобы сделать копию с этюда Крамского, нужен оригинал, да и работа займет массу времени. Следовательно, «операцию» провернули либо тогда, когда Ионыч и актрисуля веселились на всяких-разных канарах, либо – когда банкир умотал в командировку.
И вторая: ключ от кабинета был только у Ионыча. Значит, кто-то сумел сделать дубликат. Мне банкир заявил, что носит ключик постоянно с собой, в кармане пиджака. Но пиджак-то на нем далеко не всегда, любому домочадцу доступен.
Итак, мои приоритеты – младший сынок и актрисуля. И сейчас главное – не промахнуться. Попасть в десятку. Что ж, призову на помощь свой могучий аналитический дар, окрылю интуицией. И разом вычислю, кто из этих двоих – преступник… Но аналитический дар сегодня, похоже, вырубился напрочь, а интуиция молчит, как в рот воды набрала.
Что ж, придется в очередной раз довериться Судьбе. Разрываю листочек еженедельника напополам. На одном оборвыше мараю букву А – актрисуля, на другом С – сыночек, старательно сминаю бумажки в два комочка, бросаю в стеклянную банку из-под кабачковой икры, встряхиваю сосуд, вытаскиваю один из комочков. Разворачиваю…
Судьба рекомендует мне заняться младшим детенышем Ионыча.
Почему бы и нет? В этом вроде бы тихом губастом глазастом и ушастом омуте могут водиться такие черти…
* * *
Кстати, зовут его Ромкой. Романом.
В утренней полутьме подкатываю к громоздкому кирпичному коттеджу Ионыча. Жду. Наконец, отворяются ворота ограды и, щупая дорогу ближним светом, выкатывается крупногабаритный джип: Ионыч отправился в банк. Заодно забросит Ромку в школу.
И действительно, въехав в город, внедорожник тормозит возле бетонной типовой трехэтажной коробки. Из авто выбирается среднего роста худенький хлопчик и пропадает среди школяров, а махина на колесах движется дальше.
Много чего мне довелось совершать в этой непредсказуемой жизни, но сторожить тинейджера у порога школы еще не случалось.
За стеклами «копейки» светает. Между домами брезжит бледно-розовая заря – и вскоре, в десятом часу, уже вовсю сияет утро. Потом солнце ныряет за тучу, окружающая действительность разом тускнеет, и в школьных дверях возникает Ромка.
На нем оранжевая курточка, джинсы и кроссовки. За спиной ранец. Куда пацан намылился? А он, мельтеша длинными тонкими, как ходульки, ногами, во всю прыть несется через дорогу. Вылезаю из «копейки» и, рискуя попасть под колеса машин, мчусь за ним.
Конечной целью нашего маленького путешествия оказывается торговый центр «Арктика». Вслед за пацаном влетаю в автоматически раздвигающиеся стеклянные двери – и… Белых медведей и моржей не обнаруживаю, видать, не сезон, зато оказываюсь в рафинированном царстве шмотья и побрякушек. За стенами хмурый осенний город, а здесь Европа в чистом виде, даже бьет небольшой фонтан.
Ромка плывет на эскалаторе на третий этаж и пропадает в дверях «Фарт-клуба» – зала игровых автоматов.
Немножко для верности повременив, заворачиваю туда же. И что вижу: наследник Ионыча – с видом завсегдатая – сидит на высоком табурете перед одноруким бандитом, сражаясь один на один с неумолимой судьбой. И на его глазасто-губастой рожице отчетливо проступают перипетии этой битвы века. Иногда она (рожица) озаряется ликованием, и Ромка испускает боевой клич, но чаще страдальчески морщится, и сынишка президент банка в бессильной ярости лупит по воздуху кулачками.
Выхожу на улицу. Неторопливо фланирую на некотором расстоянии от дверей «Арктики», потом снова наведываюсь в этот мирок цивилизованного шопинга и заглядываю в «Фарт-клуб». И застаю ту же картину: автоматы (их пять и все заняты) и погруженный в схватку Ромка.
Так продолжается около часа. После чего пацан выносится из торгового центра и чешет, как оглашенный, и мне приходится поднапрячься, чтобы не отстать. Он влетает в двери школы. А я, запыхавшись, неторопливо шагаю к «копейке», усаживаюсь в нее, набираю номер сотового Ионыча.
– Не скажите, какие сегодня у Ромы уроки?
– А это вам зачем? – изумляется он.
– Тайна следствия.
– Если откровенно, я не в курсе. В течение получаса позвоню, назову.
И действительно, минут через двадцать сообщает, что у Ромочки первый урок математика, второй и третий – физкультура, четвертый – биология.
– А он что, от физры освобожден?
– У него нелады с сердцем.
Вот оно как. А, между прочим, к своим одноруким бандитам скакал как здоровый. Похоже, парень всерьез подсел на иглу игромании. А выигрывает не всегда. Стало быть, ему – кровь из носа – постоянно требуются башли. А где их достать?
Тут волей-неволей возьмешь да и обчистишь родного тятьку. Тем более что Ионыч у парнишки вряд ли вызывает положительные эмоции.
P.S. Кстати, автоматы в «Арктике» принадлежали некогда Коню, а затем – Стелле. Невольно задумаешься о том, что все на этой планетке-невеличке взаимосвязано и переплетено. Суждение банальное, но правильное.
Около двух из школы выстреливает стайка пацанят. Ромка забирается в поджидающий его джип, и железная зверюга, тяжеловесно утюжа колесами опавшие листья, движется в сторону окраины, потом – за город и доставляет отпрыска Ионыча в коттедж.
Мой рабочий день завершен. Из коттеджа пацаненок не вырвется, стало быть, сегодня мне следить не за кем. И я отправляюсь в город, размышляя по дороге: где мог раздобыть Ромка качественного живописца для копирования этюда? И не нахожу ответа. Ох, боюсь, зря я пасу сынишку банкира, только попусту трачу время…
Не успеваю домыслить эту печальную мысль – почесывая и щекоча мою задницу, электронным кузнечиком звенит-стрекочет мобильник.
Подношу коробочку к уху – и в меня вливается густой жизнерадостный басок Акулыча:
– Наше с кисточкой усем Королькам и прочим чудакам! Отныне можешь не трепыхаться. Сыскался плохиш, убивец твоего батяни.
– Он у вас? – мое сердце щемяще сжимается.
– Да как тебе сказать, голуба. С одной стороны, вроде бы и у нас, и уж точно не слиняет, даже наручники без надобности и решетки на оконцах. И даже – ты не поверишь, птаха, – стены не требуются. А с другой…
– Помер, что ли?
– Угрохали. Аккурат во время трудового порыва – когда кончал некого бизнесмена. Ежели желаешь на красавца поглядеть, милости прошу к нашему шалашу. Фотку покажу. И в натуральном виде представлю, пока землице не предали. А хочешь – разрешу в рожу ентого конкретного мертвяка плюнуть. Только без харчка.
– А какие у него были причины убивать всех подряд?
– Хрен его ведает, отморозка. Хлопец явно без башни. Родители евоные прямо заявили, что вел он себя в последнее время странно и непонятно.
– Наркотики?
– Чего нет, того нет. И не алкаш. Видать, крыша сползла. Вот и принялся первых попавшихся резать на ремешки. Во всяком случае, дело закрыто. Все. Амба. Шабаш. Так что празднуй до упаду: родитель твой отомщен.
– Акулыч, а если этот пацан – киллер, и имеется заказчик?
– О-о-о! – взвывает Акулыч. – Как же ты меня достал, обормот! Киллер с винтарем и оптическим прицелом – это фирменно и солидно. С «калашом» – тоже, пальчиком нажал – и готовый дуршлаг. С «макаром», конешно, не так круто, но тоже сойдет. Но чтобы с ножичком… Вот ты закажешь конкурента киллеру с кинжальчиком?
– У него что, кинжал был?
– Именно. Как у детей гор. Кстати, этот джигит – убогий шибзик, такому не то что зарезать, капустку покрошить, и то промблема.
– А тебе не кажется странным, что убивал он только бизнесменов?
– Мало ли у кого какая блажь. Людишки – они очень даже удивительные бывают. Вот тебя взять, например… А может, енто всамделишная классовая ненависть, о которой писали ишо гениальные основоположники… как бишь его?.. Всесильного, потому что верного… Так придешь фотку глядеть? Или тебе самого жмурика подавай?
– Через полчаса буду у тебя. И фотку хочу поглядеть, и жмурика.
– Жду, – коротко бросает Акулыч и отключается…
Когда выхожу из забитого покойниками морга, моросит мелкий дождь. Усаживаюсь в «копейку» и, подгоняемый необъяснимой тоской, отправляюсь без цели и смысла блуждать по городу. Время от времени паркую машинку, забредаю в сувенирные магазинчики, бессмысленно таращусь на блестящие побрякушки, но на душе легче не становится. Перекусываю в забегаловке на железнодорожном вокзале, оставляю «копейку», а сам отправляюсь бродить по улицам.
Дождь отбрызгал, зато гуляет ветер. Над китайским ресторанчиком два красно-золотистых сплюснутых шара с сухим звуком бьются о стену. И так же колотятся изнутри о стенки моего черепка две-три унылые мыслишки – об убийце отца.
Был он молоденьким пацаном, студентом второго курса экономического института, косоглазым и носатым. Косоглазой и носатой была вся его семья: папаша, мамаша и младшая сестричка. Ребятня во дворе звала их гоблинами. Родители-гоблины служили бухгалтерами в местной телефонной компании, вместе уходили на работу, вместе возвращались. Дети – дочка и сын – с неба звезд не хватали, но учились старательно. В общем, рядовая семейка рядовых российских гоблинов.
Но примерно полгода назад с сыночком случилась внезапная перемена. Он стал агрессивным и непредсказуемым. А однажды – после той ночи, когда были убиты Стелла и мой отец, – домой явился под утро, усталый, бледный, взвинченный, в ответ на расспросы зло огрызался и тотчас повалился спать. С этого утра его будто отрезало от семьи.
Смотрел я в морге на вытянувшегося на оцинкованном столе отморозка, точнее, на его окостеневшую оболочку, и уразуметь не мог, что ощущаю при этом. Ненависть? Вроде бы нет. Мстительную радость? Тоже нет. Пожалуй, чувство освобождения: отныне неотвязный призрак отца не станет тревожить меня по ночам. Теперь-то уж дело окончательно закрыто, господа присяжные заседатели, и сдано в пыльный архив моей памяти.
* * *
Автор
Наташа нагибается над кроваткой своего ненаглядного человечка. Года полтора назад, с трудом неся большой тяжелый живот, даже не представляла, что ребенок будет таким: круглый лоб, крутой затылок и синие глаза.
Узнав, что беременна, она была уверена: родится девочка, помощница и подружка. Мечтала о том, как лет через десять дочка подрастет и станет с ней по-женски секретничать. И расстроилась до слез, когда ей сказали, что будет мальчик. Маленький мужичок: драки, хамские повадки, грубые слова!
Сейчас, любуясь сыночком, она и вообразить не может, что ее посещали такие мысли. Какая еще девчонка! Вот он, единственный ее мужчина, спит в кроватке, смежив реснички.
Наташа выходит на балкон, в серое октябрьское воскресное утро. Вчера, во второй половине дня на землю обрушился дождь с градом, потом повалил крупный снег, и на траве, на опавших листьях, на крышах застывших машин видны его остатки, точно распыленные белила. Почти все деревья обнажены. Березка под балконом обсыпана редкими съежившимися желтыми листиками и напоминает древнюю старуху. Золотая осень закончилась, началась голая, предвещающая зиму. Скоро будет холодно, мокро и грязно.
Когда раздается телефонный звонок, Наташа торопится скорее поднять трубку, чтобы не разбудить Данилку. Мужской баритон произносит мягко и дружелюбно:
– Привет, Наташ.
Совсем недавно, в прошлом году от этого голоса у нее тяжело и сильно билось сердце, – сегодня даже не дрогнуло, может быть, потому, что теперь вся ее любовь сосредоточилась на сыне.
– Приглашаю тебя с малышом – если вы оба не против – навестить наше скромное гнездышко, – говорит Королек. – Потреплемся, старое вспомним. Анна будет рада.
Немного подумав, Наташа соглашается, хотя и сомневается в том, что ее появление обрадует Анну.
В час дня Королек заезжает за ней и Данилкой, складывает и засовывает прогулочную колясочку в пасть полупустого багажника, где лежат запасное колесо и древняя промасленная куртка, Наташа с сынишкой усаживаются на заднее сиденье потрепанного жизнью автомобильчика с круглыми фарами, и они отправляются.
Бывшего сыча Наташа не видела три года, с августа 2005-го. Уже тогда, после смерти Илюши, виски его побелели. Сейчас волосы цвета выгоревшей соломы усеяны сединой. Лицо осунулось, стало серьезнее, тверже, печальнее. Глаза словно выцвели и еще сильнее напоминают блеклый нефрит.
В квартире Анны и Королька недавно сделали ремонт – это наметанным глазом Наташа отмечает сразу. Фиалковые обои заменили другими, бледно-желтыми. Комната посвежела, но не стала лучше. Не оттого ли, что в 2005-м Наташа всем своим существом ощущала, что это жилье накачено счастьем, а теперь ничего подобного не чувствует?
Королек удаляется на кухню, оставив женщин наедине, – если не считать Данилку, который отважно разгуливает по комнате и то и дело шлепается на пол, после чего Наташа берет его, ревущего, захлебывающегося слезами, на руки и утешает.
«А ты сдала, – думает Наташа об Анне. – За три года, что мы не виделись, ты точно перешла какую-то грань. Тогда была красавицей хоть куда, хотя и не слишком молодой. А теперь над верхней губой кожа собралась мелкими складочками. И волосы не вьются, как прежде. И стала больше сутулиться. Но еще откровеннее выдают тебя руки. Неужели Королек не видит этого?»
На миг в ней вспыхивает прежняя ревность – и гаснет. Оттого, должно быть, что в глазах Анны нет прежнего блеска. «Несладко тебе живется. Еще бы, каждый день трястись, ожидая, что молодой муж найдет себе другую, помоложе и посвежее».
– Я могла родить сына. Как ты, – тихо говорит Анна. – Он бы подрастал, становился юношей, мужчиной… Почему я тогда не послушалась Королька! – в ее голосе такое отчаяние, что Наташа чувствует к ней почти сострадание. – Теперь уже поздно… Поздно…
Когда садятся обедать, Королек небрежным кивком головы указывает на репродукцию «Неизвестной» и интересуется у Наташи:
– Как она тебе?
– Если спрашиваешь о картине, то она, по-моему, почти гениальна. Что касается самой Неизвестной… Лично я от нее не в восторге. Есть в ней нечто пошловатое, базарно-ресторанное. Причем, взгляните, она явно не худышка. Кстати, и Анна Каренина – а существует мнение, что Неизвестная – в какой-то степени ее портрет, – была довольно-таки упитанной. Если сомневаетесь, перечитайте роман, убедитесь. Это тип того времени – женщина-пироженка. Сегодня роковые дамочки с округло-холеными мордашками уже не в моде. У нынешних фотомоделей лица худые и жесткие. Какой век, такая и красота.
– Как, по-твоему, сумел бы кто-нибудь из наших городских художников сделать качественный дубликат этой картины? Хотя бы голову Неизвестной нарисовать.
– Извини, но зачем тебе это знать?
– Да так, – пожимает плечами Королек, делая наивные глаза, – к слову пришлось.
«Не умеешь врать, милый, – думает Наташа, – зачем-то тебе это нужно, и не просто так позвал ты меня в гости». Но вслух говорит раздумчиво:
– Мастеров пять такого уровня у нас, пожалуй, найдется… Вспомнила! На днях я видела копию «Неизвестной». Автор местный, Сергей Ракитский. Он, кстати, входит в эту «великолепную пятерку». Впрочем, мне его работы малосимпатичны, чересчур зализанные. Но обывателю, особенно женщинам, наверняка нравятся: «Ах, как тонко выписаны кружавчики!..» Так вот об этой копии. Исполнено блестяще. Чувствуется школа, великолепно поставленная рука… Но. Лицо на полотне – иное, чем на картине Крамского. Нет, сходство определенно есть, и все же…
– Таланта твоему Ракитскому не хватило, – предполагает Королек. – Вот дамочка и не похожа.
– Нет, он отменный портретист. Скорее всего, картина писалась с другой модели… Кстати, за спиной этой Неизвестной не Питер, а главный проспект нашего милого городка. Ракитский явно намекает на то, что она живет здесь.
– Где ты видела эту картинку?
– В художественном салоне на Тухачевского… Ну, Данилка, нам пора. Тетя Анна и дядя Королек нас хорошо приняли, угостили. Скажем спасибо и двинем домой…
Королек увозит Наташу и Данилку; Анна остается одна. Вымыв посуду, включает телевизор – но, мельком посмотрев три-четыре канала, выключает. Ей скучно, тоскливо без Королька.
В последнее время ее одолевает страх вновь потерять его. Она не хочет ревновать – и ревнует. Порой ей кажется, что Королек живет с ней только из благодарности. И это изводит ее. С тех пор как Королек – полтора года назад – вернулся к ней, Анна стала мягче, терпимее.
Внешне она по обыкновению сдержанна и спокойна. Тщательно следит за собой, красит волосы, старательно ухаживает за лицом и телом, одевается модно и элегантно.
«Что будет со мной, если Королек уйдет?» – иногда спрашивает она себя – и словно заглядывает в черную пропасть, откуда несет ледяной стужей…
Щелкает дверной замок. Немного помедлив, Анна выходит в прихожую – и замирает в изумлении. Королек сидит на корточках и кормит из блюдечка крохотного котенка.
– Извини, что без твоего разрешения. – Он поднимает голову. Его лицо озарено ясной детской улыбкой. – Так получилось. Проезжаю мимо рынка. И вдруг будто кто приказывает: стой! Торможу, вылезаю из «копейки». Голос велит: зайди! Захожу. Голос говорит: гляди! Гляжу: стоит толстенная тетка, держит драную ушанку, а в ней это чудо валяется. Тетка злобная, заплывшие глазки – как две мутные лужицы, губки сердечком. И до того мне стало жаль котика-несмышленыша! Не поверишь – показалось, что это я сам, одинокий, беспомощный. Лежу на дне вонючей шапки, а вокруг диковинный страшный мир. Выгреб всю наличность и – вот… Простишь меня? Конечно, надо было посоветоваться с тобой. Такой серьезный шаг…
Анна опускается на корточки, смотрит на розовый, быстро работающий язычок лакающего молоко котенка.
– Какой забавный. И совсем серый, – тихо произносит она, точно боясь спугнуть. – Похож на маленький сгусток дыма. Как ты его назовешь?
– Я же сказал, что увидел в нем себя. Хочу окрестить его Корольком. Я не слишком самоуверен? Это еще не мания величия?
– Если и есть, то совсем чуточку. Теперь я вдвойне счастлива: у меня два Королька. Одного я люблю. А второго – надеюсь полюбить.
– Но не сильнее, чем меня. Я ревнивый, – и еле слышно он добавляет: – Надеюсь, у нас сегодня будет замечательная ночь?
– А ты почему шепчешь? – улыбается Анна.
– Так ведь он слышит, – Королек лукаво кивает на котенка, отползшего от миски и лежащего возле стены клубочком серой шерсти.
Они поднимаются. Королек обнимает подругу и говорит ласково, словно прося за что-то прощения:
– Теперь нам будет еще лучше, правда?
И она понимает, что этим крошечным беззащитным существом Королек пытается заменить отсутствующего в их жизни ребенка, и сердце ее дрожит от нежности и любви.
* * *
Королек
Прежде на меня со стен комнаты и спальни глядела только дочь Анны, девочка-самоубийца, и в ее глазах я читал такую скорбь, что становилось не по себе. Теперь к ней добавилась Неизвестная.
Едва захожу в комнату – натыкаюсь на полупрезрительный взгляд. Алые губки вот-вот раздвинутся, чтобы спросить с издевкой: «Что, горе-сыч, слабо тебе решить задачку, которую я загадала?»
И вся она такая ядреная на питерском морозце (персик, вах!), подтянутая – грудки вперед, под облегающим пальтецом соблазнительное тельце… Да, пожалуй, появись она в наше время в натуральном своем виде, не уверен, что сумел бы устоять.
Подступаю к ней вплотную. «Кто ты, милая? Продажная девка или Анна Каренина? И что в твоем взгляде – бесстыдный призыв самочки или гордые невыплаканные слезы? По виду ты (не обижайся) – расфуфыренная фифочка, пижонка и стерва, а кто на самом деле? Поди разбери…»
Произнеся мысленно таковы слова, вытаскиваюсь во двор, засовываюсь в свою машинешку, с которой в последние годы сросся так, что не разрубить, и направляю «копейкины» колеса к художественному салону.
Салон – сказано слишком круто. Скромный зальчик, стены сплошняком обвешаны полотнами. Есть тут и гламурные штучки-дрючки, вроде тех, что продаются на нашем «арбате», только повыше качеством (Сверчок, прости!), и бешеные мазюки, которые я понять не в состоянии – должно быть, в силу своего невежества.
«Неизвестная» – насколько могу судить – выделяется сильно. И стильно. В тяжелой резной раме она выглядит просто шедевром, честное пионерское! Но не это главное, ребята. Лицо на картине действительно другое. И я тотчас узнаю его.
Это актрисуля, шестая жена Ионыча!
К раме присобачена бумажка, на которой печатными букавами выведено название картины: «Моя Неизвестная», имя автора: Сергей Ракитский и цена с пятью нулями. Ну да здесь, как я уразумел, дешевое – в смысле стоимости – не выставляется.
Тут же неслышно ошивается продавщица, дамочка лет сорока, не более, но какая-то допотопная, типичная училка Марь Иванна из черно-белого кино тридцатых годов. И как только хозяина салона угораздило ее нанять?
– Мне ужасно понравилась одна картинка, – принимаюсь насвистывать любезно. – Чувствуется, что художник классный. А я как раз собрался жене к дню рождения подарить ее портрет. Как бы мне узнать координаты мастера, чтобы связаться?
Строго поджав сухие тонкие губки – вот-вот начнет меня распекать, как нерадивого школяра, она просит немного обождать и скрывается за дверкой. Минут через пять возвращается, торжественно неся крошечный листочек, на котором педантичным педагогическим почерком выведен номер мобильника автора «Моей Неизвестной».
Из «копейки» звоню ему.
– Слушаю, – голос негнущийся, пронзительный, как звук бензопилы. Не таким представлял я голосок виртуоза кисти и карандаша.
Повторяю легенду о дне рождения супруги.
– А вам известны мои расценки? – жестко интересуется Сергуня. – Если намерены получить приличный результат при наименьших затратах, разговор теряет смысл. В таком случае отправляйтесь на местный «арбат». Возможно, вам повезет, и портрет окажется даже похож на оригинал. Мои работы стоят дороже. И намного. Но, – быстро добавляет он, – цена вполне соответствует качеству.
– Как-нибудь договоримся, – небрежно говорю я, точно швыряю пачку «зеленых».
– Что ж, прекрасно, – слегка смягчается он, – тогда мы можем обсудить конкретные детали.
– Предлагаю встретиться в нейтральных водах. В «Двух бойцах». Часов в восемь. Не против?
Он не возражает.
В ресторанчике «Два бойца», название которого навевает воспоминания о старом добром фильме, обыкновенно собираются крепкие немногословные мужики с широченными плечами. Насколько мне известно, хозяин заведения в молодости занимался боксом… или борьбой. Воздух здесь словно пропитан мужским потом.
Отчего появляется это ощущение, сказать не могу. То ли от снимков на стенах (свирепые схватки и исступленное ликование победителей). То ли от висящей на гвоздике парочки боксерских перчаток. То ли от пластмассовых манекенов, застывших в нишах в стойках боксеров и борцов. Расположился боевой ресторан на тихой улочке, застроенной разноцветными особнячками.
Я прибываю чуть раньше условленного срока. А ровно в двадцать ноль-ноль, опровергая общепринятую точку зрения, что художники (как и вообще люди искусства) – ребята рассеянные и необязательные, появляется Сергуня Ракитский.
Будучи рядовым обывателем, далеким от сферы изящного, я ожидал, что передо мной предстанет длинноволосый эстет, с бородой или без – и на тебе! Типичный бизнесмен. Менеджер. Стального колера костюм и белая сорочка с воротником-стойкой. Возраст – около сорока. Худощавый, стремительный. Острижен бобриком, под Керенского. Лицо жесткое, аскетичное, с волевым подбородком, точно вырезанное из твердого дерева. Глаза глубоко утоплены в глазницы, как патроны – в стволы, и смотрят оттуда пристально и недобро. Губы сложены в приветливую улыбку.
Первым делом заявляет:
– Ваш портрет я бы написал.
Ага, этого счастья мне только недоставало! Кстати, в свое время и Анна хотела изобразить мою мордаху в цветах и красках, и Сверчок намыливался увековечить – не дался. Я не поп-звезда, я и фоткаться не особенно люблю, а ведь это секундное дело, мгновение. А тут требуется оцепенеть на несколько часов. Нет уж, фиг! Между прочим, натурщикам за это деньги платят.
– Конкретно сейчас я намерен заказать только портрет жены, – заявляю с чарующей ухмылкой. – А там поглядим.
– Жаль, – в его зенках, надежно упрятанных в недра черепа, появляется искренняя печаль по потерянным баксам.
Полушепотом, чтобы не нагружать посторонние уши, он называет цену, надо признать, нехилую. Поторговавшись, заставляю его немножко скостить сумму, и мы ударяем по рукам.
– Теперь, – продолжает он, – мне пора познакомиться с вашей супругой и обсудить, когда она сможет позировать.
И тут я его огорошиваю.
– Видите ли… Я бы желал, чтобы портрет был для жены сюрпризом.
– То есть как это? – в его голосе – нотки тихого изумления, граничащего с опупением.
– Нарисуете ее по фотографии. Сегодня же пороюсь в альбомах и найду самую клевую фотку.
– Послушайте, это несерьезно, – принимается, как последнего придурка, увещевать меня Сергуня. – Художники моего уровня не пишут портреты со снимков.
– Я, конечно, в вашем искусстве профан, – упрямо гну свою линию, – но могу поспорить: рисовать с фотки куда проще. Живой человек крутится туда-сюда, а на карточке он неподвижный. Бери да срисовывай, какие проблемы?
Во взгляде, который он кидает на меня, сквозит затаенная неприязнь, но длинные пальцы задумчиво теребят салфетку: парню явно не хочется терять плывущие в руки башли.
– Надо подумать… – произносит нехотя, не желая сдаваться сразу. – Вот что. Позвоните завтра… или послезавтра. – И протягивает мне визитку.
Ого, член Союза художников! Впечатляет.
Слегка перекусываем и выпадаем в дождливый вечер, похожий на ночь. Прощаемся. Ракитский садится в «тойоту» цвета воронова крыла, чем опять меня разочаровывает. Что ж такое, пацаны! По моим понятиям у художника и авто должно быть особым, огненно-красным, например. Или ретро. Или, на худой конец, размалеванный утиль. Похоже, Сергуня в своей гильдии явный выродок, хотя рисует – дай Бог каждому.
Запомнив, на всякий случай, номер «тойоты», козыряю двумя пальцами и направляюсь к своей тачке – не спеша, чтобы Сергуня не понял, что клиент ездит на подержанной «копейке». Дожидаюсь, когда машинешка Ракитского отчалит, впрыгиваю в «копейку» и лечу следом за эффектной кормой.
Откатываются назад, в прошлое, бессчетные радужные огни городского центра – и мы (сначала Сергуня, а за ним и я) оказываемся на юго-западной окраине мегаполиса. Кругом исполинские бетонные заборы еле видимых во мраке «брежневок», в которых прямоугольными светлячками горят окошки. Сергуня оставляет свою «тойоту» пастись неподалеку от подъезда, а сам скок на крыльцо, скользь в дверь – только я его и видел.
Нынче установить адрес человечка не составляет особого труда, так что я знаю точно: Сергуня привез меня к собственному дому.
Сижу в «копейке», как король на аменинах, размышляя об отвлеченных материях и отчаянно надеясь на авось. Но авось так и не появляется до самой ночи. Вздохнув, завожу мотор и убираюсь восвояси несолоно хлебавши.
На следующий день опять занимаю наблюдательный пост неподалеку от шестнадцатиэтажки, в которой живет Сергуня. Около десяти утра живописец показывается на улице, залезает в «тойоту», катит в сторону центра города и паркуется перед входом в гигантское серо-коричневое здание, где (на первом этаже) поместился солидный банк. И пропадает в подъезде.
Жду час, второй, третий, четвертый… Появляется. Снова засовывается в «тойоту». Но теперь его маршрут короче: парнишка заворачивает в ресторан восточной кухни. Затем возвращается в угрюмую громаду и снова застревает надолго. И я – со стопроцентной гарантией – смею предположить, что здесь его мастерская.
Возникает он уже в потемках и отправляется домой. Проторчав часа два под его окнами, уматываю в свое логово, к Анне, так ничего и не выяснив.
* * *
Это было вчера, во вторник, 14-го октября. Сегодня, проклиная Ионыча – коллекционера картин и юных жен, шкодливую актрисулю, Сергуню и себя самого, опять стерегу художника у подъезда его дома.
Утро мутное, пасмурное, дороги еще не высохли после ночного дождя. Наш Крамской номер два почему-то не выходит. И – в одиннадцатом часу – понимаю, почему.
Сначала во двор изысканно вползает «пижончик» и паркуется невдалеке от моей «копейки», затем из него выпархивает актрисуля и влетает в подъезд, за которым я наблюдаю. Теперь одежонка на ней – от курточки до сапожек – фиалковая.
Во мне взметается волна ликования. И надежда, которая дрыхла на дне моей души, лишь изредка сонно приоткрывая один глазок, просыпается «вся в пуху», как когда-то сказал поэт, и начинает тыркаться и колобродить. Или это пульсирует мое сердце?
Но радоваться пока рано. Сначала нужно выяснить, к кому отправилась актрисуля. А вдруг не к Сергуне? Сюрпризов от нее можно ждать любых.
Просачиваюсь в подъезд, взмываю в лифте на седьмой этаж, спускаюсь по лесенке на один марш и принимаюсь куковать возле окна на лестничной площадке. Сверху мне видна шикарная железная дверь Сергуниной квартиры цвета темного шоколада.
Так протекает час, начинается другой… медлительно, неохотно сочатся капелюшечки секунд, сливаясь в капли минут… Когда гулко щелкает замок, мое сердчишко вздрагивает и трепещет.
А вот и актрисуля!
В коридор она выпадает не одна, а вместе с художником. Они лобзаются на прощание. Актрисуля вызывает лифт и с гудением уплывает, а я сбегаю по лестнице, вылетаю на улицу и вижу, как моя отчаянная подопечная проворно подскакивает к своему «пижончику».
Изящная галльская легковушка устремляется вдаль. Чуть погодя, шпарю в «копейке» следом.
Покатавшись по городу, отобедав в ресторанчике и кое-что прикупив в бутиках, актрисуля заваливается в свой театрик, где служит Мельпомене или какой другой богине, в этих дамочках я разбираюсь слабо.
И мне вдруг до смерти хочется поглядеть на ее игру.
Почему бы, собственно, и нет?
Вечером покупаю билет. Мое место в последнем ряду, но зальчик такой махонький (на сорок зрителей или чуток побольше), что сцена совсем близко.
Водевиль из старинной жизни. Актерка – в соответствующем кринолине – играет женушку замшелого князя, в которую влюбляется красавец-фаворит стареющей Екатерины. Поначалу мне представление не нравится, исполняет роль актрисуля по-любительски, но потом водевильчик, забавный и горький, берет за сердце, и под занавес несчастную актерку становится жаль до слез.
Когда выхожу из театрика и окунаюсь в мелкий занудный дождь, темень и суету огней, в первую секунду ошалело озираюсь, не могу сообразить, куда попал. Потому что душой все еще там, в просвещенном восемнадцатом веке, где скачут фавны и нимфы и владычествуют любовь и печаль…
Опорожнив на сон грядущий бутылочку пива, принимаюсь обдумывать свои дальнейшие действия, с великим трудом шевеля мозгами. Связь между актрисулей и Сергуней – спасибо Наташе! – я установил. В том, что именно Ракитский подделал работу Крамского, вряд ли приходится сомневаться. Но это ни на йоту, как выражаются ученые – а они тоже порой выражаются, не приближает меня к самому этюду. Что с ним? В чьих он руках?
Вряд ли Сергуня хранит его для себя. Скорее всего, имеется заказчик. А если так, то либо художник уже передал ему украденное, либо еще не успел. В первом случае я могу спокойно возвращать Ионычу аванс (за некоторыми вычетами), потому как заказчика Сергуня назовет только под пытками, а это не мой метод. Ладно, будем надеяться, что этюд все еще у него.
Надо мне познакомиться с Ракитским поближе.
* * *
Утром звякнул ему: