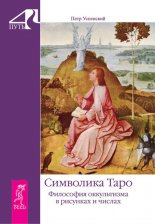Боль любви. Мэрилин Монро, принцесса Диана Диана Принцесса

– Вы играете на рояле?
– Да, занимался этим когда-то… – так, словно исполнение Второго концерта Рахманинова – мелочь, которой занимаются между делом по выходным…
В реальности все иначе, девушку не впечатлил концерт, поставленный на пластинке, а сам герой сумел сыграть на рояле лишь общеизвестную песенку, которую легко подыграла и его новая знакомая. «Ах, у меня даже мурашки по коже» теперь относилось вовсе не к Рахманинову.
И так во всем. Фантазия весьма страстна, реальная девушка, напротив, оставляет нового знакомого спать на неудобном диване в одиночестве, правда утром благодаря за доброту и сдержанность. Фантазер мысленно бьет морду сопернику, якобы соблазнившему его жену (тоже в фантазии), и в реальности отправляется на две недели за своей семьей.
Комедия нелепых положений, где вымысел очень тонко переплетается и контрастирует с действительностью. Все очень тонко (это же Уайлдер!), умно и точно. На экранную девушку легко накладывалась моя собственная судьба и мои перипетии, о которых знала вся Америка. Казалось, это Мэрилин, приехав в Нью-Йорк рекламировать зубную пасту, на время остановилась в квартире этажом выше. Когда позже кому-то из журналистов пришло в голову задать вопрос зрителям, как зовут героиню фильма, все опрошенные в один голос ответили:
– Мэрилин Монро.
Никто даже не заметил, что у Девушки сверху нет экранного имени, все уверенно называли мое.
Я действительно играла словно саму себя, да почему словно, я действительно играла Мэрилин Монро. Текст роли очень точно отразил мои интонации, сценарий, написанный Билли Уайлдером и автором бродвейской пьесы Джорджем Эксельродом, был просто подарком, не приходилось делать никаких усилий, хотя без сложностей не обошлось, я просила десятки дублей одной сцены.
Но Уайлдер был терпелив, позже я снималась у него еще. Билли очарователен и очень добродушен. А еще нас роднила неприязнь к Хэмфри Богарту. Незадолго до «Зуда…» Уайлдер снимал Богарта в «Сабрине» с Одри Хепберн и Уильямом Холденом. Богарт, как всегда, вел себя безобразно и страшно оскорблял Уайлдера. Не представляю, как и за что можно оскорбить Билли, на него даже рассердиться невозможно. Впрочем, когда позже мы снимали «Некоторые любят погорячее» («В джазе только девушки». – Прим. пер.), то не обошлось без обид и взаимных обвинений. А после фильма Уайлдер вообще сказал, что не рискнет еще снимать фильмы с моим участием, потому что уже не столь здоров и молод. После «Джаза» Уайлдер даже не пригласил меня на вечеринку по поводу окончания съемок.
Когда я приехала в Нью-Йорк на съемки «Зуда…», Ди Маджио там уже не было, он отбыл в Сан-Франциско, но ближе к окончанию работы над фильмом появился. Отношения между нами были таковы, что даже жить в одном номере отеля оказалось невозможно. Представляете мужа и жену, которые в одном отеле живут на разных этажах, общаются по телефону, и каждый разговор заканчивается швырянием трубки на рычаг!
Разве газетчики могли пропустить такую лакомую информацию? Подогреваемый разными слухами и сплетнями, Джо словно сошел с ума, решил, что у меня любовник, и принялся выслеживать с помощью Фрэнка Синатры. Но окончательно разрушили наш брак съемки знаменитого эпизода, когда ветерок из вентиляционной решетки метро при прохождении внизу поезда поднимает подол моего платья. Поверьте, Док, все было вполне пристойно, это потом на рекламных плакатах изобразили черт-те что, в действительности камера располагалась чуть выше моей головы, и платье слегка приподнималось над коленями. Увидеть трусики можно было только сидя под этой самой решеткой.
Мы назначили съемку на полночь, чтобы избежать ненужного ажиотажа, но это не удалось. Откуда публика узнала о съемках, остается только догадываться, но толпа собралась такая, что после нескольких попыток их пришлось отменить, гвалт собравшихся за оцеплением заглушал наши голоса. Мы переснимали сцену в студии, это можно было сделать сразу, подозреваю, что ажиотаж создан сознательно. Как и присутствие рядом Ди Маджио. Почему они с друзьями выбрали именно этот ресторан и кто сказал моему мужу, что на улице толпа разглядывает трусики его супруги при вздымающемся платье? Говорят, некоторое время бедный Джо молча наблюдал это безобразие, а потом просто бросился прочь, как чуть раньше со съемочной площадки во время моего пения.
Ну да, Джо не выдержал и снова пустил в ход кулаки… На следующий день пришлось замазывать синяки, правда, никто не требовал объяснений, откуда они появились.
Утром Ди Маджио уже не было в Нью-Йорке, наш брак перестал существовать
А все газеты были заполнены фотографиями красотки с вздымающейся юбкой. Реклама фильму обеспечена. Кто-то постарался, чтобы съемки, в общем-то, безобидной сцены превратились в скандал. Наш с Джо развод тоже оказался частью рекламы.
Я была просто уничтожена, потому что, играя в фильмах по своему выбору, все равно оказывалась достоянием студии, которая могла выдать меня замуж или развести, устроить из моей жизни скандал или рекламный ролик. Даже став звездой, я все равно была студийной вещью, пусть и получше оплачиваемой.
Так не могло продолжаться!
В следующий раз я расскажу Вам, как пыталась стать самостоятельной.
«Мэрилин Монро Продакшнз»
Самостоятельность
Привет, Док!
Я не знаю, что рисовать… Можно я просто расскажу, как объявила войну «Фоксу» и выиграла (или проиграла)?
Еще когда я воевала с «Фоксом», отказываясь играть в «Розовом трико», меня поддерживал Милтон Грин. Милтон – фотограф, очень хороший фотограф, но он в немалой степени авантюрист, снедаемый страстью стать сверхуспешным продюсером. Грин решил, что нашел золотую жилу, вознамерился выпустить целый альбом моих фотографий, но главное, он убеждал меня порвать всякие отношения со студией.
– Милтон, не эта студия, так другая, какая между ними разница? В «Коламбии» нет Занука, так есть Кон, к тому же в каждой студии своя Блондинка.
– Совсем порви со студиями. Давай организуем собственную компанию.
– Самим снимать фильмы?! Ну нет, на это я не соглашусь никогда!
– Не фильмы снимать, а просто самим вести дела, самим продюсировать твои фильмы.
– У меня нет таких денег.
– Найдем.
– Но у меня контракт со студией, я не смогу ничего играть, пока не выполню все обязательства перед ними, а уж Занук постарается, что они были кабальными.
Грин долго убеждал меня, обещая содержать до тех пор, пока не разрешатся все споры со студией:
– Мы включим это отдельным пунктом в контракт.
Я очень не хотела сниматься на «Фоксе», пока там Занук, даже после того как по окончании съемок в мою честь студией был организован роскошный прием (на нем я познакомилась с Кларком Гейблом!). Занук действительно быстро показал, что прием и хвалебные слова в мой адрес для него лично ничего не значат, тут же предложив одну за другой три совершенно пустые роли в пустых фильмах. Я категорически отказалась, поскольку это снова были алчные белобрысые дуры. Хватит с меня! То, что теперь мне давали прочесть сценарий, ничего не меняло.
Кстати, все три фильма были сняты с другими актрисами, и все три провалились в прокате.
Именно на это и рассчитывал Грин. Он утверждал, что из-за моего отсутствия студия ежегодно будет терять миллионы и быстро согласится с новыми условиями. Меня не слишком волновали деньги, если я и добивалась повышения оплаты, то только потому, что другим платили в несколько раз больше, даже обещанных ста тысяч долларов за игру в «Зуде…» не было. Смешно, звезда, привлекающая толпы любопытных просто из-за съемки эпизода, приносящая студии миллионы, все еще получала по тысяче долларов в неделю, в то время как оплата уже угасших звезд оказывалась в десятки раз больше. Где справедливость?! Не хотите платить – не требуйте от меня игры в чем попало!
Милтон Грин давил и давил, но ему не удалось бы убедить меня сбежать из Голливуда, если бы не… Артур Миллер.
С самого начала нашего брака с Джо Ди Маджио стало ясно, что, кроме постели, нас рядом не держит ничто. Джо ненавидел мою работу, моих друзей, всех, кто мне помогал. Возможно, он и был прав, называя их акулами, которые жируют на моем теле, но я не могла обойтись без Наташи Лайтесс, без того же Милтона Грина, без Сиднея Сколски, много без кого, и далеко не все они жили за мой счет или благодаря работе на меня. Кстати, Занук не раз напоминал, что помимо моих услуг студия щедро оплачивает и моих постоянных помощников, советовал мне просто разогнать всех и забрать себе их зарплату. Что-то в его совете было…
Но как бы ни раздражало Ди Маджио все связанное с Голливудом, а меня, связанное с рекламой ресторанов, открытых им совместно с друзьями (туда приходилось ходить, привлекая публику), а также рекламой бейсбола, развело нас не это. Нас действительно ничего не объединяло, кроме секса, а как раз он никогда не был для меня определяющим.
Иногда, глядя на мужа, уткнувшегося в экран телевизора или сидя в одиночестве дома, я задавала вопрос: что я вообще делаю рядом с Джо? Нет, он очень хороший, надежный (когда не дерется), но нам не о чем даже поговорить. Я всегда любила читать, а познакомившись сначала с Наташей Лайтесс, а потом с Михаилом Чеховым, научилась читать не что попало, а хорошую литературу. Вот этого Джо не понимал совершенно. Если фильмы еще куда ни шло, то книги Ди Маджио интересовали куда меньше. Я пыталась привить любовь к чтению, покупая и подсовывая хорошие книги – они оставались нераскрытыми, ставила пластинки с хорошей музыкой – звук приглушался, приносила альбомы с репродукциями – Джо только морщился в ответ. «Метрополитен»? А что, разве в Нью-Йорке больше некуда пойти?
Думаю, Джо мучился от меня не меньше, ему претили не только мои вульгарные экранные образы, не только ревущие толпы, готовые вырвать клок волос на память, как было в Гонолулу, не только мое катастрофическое неумение быть собранной или содержать дом в порядке, но и необходимость интересоваться рядом со мной тем, что его совсем не интересует. Я не осуждаю, конечно, можно прожить жизнь, не имея понятия о Достоевском или Стейнбеке, действительно не любя или даже просто не слышав Второй концерт Рахманинова, можно ничего не знать о Гойе и не подозревать о существовании Джойса, но при этом быть хорошим человеком. Но если есть возможность, то почему бы не почитать или послушать?
Я все чаще вспоминала об Артуре Миллере, с которым уж точно есть о чем поговорить, который знает, как именно пишет Джойс и чем хорош Сэндберг. Постепенно стало казаться, что рядом с Миллером я смогла бы раскрыться не хуже, чем на занятиях с Мишей Чеховым. Артур должен понять мою любовь к поэзии, к книгам, он вообще должен меня понять…
Но Артур был в Нью-Йорке, и после развода Нью-Йорк стал ассоциироваться у меня со свободой. Огромный город, в котором легко затеряться, особенно если не подчеркивать свою внешность, где, надев парик или просто косынку, можно ходить по улицам, не рискуя быть растерзанной сумасшедшей толпой. Мне все больше казалось, что время Голливуда прошло, что если уехать в Нью-Йорк, то можно начать жизнь сначала, но только не такую, как предлагал Ди Маджио, – с сидением у телевизора и бесконечными ужинами в определенных ресторанах, а действительно наполненную.
Милтон Грин предложил иначе: не уехать (студия не отпустит, не даст даже отпуск курице, несущей золотые яйца), а удрать, скрыться и некоторое время пересидеть, пока адвокаты будут утрясать дела со студией.
Именно три никчемные роли, предложенные мне Зануком, упорно не желавшим замечать ни моей звездности, ни моих способностей, подбросили хворост, подлили масла в огонь моих сомнений. Я решилась.
В черном парике и широкой одежде я сбежала сначала к своим старым знакомым Кэрроллам, которые приняли бывшего несчастного котенка, а теперь звезду, правда не ставшую от этого счастливее, а потом к Гринам в Коннектикут и в Нью-Йорк.
Боже, какой поднялся скандал! Люсиль Кэрролл ежедневно приносила кипы газет, заголовки которых не отличались оригинальностью: «Куда девалась Мэрилин?!»
Док, понимаете, это была победа не только над студией или Зануком, но и над Блондинкой во мне. Куда девалась Мэрилин? Нет, она не пряталась, она умерла, ее больше не было! Я приказала, и Блондинка послушно свернулась клубочком в дальнем уголке. Во всяком случае, мне казалось так. Я испытывала настоящую эйфорию от ее послушания, оказалось, что я могу не давать ей воли, действительно прятать и лишь вытаскивать на время, я могу снимать маску Блондинки, как снимают маску клоуна или ослиные уши после спектакля.
Люсиль, которая терпеть не могла Занука, с явным удовольствием пересказывала голливудские новости, ведь главный удар пришелся именно на моего давнего обидчика. Наши с Грином адвокаты нашли слабые места в моем давнишнем контракте, обвинив студию в навязывании мне безнравственных ролей, которые сильно вредят моему имиджу и оскорбляют меня как личность, а ведь каждый человек имеет право на защиту своего достоинства. К тому же мы создали новую компанию, в которой акции распределялись почти поровну. Правда, тут я воспротивилась, когда Грин пожелал иметь 51 %, оставив мне 49 %. Нет, мне надоело быть в положении управляемого, я хотела наоборот. В конце концов Грин согласился, и у меня образовался перевес в два процента. Это смешно, потому что 51 % от нуля – это ноль, а денег у нас не было совсем. Оставалось надеяться, что Милтон прав и нам легко их ссудят при необходимости.
Но пока мы ничего предпринимать не могли, ведь любые съемки грозили бы огромными штрафными санкциями со стороны студии.
У нас не было ничего: ни денег, ни фильмов, ни предложений их снимать, ни права делать это, но все равно это была свобода от студии! Нам казалось, что свобода.
Я разорвала отношения с Наташей, они уже давно тяготили обеих, мне надоело зависеть от каждого ее слова, одобрения или неодобрения. Тем более я чувствовала, что профессионал сцены Наташа мало приспособлена к съемочной площадке, часто не помогала, а мешала съемкам, из-за ее диктата у меня портились отношения с режиссерами, ее ненавидели последовательно все, с кем я жила и дружила. Сама Наташа отвечала тем же, она терпеть не могла Хайда и Ди Маджио, Сколски и Каргеров, Слетцера и, конечно, Гринов. Удивительно, но, нахваливая Мишу Чехова, она очень ревниво относилась и к моим занятиям у прославленного мастера.
Я хотела избавиться от всех и всего, что связывало меня с Голливудом, потому что хотела избавиться от Блондинки. Если бы я объявила об этом вслух и на студии, меня упекли бы в психушку еще тогда. Избавиться от образа, который принес такие деньги и славу?! Правда, деньги он принес студии, а слава часто выходила не тем боком и мешала мне стать настоящей актрисой.
Док, сейчас мне кажется, что дни, прожитые в Коннектикуте на ферме у Гринов, были одними из самых счастливых в моей жизни. Там не имелось роскошных бассейнов, не было фоторепортеров, камер, противной команды «Мотор!», там был отдых и душевное спокойствие. Никакой косметики, простая одежда, простая еда, прогулки в лесу и по полям, возня с детьми Эми и Милтона Гринов, болтовня с кухаркой, а еще книги… О… это особое удовольствие, потому что у Гринов оказалась прекрасная библиотека.
А еще были поездки в Нью-Йорк на обычной машине в черном парике и темных очках, хотя довольно скоро оказалось, что и без очков меня в музеях и галереях Нью-Йорка мало кто узнает, вернее, не узнает совсем. Я купалась в безвестности, как раньше купалась во всеобщем восхищении. Я снова была Нормой Джин, только теперь знающей цену успеху и славе, я не хотела славы Блондинки, я хотела просто отдохнуть.
Удивительно, но я вдруг поняла, что мне очень нужен… Ди Маджио! Понимаете, странно, но я в равной степени нуждалась и в умном Артуре Миллере, и в грубом Джо Ди Маджио. Мечта о Миллере все больше приобретала реальные очертания, но первым, с кем я связалась, приехав в Нью-Йорк, был Джо.
За это время адвокаты обсудили положение дел со студийными адвокатами, Грин оказался прав, простой Мэрилин Монро слишком дорого обходился «Фоксу», чтобы студия могла себе позволить не обращать на меня внимания. Только фильм «Зуд седьмого года», вышедший на экраны в 1955 году, принес «Фоксу» большие деньги, остальные были убыточными. Это не могло не вызвать уступчивость студии.
Грин ликовал, мы создали свою компанию «Мэрилин Монро продакшнз», контракт такого не запрещал, и выдвинули «Фоксу» собственные условия, которые Занук сначала счел неприемлемыми. Я не желала сниматься на студии более чем в четырех картинах за следующие семь лет, к тому же требовала выбора и утверждения сценария, оплата должна быть не меньше, чем у других звезд, к тому же я требовала права сниматься и в фильмах собственной компании.
Занук над всеми этими требованиями только посмеялся. Он был уверен, что не играть я не смогу, будучи разведена с Ди Маджио, я потеряла источник содержания, а потому нуждалась в работе. Но он не знал, что Грин действительно решил субсидировать меня, пока компания не встанет на ноги.
Пока мой враг в «Фоксе» скрипел зубами, я отдыхала. Занук не учел еще одного: меряя всех своей меркой, он думал, что я очень дорожу образом белобрысой идиотки, принесшим мне такую известность. Даррил Занук забыл о том, что Блондинка – порождение в равной степени мое и студийное, образ вульгарной крашеной особы создали студийные костюмеры, гримеры, сценаристы и сам Занук, растиражировала его студия, а я сама давно мечтала от него избавиться, а потому за такую известность обеими руками не держалась.
Что касалось денег, то и тут Занук запамятовал, студия никогда не платила мне много, даже за последний фильм «Зуд седьмого года» обещанные сто тысяч долларов так и остались устным обещанием, что, кстати, позволило моим адвокатам напоминать о нечестности студии по отношению к актрисе, приносящей такие дивиденды.
Занук стирал себе зубы, а я в Нью-Йорке занималась своими делами. Пока конфликт не разрешен, не определены условия моей дальнейшей работы, я не могла сниматься ни у кого другого, но имела возможность не появляться на студии. «Зуд…» имел грандиозный успех, огромные картонные фигуры Девушки сверху с поднятой порывом ветра юбкой возвышались на каждом шагу, что позволяло мне вздыхать перед репортерами:
– Видите, что они со мной сделали…
К осени, посчитав прибыли и прикинув убытки, на студии были вынуждены признать, что с Мэрилин выгоднее договориться, причем без обмана. Начались переговоры, приведшие к нашей полной победе. Контракт был заключен на наших условиях: четыре фильма за семь лет, восемь миллионов гонорар, обещанные за «Зуд…» сто тысяч вернуть с извинениями и право на съемки в фильмах своей компании!
Но главным для меня стали даже не деньги и новые права, а известие, что Даррил Занук подал в отставку! Его место занял Бадди Адлер. Победить Занука!.. О таком Норма Джин, обивавшая пороги студии, не могла и мечтать! Я визжала от восторга и скакала по комнате на одной ножке. На таких условиях можно и в «Фокс» возвращаться.
Грин перепугался, решив, что я откажусь от своей компании, пришлось его успокаивать. Если честно, то я была бы не против, но предавать Милтона не хотелось.
К этому времени ему и так стало нелегко. Нет, существовавшая только на бумаге компания пока не требовала никаких забот, и Милтон занимался фотографиями, но не успела у него закончиться война со студией в Голливуде, как началась другая – тайная – в Нью-Йорке, тоже со студией, только актерской, но тоже из-за меня. Схлестнулись те, кто претендовал на меня и мое имя, но не студии, а Страсберги и Милтон. Они просто не переносили друг друга!
Знаете, Док, в чем главная ошибка людей, имевших со мной дело? Меня все считали глупой и неспособной понять, что происходит, а если потом я вдруг поступала как-то «не так», проявляла разумный подход и даже хитрость, поражались. Почему все думают, что я не понимаю, когда меня пытаются использовать, тянут куда-то не туда или загоняют в рамки? Я понимаю, что я слишком пассивна и иногда просто ленива, чтобы давать отпор, заступаться за себя. Именно поэтому мне очень нужен рядом человек, который делал бы это, нужен защитник.
Таким защитником попытался стать Ди Маджио, но он слишком буквально понял свою роль, попытавшись разогнать от меня всех. Защитником мог бы стать Артур Миллер, но он был слишком занят своей собственной персоной, никогда не считая меня равной, а потому не полагая себя обязанным защищать. Но об Артуре и его защите позже, пока о Страсбергах.
У меня началась новая жизнь, кроме смены места жительства я сменила почти всех окружающих людей, я Вам уже рассказывала. В Нью-Йорке познакомилась со многими очень интересными людьми, со многими восстановила знакомство или сделала его более крепким. Но теперь меня окружали не дельцы от кино, а настоящие интеллигенты. Ди Маджио с ними было неинтересно, он предпочитал в таком обществе не появляться, такие насмешники, как Трумэн Капоте, например, в бейсболе не разбирались совершенно, а на неприятности вполне могли нарваться.
Я познакомилась, например, с Карлом Сэндбергом, чью биографическую книгу об Аврааме Линкольне изучила по совету Артура Миллера почти досконально. В это мало кто мог поверить, но это так.
А вот Карен Бликсен, путешествовавшая по Америке со своей книгой, пожелала познакомиться со мной сама! Очень интересная дама, одни умные темные глаза чего стоят. И книга об Африке у нее великолепная, она столько пережила, столько прочувствовала, столько знает…
(Рисунок утерян, что на нем было изображено, не известно. – Прим. пер.)
Это не рисунок моего детства, нет. Мне попала на глаза книга Карла Сэндберга «Рутамята», она детская, но совершенно замечательная.
Уже очень поздно, и я хочу спать даже без горсти таблеток снотворного, но все равно расскажу Вам о Карле Сэндберге. Почему мне в детстве не прочитали его «Рутамяту»? Без этой книги невозможно детство. Если Вам тоже не читали, немедленно найдите ее и прочтите своим детям. Док, у Вас есть дети? Если нет, запомните Карла Сэндберга и его «Рутамяту» и обязательно подарите малышам, когда будут.
Он добрый, он очень, очень, очень добрый. И стихи у Сэндберга замечательные.
Впервые о Карле Сэндберге я услышала от Артура Миллера. Он отзывался о биографии Авраама Линкольна, написанной Сэндбергом, почти восторженно. Если вспомнить, что я сама была в восторге от Миллера, то это лучшая рекомендация. Немедленно по совету Артура купив толстенную биографию, принялась читать. Если честно, то я редко дочитываю всю книгу до конца, для меня главное не то, что произойдет, а как это происходит и почему. Ведь если вдуматься, то к чему знать окончание какой-то истории, интереснее понять ее героев и пытаться представить себе, что же может произойти с ними дальше.
А еще мне нравятся хорошо построенные фразы. Я не знаю, как это называется правильно, но если слова ловко складываются одно за другим в красивую цепочку и при этом фраза осмысленна, это очень красиво. А сюжет… нет, сюжет для меня не главное. Я читаю ради самого чтения. Наверное, это плохо, Артур говорил, что при таком чтении теряется почти вся информация. Он прав, но заставить себя задумываться над каждой прочитанной фразой не могу. Если начну это делать, то попросту стану учить книгу, как роль, а я «проглатываю» книги, как говорила Наташа.
Но я хотела рассказать Вам о Карле Сэндберге… Мы с ним вполне подружились, Карл даже учил меня декламировать свои стихи и (скажу по секрету) немного хвалил мои!
Для меня Сэндберг – прекрасный пример того, как человек может получить знания сам, ведь он даже не окончил школу и был вынужден работать с 13 лет. Конечно, я не слишком образованна сама, но думаю, что человек должен очень много знать, чтобы написать трехтомную биографию Авраама Линкольна и получить за нее Пулитцеровскую премию.
Но лучше всего Сэндберг умеет представлять себя чем-то и выражать это в стихах, например медным проводом, по которому днем и ночью пробегают человеческие телефонные разговоры обо всем: семье и деньгах, любви и войне, жалости и мечтах… Я попыталась представить таким проводом и себя тоже. Сколько всего можно понять, если размышлять подобным образом, но чтобы писать такие стихи, нужно многое пережить и увидеть самому.
Сэндберг пережил и увидел, он любит фольклорную музыку и со своим банджо в руках объездил всю Америку, он знает, что это такое.
А еще он очень точно описал ад и рай. Я сейчас прочту:
- НЕБЕСА И АД
- Для каждого небо и ад на других не похожи…
- Одним – уютное, чистое, синее небо.
- Другие без бурь и не мыслят его.
- А ад? Кому одиночка, другим заводские круги,
- а третьим дом, кухня и дети.
- Что ад для меня?
- Это там, где по свету гуляют лгуны,
- что набиты битком красивыми, ловкими фразами.
- Что ж, каждому в мире свое…
Я не хочу сейчас рассуждать о моем аде и рае, но как-нибудь обязательно это сделаю.
Знаете, как Сэндберг замечательно сказал о внешности: «…ее не сбросишь с себя никогда…» Не помню все стихотворение, хотя стоило бы, в нем есть такие слова: «Не обменивается, пока не износится».
Вот уж верно, внешность дана навсегда, можно только следить за ней или, наоборот, портить, можно, конечно, улучшать разными операциями, диетами, макияжем. Но все равно основа та, что получена при рождении. Если у человека приплюснутый нос или широкое лицо, то, как бы ни старались хирурги, они не сделают лицо узким, а нос с большой горбинкой. Конечно, мое лицо тоже подправляли, это заставил сделать еще Хайд. Тогда мне убрали «картофелину» на кончике носа и добавили немного морской губки к нижней челюсти, чтобы овал лица был мягче и ровнее. Губку позже пришлось поправлять, потому что она взяла и растворилась.
Но в остальном внешность моя. Я о ней забочусь постоянно, если этого не делать, все быстро придет в негодность. Это только кажется, что красивой быть легко, в действительности очень трудно. И только кажется, что у Мэрилин Монро идеальная внешность. Мне приходится тратить очень много времени, чтобы нанести правильный грим, не доверяю это делать другим, разве только для съемочной площадки, потому что там грим иной, не такой, как всегда. Если не для съемок, все выполняю сама, никто лучше меня не знает достоинства и недостатки моего лица, и никто не жалеет его больше, чем я сама.
Знаете, у актрис так быстро стареет кожа лица, потому что на него наносится большое количество грима, и наносится не всегда бережно. Гримеру, даже самому замечательному, некогда и неудобно осторожно обрабатывать каждый дюйм, в результате морщины… У меня тоже, если хорошо присмотреться в зеркале, их видно, приходится тщательно замазывать каждую, но делать это так, чтобы грим не был заметен со стороны. Это долго, и меня всегда ругают за опоздания.
Если бы больше обращали внимания на мои актерские способности и на мою игру, я тоже меньше бы заботилась о внешности, но все видят только внешность Мэрилин Монро, приписывая мне свои собственные представления о моем внутреннем мире. Я устала доказывать, что я не глупая Блондинка. Приходится выглядеть так, как от меня того ожидают.
Вот так, начала рассказывать о Сэндберге, а закончила собственными морщинами! Просто его стихотворение о внешности напомнило о моей собственной. Это эгоизм, Док? Его надо искоренять?
Я попробую подумать над этим…
Благодаря столь долгим рассказам у меня получается не короткая исповедь, а настоящая автобиография. Я однажды наговаривала Бену Хехту, но там все испоганилось, потому что рассказывать, зная, что завтра каждое слово станет известно всем, очень трудно, то и дело сбиваешься с правды на легенду. Не думайте, что я и Вам рассказываю все, во-первых, это слишком долго и много, а во-вторых, не все нужно выносить на суд даже такого тайного слушателя, как Вы.
Док, а Вы вообще слушаете мои рассказы? Мне кажется, что нет. Или Вы слишком хороший актер и не показываете свои мысли обо мне.
Но это Ваше дело, Вы сами предложили мне выговориться. Наверное, не ожидали, что разговор будет столь длинный и обстоятельный? Представляю, сколько денег можно было бы получить за эти разговоры. Если хотите заработать, валяйте, я согласна, но только с одним условием: публиковать после моей смерти! Не бойтесь, осталось недолго, я всегда знала, что проживу короткую жизнь и умру молодой, как Джин Харлоу. Молодость прошла, а я все жива, значит, скоро.
Зачем жить долго? Актрисе нельзя стариться, когда видишь морщинки на лице и понимаешь, что они скоро превратятся в настоящие глубокие морщины, которые невозможно замазать гримом, а с экрана с какой-нибудь старой пленки на тебя будет смотреть твое же молодое и чистое лицо, становится страшно. Нет, актрисы не должны жить долго! Однажды я сказала это вслух, Артур посмеялся:
– А кому же тогда играть старух?
– Никому! Старух хватает в жизни, чтобы их переносить еще и на экран.
Нет, он, конечно, прав, старух тоже нужно кому-то играть, кроме того, есть актрисы, которые старятся как-то красиво, достойно. Но я к таким не отношусь, а потому умру молодой.
Что-то у меня мрачные мысли. Чтобы их развеять, пришлось налить себе шампанское. Вы любите шампанское? Я очень! Могу пить его фужерами и даже лекарство запивать. Все твердят, что шампанское с утра верный путь к болезням желудка, но меня это не берет, разве что поджелудочную пришлось оперировать. И желчный пузырь тоже… И вообще, я куда большая развалина, чем кажусь, когда вспоминаю, что я Блондинка. Видите, и в этом есть своя польза…
Ладно, вернемся в Нью-Йорк. Но только потом, сейчас я хочу еще шампанского. За Вас, Док! Лучшего собеседника у меня еще не было. Вы прелесть!
Привет, Док.
Я вчера была несколько… не в себе…
Вместо того чтобы рассказать Вам о Страсбергах, которые сыграли в моей жизни огромную роль, вдруг начала рассуждать о морщинах, внешности и старении актрис.
Вернемся к Страсбергам, Вы не против? Как Вы можете быть против, если не слышите меня? Это очень-очень удобно, Вы не можете меня заткнуть, простите, вежливо попросить помолчать немного, Вы же вежливый, наверняка вежливый, как Артур Миллер. Джо, если его что-то злило, просто орал, чтобы заткнулась, а Артур морщился и делал вид, что слушает мои рассуждения, но сам ничего не слышал. Лучше бы заорал, я бы понимала, что ему противно. Хотя я и так знала, когда противно. А вот я на него орала, еще как орала, но вывести из себя так и не удалось. Артур Миллер – интеллигентный кремень.
Ладно, черт с ним, пусть живет, о нем расскажу потом, а то я никогда не доберусь до Ли и Полы. Кстати, надо изменить завещание, потому что я почти все завещала им. Этого всего не так много, но я лучше отдам в приют. Или оставлю Ди Маджио, пусть переведет в свой Фонд помощи нуждающимся. Да, у него есть такой, он у нас благородный, хотя неинтеллигентный. Это лучше, чем быть неблагородным интеллигентом? Или лучше быть благородным и интеллигентным одновременно?
Док, можно я пойду приму ванну и немного приду в себя, а то снова говорю что-то не то… Видите, как удобно, сейчас нажму кнопку и отправлюсь валяться в ванне, а потом вернусь и снова буду болтать все подряд о своей жизни…
А вдруг я не отдам Вам свои записи? Ну и что, что уже несколько пленок отдала, а остальные не отдам, и все тут!
Простите, Док, я еще не проснулась или не протрезвела. Вчера было выпито слишком много шампанского.
Я пришла в себя, извините. Наверное, это неприятно, больше не буду браться за магнитофон, если чувствую себя не очень…
Я хотела рассказать Вам о Страсбергах. Наверняка Вы не знаете Ли и Полу.
Вообще-то меня с ними мог познакомить Элиа Казан, но этого приятеля я интересовала только в постели. К тому же Казан уже познакомил меня с Артуром и решил, что для Блондинки и этого многовато.
У Ли Страсберга знаменитая актерская студия, в которой занимались многие прославленные актеры и актрисы мира.
Я попала к ним в студию, когда жила в Нью-Йорке, сбежав из Голливуда.
Мне очень не хватало занятий и просто умных бесед с Мишей Чеховым, как свежего воздуха не хватало, тем более он умер в 1955 году. Обиженная Наташа осталась в Голливуде, мы расстались не очень красиво, возможно, в этом есть моя вина, нужно было объяснить, что я не намерена тащить за собой в новую жизнь старые грехи. К тому же ее присутствие сильно раздражало всех вокруг меня, просто бесило, да и мне самой Наташа больше не могла ничего дать, она ходила по кругу, в котором я знала уже каждый шаг. Наташа не росла сама, не позволяя делать этого и мне.
Хотя я в те месяцы ничего не играла, наставник, хотя бы духовный, мне был нужен.
К Ли Страсбергу и его методу погружения относились по-разному. Очень многие считали Ли настоящим шарлатаном, но было немало и тех, кто почти боготворил. Я относилась ко вторым.
Почему «относилась»? Потому что сейчас не отношусь. Страсберги талантливы, но у Ли такой же холодный ум, как у Артура Миллера. К тому же, усердно занимаясь в студии, я окончательно разучилась делать хоть что-то, а все заверения Ли и Полы в моей гениальности и способности стать второй Дузе не больше чем пустышка, даваемая детям, чтобы не плакали. Зато я окончательно потеряла уверенность в себе, ничего не могу без ежеминутной поддержки, стала нервной и даже злой.
Пять лет я во всем подчинялась диктату Ли и его жены Полы, которая ездила со мной на съемки и присутствовала на площадке, как раньше Наташа Лайтесс. И так же, как Наташу, Полу ненавидят режиссеры и играющие со мной актеры. Страсбергов ненавидит Милтон Грин (а они его) и Артур Миллер (тоже взаимно). Я не пытаюсь понять почему, это их дела. Пять лет я пыталась, присутствуя на занятиях студии или слушая советы Ли и Полы, забыть все, чему учила Наташа, забыть о существовании актерской техники и играть методом погружения.
По мнению Ли, нужно настроиться на образ, который ты намерен сыграть, погрузиться в его сущность, только тогда возникает полное слияние с этим образом, тогда придут нужные жесты и интонации. Слова приводили меня в восторг, потому что подобное я слышала у Миши Чехова, ему удавалось погружаться в образ почти мгновенно, несколько секунд, и перед тобой был уже совсем иной человек… Но я-то так не умела и не научилась. Постоянно помня о необходимости погружения, я пропускала все остальное, забывала текст, последовательность действий, жестов, не могла сосредоточиться.
Почему никто не объяснил, что метод не годится для кино, что это театральный метод, а скорее, вообще метод этюдов. Актеру на съемочной площадке некогда и негде погружаться, он должен играть с лета, все вокруг меня это умели, я – нет. Повторяю: в театре можно войти в роль и не выходить из нее до конца спектакля, на съемочной площадке этого не сделаешь. Мои отвлечения и консультации с Полой воспринимались как каприз или простое неумение играть. Каждый дубль становился все мучительнее.
Пола старалась помочь, она очень старалась, но что она могла, если для погружения нужно время, а его нет. Дальше замкнутый круг: нас торопят, я нервничаю, никакого погружения не происходит, значит, по мнению Ли, играть нельзя, но простаивать тоже нельзя, я снова нервничаю… В конце концов режиссер орет, обещает больше никогда не снимать меня, дубль следует за дублем, и только на двадцатом я чувствую, что погрузилась. Однако к этому времени все остальные уже выжаты как лимоны, никто не хочет и не может не только играть, но и просто держаться на ногах. Виноватой объявляют меня, всеобщая ненависть обеспечена. Капризная Блондинка, не способная сыграть простую сцену несколькими дублями, опять едва не сорвала съемку.
Купаться во всеобщей ненависти совсем не то, что купаться во всеобщей любви. Я долго не понимала, почему это происходит, а когда осознала, удрала из Нью-Йорка так же, как раньше из Голливуда. Нет, метод погружения не для меня, нервов не хватит.
Но пять лет я всецело зависела от Страсбергов и таблеток, которыми меня щедро снабжали Милтон Грин и Пола. Она утешала, кормила снотворным, заслоняла грудью от всех обвинений и невзгод, но вела куда-то не туда.
Док, я безумно благодарна Ли и Поле за учебу, за заботу, за постоянную готовность прийти на помощь, всегда старалась оплатить любые их услуги, но платила не только деньгами, но и своей зависимостью. Я очень зависимый человек, и если опытный наставник говорит перед всеми, что я ничего не смогу без их помощи и поддержки, у меня подкашиваются ноги. После таких заявлений кто угодно не смог бы.
Как избавиться от зависимости? Ведь я же марионетка, действую только по подсказке, только по чьему-то движению руки. Актриса не может быть столь зависимой и беспомощной. Я понимаю, что Вы не актер и никакого отношения к этой профессии не имеете, но ведь Вы же психоаналитик, скажите, как научиться жить самостоятельно, без ежеминутного наставничества не только в игре, но и во всем остальном? Я попала в полную зависимость не только от Страсбергов, но и от психоаналитиков, Гринсону приходится подсказывать, что мне думать, как относиться к тому или иному вопросу.
Но ведь несамостоятельной, неспособной ничего решать самой стала моя мама. Неужели меня ждет такая же участь?!
Артур Миллер. Надежды и потери
Артур Миллер – мой третий муж. И последний? Почему-то кажется, что больше не будет, разве что вернуться к Ди Маджио…
Я не спрашиваю, знаете ли Вы Артура Миллера, кажется, его знает вся Америка, вся грамотная Америка, умеющая читать и считающая себя интеллигентной. У Артура Пулитцеровская премия, его пьесы идут в театрах по всему миру, он умный. Очень умный. У Артура есть все, чего мне так не хватало в остальных мужчинах. Но у него один недостаток – разум сильнее сердца. Может, это достоинство, я не знаю, но для меня недостаток.
Хорошо, когда человек умен, когда он способен разобраться в том, что происходит с тобой или даже с собой, умеет разложить по полочкам чувства и мысли, увидеть их со стороны. Это хорошо для психоаналитиков, но не для мужа, тем более моего…
Было время, когда я еще не полностью надела эту маску и надеялась справиться с ней. Тогда я и встретила Артура Миллера. Он приехал в Голливуд со своей пьесой, не буду утомлять Вас рассказом о перипетиях, в результате которых они с Элиа Казаном оказались в разладе, а пьесу Гарри Кон не взял, испугавшись прокоммунистической направленности. Миллер отказался изменять что-либо, что повлекло немалые проблемы, а с Казаном они в результате даже поссорились, но это не сразу.
Я тогда была любовницей Казана в надежде, что он найдет мне роль в каком-нибудь своем фильме. Не удалось, и роль не получила, и с Элиа расстались.
Между нами с Миллером в момент первого прикосновения вспыхнула искра, но Артур был женат и, хотя семья уже практически распалась, делал отчаянные попытки что-то склеить и сохранить, даже купил дом и сам принялся пристраивать к нему веранду.
Я не могла представить интеллигентного Артура Миллера, умного очкарика, с молотком в руках и гвоздями в зубах. Но меня меньше всего интересовала веранда Миллера и куда больше он сам. Казалось, вот такой человек сумел бы оценить по достоинству меня настоящую, хотя я прекрасно видела, что он очарован оболочкой.
Но это же только временно, пока он не понял, что за внешностью сексапильной Блондинки скрывается душа Нормы Джин, той, что читает Достоевского и после совета самого Артура спешно купила трехтомник Карла Сэндберга о Линкольне и проштудировала биографию этого президента, как учебник по выживанию. Он увидит, что я интересуюсь серьезными вещами, люблю серьезную литературу, и хотя плохо в ней разбираюсь, но учусь, что я люблю читать и стараюсь наверстать упущенное за годы бесконтрольного чтения….
Казалось, что Артур все поймет, как только мы окажемся рядом.
Он не пожелал стать просто моим любовником, пока существовала его семья, пока у них с Мэри была хоть какая-то надежда сохранить брак. Не вышло.
А я успела за это время побыть женой Джо Ди Маджио.
Когда мы снова встретились с Артуром в 1955 году в Нью-Йорке, я не помнила себя от счастья, у меня начиналась новая жизнь! Понимаете, я развязалась с Голливудом, во всяком случае, мне тогда казалось, что это так. Собственная компания с Грином создавала видимость свободы и заработков. Переезд в Нью-Йорк приближал меня к совсем другой культуре.
А еще роман с Артуром Миллером, который затеял-таки развод, явно намереваясь на мне жениться. Ему понадобилось, как и мне когда-то с Догерти, немного пожить в Неваде, но Миллер устроился не в Лас-Вегасе, а очень скромно подальше от чужих глаз, чтобы писать в тишине и покое.
Артур умный, очень умный, он вращался совсем в иных, чем я, кругах, казалось, что, выйдя за него замуж, я сумею заткнуть рты всем, кто твердил, что я глупая гусыня. Уж Миллер-то увидит во мне меня, а не Мэрилин!
Это было одним из самых страшных разочарований в жизни. Я мечтала, что он поможет раскрыться моей внутренней сути, начать играть серьезные роли в серьезных фильмах, сменить имидж, соответствовать ему самому. Миллер и Страсберг, кто мог бы лучше помочь развиться Норме Джин, победив Мэрилин?
Все друзья твердили, что мы совершаем ошибку, создавая семью. Понимали это и мы сами. Я как страус прятала голову в песок, как ребенок, не желая видеть страшное, закрывала глаза, но уже понимала, что произошло – Артур влюблен в мою оболочку, он без ума от Мэрилин! У умного, интеллигентного Артура животное начало брало верх при виде красивой обертки, это было сильнее него, он отчаянно боролся, но ничего не мог с собой поделать.
Артур не мог справиться со своей телесной страстью и ненавидел себя за это, за свою неспособность удержаться, за страсть, за пассивность. Я видела эту борьбу и ненависть и тоже ничего не делала. Норма Джин внутри просто обливалась слезами, потому что даже в этом побеждала Мэрилин. Я понимала, что делаю ошибку, выходя замуж за Артура Миллера, внутри понимала, но пока жила надежда, что он сумеет справиться со своей страстью к глупой Блондинке, а когда поймет, что внутри есть Норма Джин, то будет еще и благодарен, что я не она.
Господи, если бы я тогда знала, что, справившись со своей страстью к Мэрилин, Артур вовсе не полюбит Норму Джин! А ведь Миллер с первого дня видел мою двойственность, и это ему нравилось, нравилось видеть, как я сбрасываю оболочку Блондинки, как змея кожу при линьке, как говорил Артур, становлюсь прозрачной. Но позже я поняла, что Миллер не приемлет чужие проблемы, признавая лишь свои, а потому ему вовсе не могли понравиться метания Нормы Джин.
Но хуже всего – он меня стеснялся! Нет, не сразу, сначала даже гордился…
Иногда мне кажется, что лучше было бы не сниматься в Англии, возможно тогда наши отношения сложились иначе?
Сначала, пока Милтон Грин воевал со студией, я бездельничала, много читала, знакомилась с интереснейшими людьми Нью-Йорка и вообще Америки, а то и всего мира, ходила на выставки, концерты… Я развивалась.
А потом появилась идея снять фильм вместе с Лоуренсом Оливье «Принц и танцовщица». Оливье играл в такой пьесе вместе с Вивьен Ли, а Милтон Грин придумал перенести все на экран со мной. И великий Лоуренс Оливье согласился, причем он сам собирался снимать фильм в качестве режиссера и сам же играть принца.
Казалось, у меня было все, о чем я только мечтала: муж – известнейший драматург, умный, интеллигентный, влюбленный в меня, триумфальное возвращение на студию, деньги, слава, отменная внешность, надежда родить Артуру ребенка и мудрые наставники.
Мы торопились в Лондон, потому медовый месяц был очень коротким, хотелось поскорее приступить к съемкам фильма. К тому же в голове роилось множество планов. Миллер – драматург, что ему стоит написать для обожаемой жены достойный сценарий, чтобы не приходилось играть черт-те что. Впереди только счастье с любимым, способным увидеть меня настоящую мужем. Я была в этом совершенно уверена.
Артур увидел, но как!..
Лондон принял нас с распростертыми объятьями. Мы с Вивьен не стали подругами, оказались слишком разными, но с семьей Оливье и Ли подружились. Да, во время съемок было немало недоразумений и даже обид, Оливье несдержан на язык, а я необязательна, снова и снова изводила всех то опозданиями, то просьбой о новом дубле, то неумением по команде выразить нужную эмоцию… В то время только Страсберги верили или, по крайней мере, говорили, что верят, в мою способность стать актрисой.
Не буду рассказывать о фильме, мне просто не по себе, когда я вспоминаю эти съемки. Оливье трудно со мной, мне не легче с ним, но это производственный процесс, который всегда проходит нервно, найдите режиссера, который не кричал бы, что никогда больше не станет работать с этими актерами, не будет вообще ничего снимать! Найдите актера или актрису, у которых во время очередной проблемы на площадке или после неудачного дубля не появлялась мысль бросить к чертовой матери эту профессию!
Но заканчиваются съемки, фильм выходит на экраны, следуют (или не следуют) аплодисменты, отзывы критиков, режиссеры, актеры и все остальные оживают, и все начинается сначала на такой же площадке, только в несколько ином составе. Кино вечно, и оно бесконечно.
Мучились и мы. Но если бы мучения были только на съемочной площадке!.. Для меня куда катастрофичнее все оказалось вне ее. Кем я была для Лондона? Это зрители и журналисты могли осаждать летное поле или гостиницу, где мы сначала расположились. Для сэра Лоуренса Оливье и ему подобных всего лишь безродная особа из Голливуда, не умеющая работать, как привыкли в Англии! Именно так он представил меня съемочной группе. С трудом сдержавшись, чтобы не разреветься или не броситься прочь, я лихорадочно придумывала, чем ответить знаменитому актеру, который, приезжая в Голливуд, вел себя совсем иначе – был внимателен и явно мной очарован. Понимаете, с первой минуты перед большим коллективом низвести меня до глупой американочки, ничего не умеющей и ни на что не способной, вообще-то подло. А если вспомнить, что я всегда в себе неуверенна…
Но главное потрясение я испытала не из-за высокомерия Оливье, не из-за своего несоответствия требованиям англичан или незнания некоторых сложностей этикета, а из-за обожаемого мужа. Однажды журналисты спросили, что, по моему мнению, значит любовь. Я ответила, что для меня любовь – это доверие. Артуру Миллеру я доверяла бесконечно, казалось, рядом с ним наконец смогу обрести душевный покой и устойчивость, справлюсь со всеми сложностями, сумею осилить все свои страхи, неуверенность, раскроюсь с лучшей стороны, обуздаю Блондинку и всему миру покажу Норму Джин.
Но этому не суждено сбыться. Однажды утром (Артур явно не ожидал, что я встану так рано, а потому был неосторожен) на столе в комнате увидела раскрытую записную книжку мужа, нечто вроде дневника. Док, я по сей день дословно помню прочитанное! Не буду всего произносить, слишком больно даже через годы, но суть такова. Артур обращался ко мне: «…я думал, что ты ангел, а ты… Оливье прав! Ты просто занудная сучка… Я тебе не слуга…»
В таком духе несколько страниц! Любимый, обожаемый муж соглашался с мнением драгоценного партнера, с которым только-только начались съемки, что я занудная сучка!
Хрустальный дворец мечты о счастливом браке и успешной работе с великим Оливье в одно мгновение разлетелся вдребезги. Любовь – это доверие, но я больше не верила Миллеру, совсем не верила. Последовал очередной выкидыш, природа тоже не желала нашего счастья.
Из огромной ямы депрессии меня вытащил не Артур, он ведь знает только свои проблемы и свои переживания, а Страсберги и Анна Фрейд. Конечно, Страсберги грубо льстили, убеждая меня, что я чего-то стою, но они интуитивно чувствовали, что именно нужно. Я понимала, что это лесть, что в действительности нет и десятой доли вещаемого Полой, но запись Миллера о занудной сучке требовалось чем-то выбить. Артур разрушил во мне все, если до того я просто пила таблетки, которые легко прописывают всем актерам врачи Голливуда (считается, что барбитураты стимулируют творческий подъем), то теперь принялась глотать их горстями. Пола ругала:
– Ты же можешь умереть от передозировки!
Смешно, к чему этого бояться, если я снова никому не нужна?
А фильм получился и даже понравился. Мою игру хвалили, расчувствовавшийся Оливье целовал в щечку, Артур тоже (поцелуи Иуды), все улыбались и делали вид, что жизнь прекрасна.
Я тоже улыбалась Артуру и тоже делала вид, что все прекрасно, у меня это получалось, я ведь актриса. Но больше не верила мужу, тем более когда узнала, что он за моей спиной довольно часто обсуждал меня и мое поведение и вовсе не защищал при этом. Заступаться за занудную сучку аристократ Миллер считал для себя неподходящим занятием. Артур легко усвоил высокомерный тон Оливье, и только врожденная интеллигентность мешала ему выражать мысли вслух, но теперь я хорошо знала, о чем он думает.
Что ж, сиротке за пять долларов в неделю, конечно, не место рядом с такими личностями, как Миллер или Оливье, сучка должна знать свое место.
Артур предавал меня еще не раз, и дело не в том, что он что-то говорил за моей спиной или писал в дневнике (я дала себе слово никогда не заглядывать в чужие записи!), Миллер предал даже в творчестве. За годы нашего брака он не написал ничего путного, считалось, что мешаю я. Но я же не заставляла Артура ехать со мной в Англию, в конце концов мы и были там недолго, не заставляла уродовать чужие сценарии, как он сделал для фильма с Ивом Монтаном, или переделывать собственный рассказ в скучнейшее произведение для скучнейшего фильма. За сценарий «Неприкаянных» Миллер получил неплохие деньги – 250 000 долларов, а работу выполнил из рук вон плохо.
Но меня никогда не волновали деньги, хуже всего, что у нас распадалась семья, хотя мы еще долго делали вид, что это не так и все прекрасно.
Вот так я чувствовала себя в те дни…
Стоит вспомнить Артура и нашу с ним жизнь, становится очень-очень больно не из-за разладов или предательства, а от сознания, что понимания между нами не было вовсе. Кто я для Миллера? До сих пор не знаю. Думаю, он и сам не понимает.
После Англии и Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности в Вашингтоне мы попытались удрать от всех и провести хотя бы одно лето в тишине и отсутствии репортеров. Я решила стать хорошей женой и хозяйкой, а может, и мамой. Небольшой дом (зачем больше для двоих?) в поселке Амагансет на Лонг-Айленде, где не очень интересовались знаменитой блондинкой, был вполне подходящим для этого местом. Артур тяжело переносил назойливое и постоянное внимание журналистов.
Я выбросила из головы дневник, попыталась убедить себя, что ничего не было, что Артур просто сочинял новую пьесу и это роль героини. Да, да, конечно! Конечно, Миллер пишет пьесу, и это в ней такой текст, интеллигентный автор может себе позволить неинтеллигентно выражаться устами героев. Можно спросить Артура, но тогда никакие отношения невозможны, Артур врать не умеет и не стал бы.
Миллер вел себя менторски, даже не замечая этого. Нет, он не делал указующих жестов, не распоряжался, но общался со мной как с маленькой девочкой-недотепой. Мне снова давали понять, что ни на что не способна, ни на что не годна. Все по-отечески, заботливо, но и отцовская забота бывает разной. Можно, как Кларк Гейбл: «Детка, ты плохо себя ведешь, не возбуждай меня, я старый, больной человек…», а можно, как Артур – снисходительно и свысока, когда отеческий тон только подчеркивает разницу в положении и способностях. Он сам утверждает, что опекает меня, словно малого ребенка. Меня не нужно опекать, меня достаточно просто любить и защищать, а не злословить за моей спиной или заносить в дневник все мои промахи, чтобы потом использовать в новом произведении!
Попытки убедить себя, что Миллер просто использует факты нашей жизни для новой пьесы или новеллы, облегчения не принесли, жить с человеком, чувствуя себя лягушкой на лабораторном столе или зверьком в зоопарке, находящимся под наблюдением круглосуточно или вообще препарируемым для развития науки, тошно. Я не хочу, чтобы мою душу даже ради литературы препарировали, пусть делает это со своей. И без того живу под светом софитов и камер, мне хватает журналистов и их сплетен.
Артур этого не понимает, он считает, что актер, как и писатель, должен быть открытым, способным показать свою душу всем.
– Разве не этого требует твой хваленый учитель Страсберг?
Наверное, этого, но когда душа болит и мучается от раздвоения, вытаскивать ее еще и на общий осмотр слишком тяжело. Я могу копаться в ней сама, но не тащить на всемирное обозрение.
Ладно, хватит об этом!
На Лонг-Айленде очень красиво и очень спокойно. Вокруг зеленые поля и тихий, обычно пустой пляж, а где-то вдали шум океана. Соседи не совали нос в наши дела, рыбаки, которых мы встречали на берегу, вежливо здоровались, приветливо улыбались, но не пялили на меня глаза. Казалось, можно расслабиться и ни о чем не думать.
Я немного научилась готовить, старалась сама выполнять домашнюю работу, находя это даже интересным, и втайне мечтала, что Артур сможет там плодотворно писать свои пьесы, у нас родится ребенок, даже несколько, и мы будем большую часть года проводить в этом спокойном раю вместе с детьми своими и Артура от первого брака и его родителями.
Я забыла, что жизнь не дает мне надолго дом и семью, что все временно. Ничего не получилось, беременность закончилась выкидышем, а рай не состоялся, мы умудрились найти несовпадения мыслей и чувств. Наверное, таких людей, как мы с Миллером, не сможет примирить даже рай.
Мы часто гуляли по пляжу, собственно, это был и не пляж, а просто песчаный берег, на который рыбаки вытаскивали свои сети. Артур тоже ловил рыбу, но не сетями, а удочкой. Я очень любила такие минуты, но однажды обратила внимание, что, когда рыбаки вытащат улов из сетей и уберут в корзины, множество мелких рыбешек бывает просто выброшено на берег. Им нужна лишь крупная, которую можно продать или использовать самим, а запутавшаяся в сетях мелочь остается умирать на солнце.
– Но она же живая!
Меня не понял никто: ни рыбаки, ни Артур. Что делать с мелкой рыбешкой? Часть растащат вездесущие чайки, часть местные приблудные коты, но в основном рыбешки так и останутся на берегу. Я не вынесла вида бьющейся рыбы и принялась швырять мелочь обратно в воду. Но ее много, слишком много, чтобы справиться одной. Начавшийся прилив спас некоторых, только дожили до него не все выброшенные рыбешки.
Так повторялось каждый раз, когда вытягивали сети ржавой, страшно скрипевшей лебедкой. Понимаете, какое жуткое сочетание – скрип ржавого металла и смерть ни в чем не повинных созданий? Они оказались некондиционными, то есть не соответствовали каким-то стандартам, а потому были обречены. Остальной рыбе не лучше, ее отправляли на кухни хозяек, но меня особенно пугала вот эта – мелкая, посмевшая попасть в сети вместе с крупной.
Рыбаки не могли понять поведения странной женщины, бросавшей рыбешек в воду. Не понимал и Артур. А для меня их гибель была похожей на мою собственную, я тоже, словно мелкая рыбешка, посмела уподобиться крупной рыбе, неужели и меня ждет гибель на берегу?! Артур смеялся, говорил, что всех рыбешек не спасешь, всех дождевых червей, выползших на поверхность, не закопаешь обратно, всех выпавших птенцов не вернешь в гнезда родителям. Он не понимал, что я не могу видеть гибель живого и беззащитного, он снова меня не понимал.
Зато теперь я знала точно – и не поймет.
Но если меня не понимал тот, кого я ценила больше всех людей на свете, что мне оставалось делать – ждать, пока выбросит на берег, как рыбешку, и надеяться, что кто-то пожалеет и вернет в воду? Но я и была такой рыбешкой, а Артур мог бы дать мне жизнь. Но он не захотел…
Особенно тяжело стало после выкидыша, уже второго за недолгое время нашего брака. Первой была внематочная беременность, мой организм отказывался вынашивать детей!
Я могла признаться Артуру во многом, во всем, он знал о моих мужчинах, моих глупостях, даже о том, в чем признаваться не стоило бы, но я молчала об одном своем страхе – оказаться похожей на маму. Я очень боялась повторить ее судьбу, боялась сумасшествия, неспособности быть самостоятельной, боялась не суметь воспитать ребенка.
Артур говорил, что у нас будет столько детей, сколько я захочу и смогу родить. Но ведь наверняка он так же говорил и Мэри Грейс, а потом разошелся с ней. Значит, мог разойтись и со мной? Тогда я осталась бы с ребенком одна. Как мама… А вдруг я не смогла бы воспитать свою дочь (или сына, какая разница?), как не смогла Глэдис?
Этот страх я загоняла внутрь, не позволяя пробиваться даже мыслями, не только словами. Но от этого страх не исчезал, никуда не девался, был внутри и становился еще сильнее. Страх родился еще тогда в Лондоне, когда я прочитала записи Артура о разочаровании во мне, прочитала и поняла, что могу остаться одна со своим ребенком. Я очень хотела детей, но ведь хотела и мама, однако она не смогла воспитать ни одного из троих рожденных, вдруг и я не смогу?! Тогда мой ребенок будет сиротой, конечно, деньги позволят ему ни в чем не нуждаться, но никакие деньги не заменят семью.
Я убеждала себя, что даже если умру при родах, то Артур воспитает нашего малыша, к тому же Исидор и Августа – прекрасные дедушка и бабушка, но никакие уговоры не помогали развеять страх неспособности самой вырастить ребенка.
Возможно, признайся я в этом Артуру, он сумел убедить меня, что зря боюсь, но это означало бы признание в боязни повторить судьбу мамы, а еще озвучить страх распада нашей собственной семьи. О таком я тоже старалась не только не говорить, но и не думать.
Мысли страшны тем, что, даже не высказанные, они не дают покоя внутри, их бесполезно давить или прятать, потому что разрушительная сила все равно сделает свое дело. Док, я поняла, мой организм, напуганный моей же неуверенностью в способности создать нормальную семью и вырастить счастливого ребенка, просто избавляется от плода. Поэтому то внематочная беременность, то выкидыши.
У нас с Артуром не было шансов на рождение ребенка, потому что не было шанса на семью. Все по кругу, потому что именно ребенок мог бы эту семью сохранить.
Значит ли это, что своим сиротским детством, своей ненужностью я попала в круг, который нельзя разомкнуть? Ведь точно так же со снотворными: я принимаю таблетки вечером, потом поздно вечером, потом ночью, потом под утро и, наконец, засыпаю совершенно измученная и нервная. Но сон не приносит облегчения, только оставляет заторможенность на весь день. Вокруг недовольство, потому что я опаздываю, плохо соображаю, медленно двигаюсь и всем мешаю. На меня злятся, заставляют нервничать еще сильнее, и к вечеру становится понятно, что без таблеток заснуть не удастся. Все начинается сначала – таблетки, сон до обеда, заторможенность, всеобщее недовольство, нервные срывы.
Этот порочный круг как-то может быть разорван? Я пыталась не пить снотворное совсем и не спать тоже, получилось еще хуже, потому что к утру выглядела просто ведьмой, была злой и измученной.
Знаете, тогда на Лонг-Айленде, перенеся выкидыш, решила, что жить не стоит, и наглоталась снотворных до комы. Артур вовремя понял, что произошло, а врачи оказались достаточно опытными, меня вытащили на свет, только зачем, чтобы я снова и снова пила эти таблетки?
Помню глаза Миллера, когда я пришла в себя, он был в ужасе одновременно от того, что я едва не погибла, и от того, что могу повторить попытку в любой день. Думаю, он сам не смог бы сказать, чего боялся больше. Бедный Артур, он жаждал получить в постель на супружеских правах самую знаменитую Блондинку, мечту миллионов мужчин мира, а когда это удалось, вдруг выяснил, что от этой Блондинки проблем больше, чем удовольствия. Я понимаю его разочарование.
Но я-то разочаровалась тоже… Ум Артура оказался холодным, он рационально раскладывал по полочкам свои и мои эмоции, описывал их в рассказах вместо того, чтобы просто любить меня. Даже его отец Исидор Миллер любил меня больше, чем Артур. Я люблю их обоих, Исидора как собственного отца, которого у меня никогда не было. А он гордится своей пусть и бывшей снохой и не считает меня пустышкой. Хорошо бы объяснить это и Артуру тоже…