Черная кровь Перумов Ник
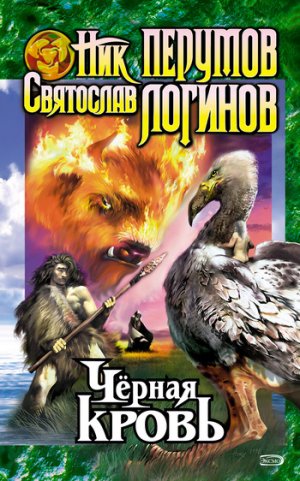
Как всегда, первым понял, в чём дело, Ромар.
– Назад! – закричал он. – В воду!
Охотники остановились, попятились, не зная, какой приказ выполнять. И эта недолгая заминка погубила многих из них. То, что двигалось из степи, на секунду пропало из глаз, скрытое пологой ложбиной, и затем показалось совсем близко, так что бежать уже не имело смысла.
Ничего подобного людям ещё не доводилось встречать. Из пересохших степных пространств, резко вздёргивая сухие мозолистые ноги, непредставимо быстро бежали птицы. Хотя мало кто осмелился бы назвать птицами этих страшилищ. Взрослый человек не мог бы достать им не то что до шеи, но и до гузки. Птицы мчались вперед: шеи вытянуты, нелепо раззявлены кривые клювы длиной куда побольше локтя, бесполезные крылышки раскинуты в стороны, словно великанские птицы собрались взлететь и лишь не могут разогнаться как следует. Слитный топот сотрясал землю.
И лишь потом изумлённые люди заметили ещё одну страшную и нелепую подробность. На спине у каждой птицы, обхватив одной рукой бревно шеи, сидел крошечный человечек. Пронзительное курлыканье птиц сливалось с воинственными криками всадников.
Даже будь у охотников луки, они не смогли бы остановить несущуюся лавину. Среди людей началась паника. Кто-то вскинул копьё, готовясь защищаться, кто-то бросился к реке. Передняя птица поравнялась с одним из охотников. Тот ударил копьем в нависший над ним распахнутый клюв, прямо под заострённый язык. Клюв сухо щелкнул, копье переломилось. Не останавливая движения, птица ударила сомкнутым клювом и, вздёрнув в поднебесье залитую чужой кровью голову, помчалась дальше.
Таши кинул бесполезное копьё и, сорвав с пояса боло, мгновенно раскрутил и метнул его. Бросок оказался удачен. Ремень захлестнул чудовищную ногу, но камни, не причинив вреда, стукнули о грубую чешую. Таши что есть сил рванул ремень, стараясь опрокинуть заарканенную птицу, но та, даже не почувствовав усилий человека, резким движением вырвала ремень из рук Таши. Таши упал на бок, едва не придавив пискнувшую девчонку. На мгновение над ним мелькнули пышные, кудрявящиеся на концах перья и знакомая, заросшая клочковатой бородой мордочка всадника. Всадник, перегнувшись, ткнул пикой, стараясь достать Таши, но юноша рывком уклонился от удара, вскочил и, петляя, бросился к воде. Рядом бежали другие охотники. Птицы настигали их, тратя на каждого не более одного удара. Клокочущий визг карликов победно разносился окрест.
В воду птицы не пошли, и те из людей, кто достиг реки, оказались спасены. Спешившиеся карлики прыгали на берегу, грозили пиками, издевательски вопили и швыряли вслед плывущим камни. Птицы поспешно, словно их подгонял невидимый хлыст, расклёвывали тела убитых: людей и согнутых.
Таши плыл, загребая одной рукой, другой придерживая над водой головку девочки. В груди плескалась бессильная ярость, и даже холодная вода не могла остудить её.
«Карлика надо было сбивать, а не птицу, – укорял он себя, – или попытаться захлестнуть ей обе ноги разом. Если бы ремень выдержал, тогда и птица упала бы… Но главное – карлика достать… жаль не удалось… И всё-таки их лазутчика я застрелил, так что на наш берег они не сунутся».
Великая река течёт плавно и сильно. Таши, оберегая ребёнка, не мог плыть как следует, течение тащило его мимо обрывистого мыса, где пытались высадиться согнутые, мимо заросшей с камышами косы, где был подстрелен лазутчик. Таши плыл, прижимая к себе девочку, терпеливо сносившую передряги последних часов, и старался не думать, сколько мёртвых тел колышется сейчас у самого дна на радость сомам и мелкой уклейке, что первой обсасывает утопленников.
На правом берегу сородичи занимались не слишком весёлой, но необходимой работой. Стаскивали убитых согнутых, чтобы сжечь тела, а потом закопать обугленные кости. Кто остался в реке, с теми вода разберётся сама – это её доля. А погибших на землях рода надо зарыть – нечего зря плодить стонущих духов. Мангасы лежали отдельно, их предназначили в жертву камням – так будет спокойнее.
Пока Ромар и чудом спасшийся Тейко рассказывали вождю о новой напасти, объявившейся на том берегу, Таши подошёл к лежащим на земле мангасам. Теперь он мог рассмотреть их как следует.
Все четверо были очень разными. Это только в сказках мангас всегда великан, на самом деле он страшен не столько силой, сколько неустрашимой жестокостью, презрением к боли и смерти и полным безразличием ко всему на свете. Природа лишила мангасов способности продлить свой род, и они мстили природе, вымещая своё убожество на всяком живом существе, до которого могли дотянуться. Во всём мире одни только согнутые терпели и даже боготворили мангасов, хотя и страдали от них более всего. Никто не мог знать за верное, но рассказывали, что когда охота у согнутых бывала неудачна, то мангас убивал первого попавшегося сородича и жрал его на глазах у остальных. При взгляде на убитых уродов в это легко верилось.
Белого мангаса Таши разглядывал особенно долго. Не хотелось верить, но это бесполое существо было ближе к женщине, чем к мужчине. Круглая голова со стёртыми, ничего не выражающими чертами лица, безволосое, отвергающее загар тело, грудь широкая и плоская, как лощильная доска, бугры мышц на изломанных топором руках. Но когда Таши опустил взгляд на то место, куда пришёлся удар его ноги, он увидел, что чудовищное существо всё-таки было женщиной.
«На мангаске женись!» – вспомнил Таши, и его затрясло от страха, отвращения и ненависти к себе самому.
– Таши! – раздался крик. Вождь звал его к себе, чтобы выслушать рассказ о случившемся на том берегу.
Победители возвращались домой. Шли споро, ибо никакой добычи у согнутых взять было нельзя. Обрывки плохо обработанных шкур и каменные рубила – к чему они? Главным в походе была победа, а ношей – свои товарищи, раненые и убитые. За полтысячи согнутых род отдал семь десятков воинов, и ещё несколько человек были серьезно ранены, так что их пришлось нести. Почти половина погибших нашла смерть на том берегу, и это омрачало радость. Ведь карлики не понесли никакого урона, остановила их только вода. Стоит ли радоваться гибели согнутых, если на их место пришёл столь опасный враг?
Таши шёл вместе со всеми, неся на руках уже двоих детей. Воин, переправивший через реку дочь Линги, остался складывать костры для чужаков, и как-то само получилось, что вторая малышка тоже осталась у Таши. Кроме того, за плечом у Таши висел огромный лук, прежде принадлежавший Туне. Когда Таши принёс лук вождю, тот слепо посмотрел на оружие брата и тихо произнёс:
– Возьми себе. Я видел, как ты стрелял. Только не размахивай им прежде времени.
Топор и птичье копьецо Таши тоже сохранил. А вот боло пропало, осталось намотанным на страшную лапу пернатого чудовища. Хорошо хоть сам жив остался.
Таши шёл и в тысячный раз представлял подробности кровавой схватки, случившейся на берегу. Хотя какая это схватка – чистый разгром. Налетели враги, как дрозды на рябину, в минуту всех поклевали и дальше понеслись. Копьём такую птицу не остановишь, разве что бревно ставить вместо ратовища. Луки бы были с собой… хотя что луки?.. Таши вспомнил плотные, внахлёст лежащие перья, по которым бесследно скользят наконечники копий, и понял, что никакой лук эту броню не пробьёт. Ничем птицу не взять. В одном лишь загадка: почему неуязвимые птицы позволяют чужинцам влезать себе на спину, зачем воюют за них? Надо бы Ромара спросить, не знает ли он такого колдовства. И конечно, в бою следовало сшибать чужинца. Хотя что бы это изменило? Птица всё равно осталась бы. Да ещё не больно-то достанешь карлика, он за своим скакуном, как за деревом, прячется… И всё-таки что-то надо придумать. Река рекой, но признавать, что какие-то уроды оказались сильнее людей, нельзя.
Другие мужчины тоже были озабочены случившимся. До Таши долетали обрывки разговоров:
– За городьбой укрыться и бить из луков в глаз. В глазу всегда слабина.
– Так она и будет у городьбы стоять и глаз тебе подставлять, на, мол, стрельни…
– …Экие громады, какие у них яйца должны быть. Я бы попировал.
– А вот ямы ловчие на узких местах нарыть. Это же гадина тяжёлая, ногу переломит – уже не подымется.
– С мангасами бы их стравить…
– Они и без тебя схлестнулись. Думаешь, от кого согнутые на наш берег дёру дать хотели?
– И всё-таки хорошо, что у нас река. Не достанут.
– А хоть бы и не было реки, что они с нами смогут сделать? Городьбу на птице не пересигнёшь.
– И ты весь век за забором не просидишь. Спасибо предкам, что река течёт.
Вновь разговоры возвращались к лукам или возможности опрокинуть птицу, захлестнув ей обе ноги, или накинуть на неё рыболовную сеть.
Таши подошел к одиноко бредущему Ромару. Спросил:
– Всё-таки кто они такие? Как птиц смогли приручить? Если бы не птицы, мы бы их походя в порошок перетёрли…
Старик поднял голову, тихо ответил:
– Не знаю. Серьёзного колдовства я в них не заметил – так, сущие пустяки. Птицы тоже обычные – вроде дрофы, только громадные. Так что драться с ними не мне, а вам. А кто они такие?.. Про диатритов слыхал?
– Слыхал… – протянул Таши. – Но ведь диатриты – это оборотни, люди-птицы. Крылья у них вместо рук. И потом, их же в древние времена богатырь Параль перестрелял всех до единого. И гнезда сжёг.
– Это в сказке. А сказка, мой милый, только наполовину правдой бывает, потому она и сказка. Многое в ней додумано, многое позабыто. Но кое-что не грех и на ус намотать.
Таши вопросительно вскинул глаза. Ромар перехватил его взгляд, усмехнулся и пояснил:
– Сам видишь, птицу-диатриму ни копьём, ни стрелой, ни боевым топором не взять. А богатырь Параль тебе выход подсказывает: где-то у птицы гнездо есть, а в нём – голые птенчики. Туда и бить надо, если дотянуться сможешь. – Ромар прищурился, глядя вперёд, и добавил, не меняя выражения: – Ну да это потом, а сейчас тебя, никак, ищут. Давай, иди.
Навстречу им от городища бежала женщина. Через минуту Таши смог разглядеть, что это Линга. Кто-то из ушедших вперд парней принёс в селение новости, и Линга, услышав, что нашлась её дочь, побежала навстречу отряду. Другие женщины остались в селении, они ждали воинов, и обычай велел им хранить спокойствие, даже если уже пришла тяжкая весть. И они стояли в общей толпе, продолжая на что-то надеяться. А Линге, которой некого ожидать, дозволено встретить войско на полпути.
Запыхавшись, Линга подлетела к Таши, выхватила у него из рук обеих девочек, прижала к груди…
– Спасибо, спасибо… – твердила она, не глядя на Таши.
Опустившись на землю, Линга выудила из сумки долблёнку с козьим молоком, пристроила на горлышко соску из рыбьего пузыря, сунула младшей девочке, быстро нажевала кусок ячменной лепёшки, замесила в ладони тюрьку с тем же молоком, принялась прямо из ладони кормить старшую, и всё это смеясь и плача одновременно, и успевая свободной рукой гладить то одну, то другую девочку, и выбирать из детских головёнок насекомых, и делать ещё что-то.
С минуту Таши стоял рядом, молча глядя на смешную картину счастья, потом пошёл догонять ушедших вперёд мужчин. За детишек можно больше не опасаться, они пристроены надёжно.
Почему-то Таши было грустно.
Лето вершилось странное, исполненное мрачных знамений и скверных примет, хотя в жизни недоброе случалось не чаще, чем в обычный год. Речные божушки упорно не желали видеть людей, замечать их жертвы и приветственные заклятья. Но рыба ловилась на диво, обезумело бросаясь на любую приманку, наполняя бредни и мрежи. Муха, впрочем, говорил, что волшебство тут ни при чём, ни своё, ни странных существ, а просто река обмелела, как ни в какую засуху не бывает, вот рыба и мечется.
Вода и впрямь стояла низко. Сухой остров раздался вширь чуть не на полреки, и даже в омутах вода заметно спала; старые ивы стояли теперь отдельно от воды, впервые за свою неизмеренную жизнь обсушив корни. Дождей не случалось, хотя тучи, бывало, проходили в поднебесье, и солнце палило не то чтобы слишком, а как и полагается в это время года.
Охотники тоже не оставались без дела, хотя жертвенный дым стлался по земле, а идолы звериных хозяев недовольно кривили измазанные салом губы. Но как ни криви лик, а звери с того берега шли ходом, переплывая обмелевшую реку. Шли не только туры, лошади и горбоносые сайгаки, но и куланы, онагры и тонконогие джейраны, которые обычно в эти края не забредали. Каждый день сторожевые отряды возвращались с добычей, и мясо люди ели словно осенью.
Случалось, шли через реку и люди. Несколько раз дозорные замечали разрозненные группы согнутых. Их подпускали ближе и расстреливали из луков, не дозволяя коснуться берега. Однажды на том берегу появились и настоящие люди. Было их чуть больше десятка, и потому Муха, заметивший пришельцев, попытался заговорить с ними, но незнакомцы ответили камнями из пращи и скрылись в кустах. Камни упали в воду, не долетев и речного стрежня, однако и этого было достаточно. Незваных гостей выследили, когда они пытались пересечь реку в другом месте, привычно подпустили на выстрел и, уже не пытаясь разговаривать, отправили их всех к придонным мавкам.






