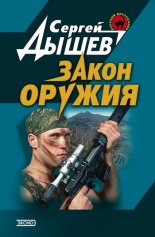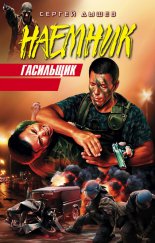Месть Аскольда Торубаров Юрий
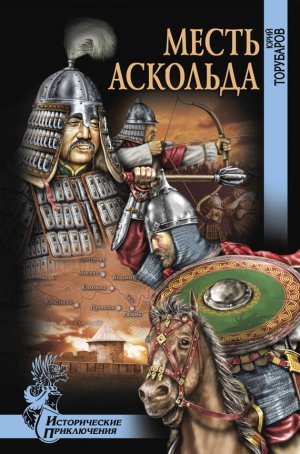
Читать бесплатно другие книги:
У него не оставалось ни одного шанса, когда он встретил в Дагестане чеченского полевого командира – ...
Владимир Раевский, бывший офицер спецназа, едет в воюющее Приднестровье и там в качестве наемника вс...
События мистического боевика начинают разворачиваться в годы войны Российской империи на Кавказе. 19...
В Москве объявился серийный убийца. Оперативники сразу окрестили его «Скульптором»: после расправы у...
Закрытая Дача – особо секретное место. Запертые здесь «высоколобые» ученые разрабатывают изощренные ...