Здравствуй, мама! Я – волк Юрченко Валентина
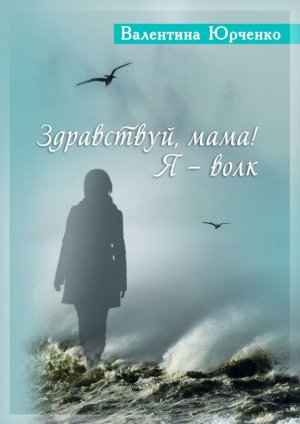
Людка разжала пальцы. На одной из сережек была запекшаяся кровь.
– Идемте отсюда, – я впервые за вечер услышала голос своего конвоира. Он говорил тихо и мягко. – Не надо этого, – он спрятал финку в карман.
Пушкин положил на стол пистолет. В комнате стало тихо. Я оглянулась – парень опустил глаза. Я успела заметить, что они были у него серого цвета, маленькие, но добрые.
– Хочу ее, – прервал молчание Пушкин, тыча в меня пальцем.
Он встал, окинул всех насмешливым взглядом и стал толкать меня в раздевалку.
– Сделайте что-то! Вы же мужики!!! Что вы сидите!!! – неистово заорала Галка.
– Богу молиться надо, – вдруг сказал Андреич и улыбнулся, показав кривые желтые зубы.
Галке закрыли рот. Андреич перекрестился.
– Еще раз сука завоет, всех баб – на колхоз. Ясно?! А этого, – Пушкин указал на белобрысого парня, – убрать!!! – закричал он, впихнул меня в раздевалку и потянул за щеколду.
На пол с моей руки упали часы – было слышно, как они тикают. Пушкин подошел ближе. Только тогда я поняла, какая маленькая у нас раздевалка.
Я не узнавала своего голоса. Пушкин ударил наотмашь. Что-то щелкнуло в переносице, из носу закапала кровь. Я больно стукнулась головой о скамью, попыталась привстать. Пушкин коленом придавил к полу, схватил за волосы, разорвал на мне платье. В первые секунды я не могла поверить, что никто не остановит его. За дверью Андреич читал «Отче наш». Я стала царапаться и кусаться.
– Живой ты отсюда не выйдешь, сучка, – мое сопротивление раззадоривало самца.
Пушкин громко дышал и сдавливал руки, оставляя на них синяки. Он был сильнее. Реальность казалась искаженной фантазией. Почему-то пропал голос: я хрипела отчаянно.
И вдруг все изменилось: как будто кто-то выключил звук. Я лежала на полу и через узкую полоску окна смотрела, как падает снег. Большие снежинки вырывались из ветреного водоворота и испуганно замирали в затишье углового здания. Успокоившись, они медленно начинали раскачиваться из стороны в сторону, – снег опускался и исчезал…
Я очнулась от стука – в дверь раздевалки били ногами. Пушкин застегивал на брюках ремень. Я поняла, что какое-то время была без сознания.
– Мы его совсем! Совсем! – кричали за дверью.
– Я сказал, убрать! – нервничал Пушкин.
– Совсем! Совсем!
Пушкин выскочил в зал, даже не оглянувшись. Галка в слезах ворвалась в раздевалку.
– Оксаночка! Милиция приехала, скорая. Все хорошо. Только они убили парня того, что тебя защищал. Крови столько. Все хорошо, все хорошо с тобой, да?
– Да.
– Посмотри на меня, я тебе одежду найду. Голова болит?
– Да.
– Соседи увидели, когда его били. Кто-то вызвал милицию, но он не выжил. Они прыгали на лицо, ногами, понимаешь? Он задохнулся, захлебнулся, не знаю.
– Да.
– Ты можешь хоть что-то сказать? Оксана-а-а-а!!!
– Да…
Показания давали в Подольском районном суде. Дело вела похожая на нэповского парторга следователь.
– Ну, «Зеленая лампа», блин, – подобными фразами она скрывала рвение, с которым собирала следственный материал.
Ей было лет тридцать пять: узкие злые глаза, стрижка «под мальчика». Даже представить ее рядом с мужчиной казалось немыслимым. Но дело по изнасилованию будило в ней плотский инстинкт. Меня и Галку она допрашивала с особым пристрастием. Ей нужно было знать все, – мы пропадали в ее кабинете по три-четыре часа. Она била по клавишам писчей машинки крепкими пальцами и просила называть гениталии так, как их именовала «пушкинская» компания. Радоваться оставалось лишь тому, что все это происходило во время каникул, когда не нужно было думать о школе. От родителей скрыть суть происшествия нам удалось только потому, что они сами боялись узнать правду.
Они предпочли не вмешиваться, довольствуясь придуманной нами версией о драке и разбитых окнах, ходили мрачные, изредка о чем-то горячо перешептываясь, закрывшись в спальне. Мы же не отходили от телефонов, перехватывая звонки из милиции.
Суд назначили только на лето, планируя закрыть дело после поимки лидеров группировки: было понятно, что за малолетней компанией Пушкина стоят личности посерьезней.
Лидеры сами вышли на нас. Накануне суда мне позвонили, назначили встречу и пригрозили, если не приду или попытаюсь связаться с милицией. Было бессмысленно сопротивляться. Я сообщила об этом Галке.
– Знаешь, где встреча?
– Где?
– У Выдубицкого монастыря.
Галка смолчала.
– Боевое крещение.
– Шуточки у тебя, Ксюх… Чтобы сразу мне позвонила. Давай, я для подстраховки пойду?
– Не надо, думаю, так будет хуже.
– Не боишься?
Теперь промолчала я.
– Там, кажется, гроза собирается.
Я выглянула в окно:
– Похоже.
Весь день – ни малейшего движения, только поднималось тяжелое тепло от асфальта, и вот буквально за полчаса: ветер срывает макушки, хлопают от сквозняков двери и форточки, пахнет озоном.
– Зонт возьми.
Я не обиделась на Галку – все мы в такой момент становимся глупыми.
Выдубицкий монастырь. Дорога к нему, спускаясь с моста, уходит вниз в южном направлении и ведет за город. Ночная трасса безлюдна и плохо освещена. Днепр – черный. Свист ветра глушит другие звуки.
Не могу поднять глаз: дождь – режущий, острый – хлещет в лицо, стекает по волосам и плечам; он намочил платье и приклеил его к телу. Я прохожу мимо летнего бара в тот момент, когда его крыша, надувшись, как парашют, тянет за собой алюминиевые балки шатра. Несложная конструкция опрокидывает стойку, подминает под себя столик, падает в грязь. Вода, как лавина, размывает землю, кружится в неровных воронках асфальта…
Я очнулась дома от звонка Галки. Она кричала в трубку:
– Третий раз тебя набираю!!!
– Все хорошо.
– Что хорошо?!
– Никого не было.
– Как не было?
– Я простояла час. Промокла, замерзла.
Это была правда. Ошибиться в месте встречи я не могла, опоздать тоже. За час я так окоченела от холодного ветра, что даже перестала бояться. Дома пришлось принимать горячую ванну. Чтобы не заболеть, я выпила полбутылки «Кагора», рассудительно припасенного мной для таких случаев. Как дошла до постели, не помню – меня здорово разморило.
– У меня завтра первый экзамен, вдруг произнесла Галка.
– Как, уже? – я была искренне удивлена.
– Ксюх, мы уже окончили школу…
– Да, я помню, – все эти события заставляли идти время совсем по-другому. – Удачи, – я положила трубку.
Перед нашими поступлениями Галкина мама назначила мне свидание. Я обещала молчать о встрече.
– Только не ври мне, Оксана. Я знаю, что Галя не будет поступать в мед. И не хочу ей мешать. Но она не права, не права.
– Любовь Дмитриевна…
– Говори, – Галкина мама давно все решила. – Куда она хочет?
Галка поступала в институт культуры без помех со стороны родителей.
День суда выдался особенно жарким. Накануне я плохо спала, не в силах избавиться от мыслей, как лучше держаться и что говорить. Но все вышло не так, как я себе представляла.
Перед началом процесса в холле Городского суда я столкнулась с мамой убитого парня. У нас не было очных ставок во время следствия, но я сразу узнала ее по глазам – серым и маленьким – и подумала, что, наверное, раньше они были еще и добрыми. Чуть позже я поняла, что до этой встречи меня волновала только своя жизнь.
Свидетелей вызывали по очереди. Они выходили из зала суда подавленные, предпочитая не смотреть друг другу в глаза. Андреич нервничал больше всех, Людку возмущал сам факт осквернения ее свадьбы. Как испуганное стадо шакалов, малолетние преступники, сбившись в кучу, занимали одну скамью. Каждый из них проходил «по делу» впервые: боевое крещение, как недавно сказала Галка. В зале воняло потом. Мне нужно было дожидаться финала. Все проходило, будто в тумане:
– Представьтесь, сообщите адрес прописки и телефон…
Я сообщила и поняла, что с этого момента мне предстоит ходить по улицам, озираясь. Дело закрывали, вешая его на Пушкина как единственного совершеннолетнего. И хотя остальным грозило лишь «соучастие», все они были нужны властелинам порядка, я же с этого момента ни милиции, ни государству была неинтересна.
Галка ждала меня у Хмельницкого.
– Гал, мне уезжать нужно отсюда, – сказала я, глядя на памятник.
– Уезжать? Куда?
– Не знаю. Да хоть в Москву, – я снова обращалась к бронзовому Богдану.
– Сумасшедшая… Все образуется, вот посмотришь.
Уставшие, мы брели по Андреевке.
– Помнишь, ты писала: «Днепр как Иордан, в нем крестили»?
– Да, наверное, помню.
Я жила в напряжении ровно два месяца. Осенью мне позвонили. Я услышала тот же голос и те же грубые интонации.
– Молодец, не обманываешь, это нам нравится. Запоминай: железная дорога, станция, мост. Понимаешь. Вечером, в десять, сегодня, где развязка дорожная. И смотри, чтобы без фокусов.
В этот раз я не стала звонить Галке.
Желтые круги фонарей отражаются в лужах. Свет режет глаза, когда попадаешь в него из темноты. Рыжие, будто покрытые ржавчиной, листья приклеены к мостовой. Моросит мелкий дождь. Я уже вижу площадку платформы и узкую тропинку «нелегального» перехода через пути – мне туда. Никого нет, электричка только ушла, показав красные лампочки последнего вагона, свистнула на прощание. Торопливый стук моих каблуков сменился на шарканье по булыжникам насыпи. Сзади шаги – я боюсь оглянуться.
Каблук застревает в камнях щебенки, когда я оказываюсь посередине пути, между двух рельсов. Теперь шаги слышны отчетливее. Изо всех сил выдергиваю каблук, не удерживаюсь на ногах, падаю. Через мое тело кто-то перепрыгивает и тоже падает невдалеке. Я различаю в полутьме парня, с него слетела шапка и катится вниз по насыпи. Он вскакивает, на нем кожаная куртка, в правой руке блестит лезвие финки. Как-то в моей ладони оказывается булыжник, и я бросаю его.
Тишина. Парень лежит неподвижно. Я подхожу ближе. Из кармана куртки выглядывает бумажник. Достаю его, не снимая перчаток: телефоны, адреса, фотография девушки, две сотенные купюры – доллары.
Иду домой и уже не сомневаюсь: единственный город, где можно потеряться – Москва.
С утра покупаю газеты, смотрю криминальную хронику – ничего. Потом иду к железной дороге – парня нет. В кармане моего пальто – доллары, две сотенные купюры.
«Днепр, как Иордан, в нем крестили». А ведь бегущие за божками не знали тогда, что Перуну уже есть замена, не ведали, что вскоре полюбят нового бога, не понимали, что рождены славянами – обреченными впитывать все…
К месту тогда пришелся звонок Дамкова – друга отца, депутата Госдумы России. Я узнала его по фальцетному ехидненькому покашливанию. Он всегда так смеялся: покашливая. Познакомились они в восьмидесятых, когда папин отдел работал над новым проектом, и Дамкова прислали из Пензы как талантливого специалиста их профиля. Он был самым младшим из друзей папы, но именно Сержу Дамкову мама и предсказывала Москву.
Дамков часто приходил в гости с ночевкой: смеялся в прихожей, вручал три гвоздики, шоколад и коньяк, рукой приглаживал жидкие волосы и отправлялся на кухню. Мама принимала подарки, вздыхала и накрывала на стол – Дамкова она не любила.
Дамков всегда щурил глаза, много ел, сально шутил и желал доброй ночи ровно в одиннадцать. Через три минуты мы слушали раскатистый храп Сержа.
После окончания работы над проектом Серж приезжал в Киев в командировки, лысея и полнея от визита к визиту. Становились солиднее и его должности. Неизменной была лишь нервная система Дамкова: он так же добротно поглощал пищу, засыпал в одиннадцать вечера и храпел колоритным рокотом.
– Хоть дочь отпусти в Москву, раз сам приехать не хочешь, – орал по междугородке Дамков.
– Да не могу я сейчас, работа срочная, – пытался откреститься от приглашения Сержа отец.
– Рассказывать будешь, националист хренов! – Дамков был уверен, что папа свихнулся на почве незалежности Украины. – Вроде не Союз всех выкармливал.
– Хай едет, никто не держит. Вроде, я ее привязываю.
Это то, что мне и нужно было услышать.
Через двое суток я звонила в квартиру народного депутата.
– Похорошела-то как, невеста!
Дамков угадал часть версии – ее должна была со временем преподнести моим родителям Галка. Будто по дороге в Москву я встретила москвича, познакомилась, полюбила, возвращаться домой не хочу, собираюсь жить с ним и скоро выйду за него замуж. Пока родители свыкнутся с этой мыслью, я успею найти жилье и работу. Мы с Галкой решили, что я уезжаю на год.
– Ну, проходи, раздевайся.
Взгляд Дамкова остановился на моей обуви: ботинки оставили на лакированном паркете в прихожей следы.
– К столу, к столу, – затараторил Дамков, – будешь рассказывать.
Дамков давал понять, что давно не относится ко мне как к ребенку. Ему хотелось услышать рассказ об отце, но я говорила невыразительно, и Дамков взял инициативу в свои руки.
– Ты не представляешь, что значит побывать, ну, практически во всех странах мира. Мне, Оксана, жалеть не о чем. Я видел все своими глазами. У меня все есть, – говорил Дамков, наполняя бокалы. – Тебе желаю того же.
К концу ужина Дамков спланировал мой досуг: Арбат, Кремль, Третьяковская галерея, Большой и Малый театры.
– Только одна походишь. Я занят буду, сама понимаешь.
Это устраивало: у меня была другая программа. Я возвращалась поздно, ставила грязные ботинки в прихожей на приготовленную газетку и делилась впечатлениями от прежнего визита в Москву: подростком я посещала столицу Союза с мамой. Но повезло мне только на третий день – я познакомилась в кафе с армянином. Он предложил работу и пообещал помочь мне с жильем.
– Ну, признавайся, хотелось бы остаться в Москве? – на последнем ужине поинтересовался Дамков. Под коньячок он совсем подобрел. – Ладно, ладно-то скромничать, сам знаю, что помочь надо, – Дамков потянулся к телефонному аппарату.
Карьерный рост Дамков приравнивал к смыслу жизни, поэтому и был столь удачлив. Люди, которые мыслили по-иному, его расстраивали.
– Ты взрослая, должна понимать, Оксаночка, твой отец в ерунду верит, – снисходительно проговорил Дамков, перелистывая страницы записной книжки. Он уважал нашу семью только за то, что ни я, ни отец не могли его превзойти.
Остановила Дамкова жена, что-то раздраженно прошептав ему на ухо.
Водитель Дамкова довез меня до Киевского вокзала.
– Спасибо. Сама дальше.
Я сдавала билет и слышала, как желают счастливого пути пассажирам поезда «Москва-Киев».
3
Все окраины Москвы чем-то похожи: они открыты для стихии с одной стороны, с другой на них давит город. Желание сбежать от цивилизации выдает их столь же сильно, как и попытка не уступать столице в привычках. Обитатели окраин движутся в двух направлениях: вечером – к природе, искренне радуясь желанию удалить косметику и забыть о правилах этикета, утром – в город, чтобы убедить себя в конкурентоспособности. Их можно узнать по лицам и обуви. Лица – заискивающие, а обувь – даже новая и начищенная – не в состоянии долго хранить форму – каждодневная ходьба по ухабам разбивает носки, делая ее на размер больше.
Воздух окраин – насыщенный, калорийный, как непастеризованное и нефильтрованное пиво. Такой москвичу вреден. Привыкший к синтетике, он расползается и тупеет, будто женщина на сносях.
Подмосковье, как человек вне политики, – не знает куда бежать и кого бояться.
Сажусь в электричку на Выхино: Косино, Ухтомская – за окном голые деревья и дымящие трубы, тощая свора собак, как волчья стая, рыщет в поисках пищи. На остановках в тамбуры врывается запах дыма и прелых листьев.
Платформа «Люберцы-1». Иду по подземному переходу. Людской поток, пополнившийся пассажирами с электрички, движется хаотичной волной – раскачивается из стороны в сторону, спотыкается, толкает в спину и матерится.
В этом длинном сером туннеле можно купить все: восковые свечи, шерстяные носки, творожную массу. Стоящие вдоль стен торгаши словно обозначают дорогу к рынку. Впереди, прижимая к груди пустой пакет, семенит девчонка лет шести или семи и все время озирается по сторонам. Одета в болоневую синюю курточку, на ногах – поношенные сапоги. Как раз для похода на рынок, решаю я, теряя ее из вида, и, срезая угол, иду вдоль трассы. Однако у контейнера для отходов я снова встречаю девочку в синей куртке, но теперь она ни на кого не обращает внимания – ей некогда. Грязные голуби воркуют над мусором, и она пакетом пытается поймать крайнего. Я замечаю, что за мной медленно следует темно-бордовый мерс. «Райская птичка поет фантастично, поет феерично, но только в кино», – орут колонки в музыкальном киоске. На обшарпанной кирпичной стене большими красными буквами: кафе «Сочи».
Вот, похоже, и Галкин дом. Нелепое зрелище: среди ветхих улиц частного сектора высоченная, как каланча, новостройка, – глядя на нее, становится неуютно и холодно. Захожу в подъезд, вызываю лифт: вверху нервно подскакивает кабина – я слушаю истеричное скрежетание плохо отлаженных тросов и думаю: «Той девочке у помойки не может быть стыдно или страшно, ей хочется есть, и она делает то, что умеет. Сама».
Галкина квартира тоже напоминает пустырь: необжитая, пахнущая ремонтом, без мебели – только кровать в спальне и летний кафешный столик со стульями в кухне. Вещи на плечиках зацеплены за вбитые в стены гвозди, по полу тянет холодом. Несмотря на то, что отражаемое от пустых стен эхо едва уловимо, все время хочется говорить тише.
В кастрюльке кипятится вода. Галка, разливая по чашкам кофе, случайно задевает ножку стола, и из полных чашек выплескивается темная жидкость.
– Гал, дай тряпочку.
Вот с таких же столиков на углу Руставели начинала свою трудовую деятельность я – продавщицей в летнем кафе.
Хозяин квартиры, куда пристроил меня армянин, жил с сорокалетней набожной дочерью. Мне выделили узкую комнатку со старой мебелью, множеством картонных коробок и закрытым на замок пианино. Дед не расставался с клюкой, а его дочь – со свечами и книгами. Я засыпала под церковное пение в записи или под молитву-речитатив. Дед не разрешал приводить гостей, считал, что в квартире я должна находиться только ночью, но приходить после двенадцати запрещалось. В одиннадцать квартира запиралась на особый замок, ключ от которого был только у деда.
И в конце октября, и зимой кафе на углу Руставели, переместившись из-под брезентового шатра на территорию магазина, завсегдатаи называли летним. Сюда приходили напиваться, крыть матом баб, правительство и судьбу. Армянин Гюндус, директор кафе, не считал зазорным учить меня уму-разуму: я разогревала котлеты, покрытые плесенью, меняла в нужный момент ценники и обсчитывала пьяных клиентов. Гюндус ублажал санэпидемстанцию и предупреждал о контрольных закупках. От особенностей его восточного темперамента я была избавлена наличием любовницы, которая числилась его заместительницей.
Утром я протирала витрину и столики – такие же, как этот у Галки, и принимала товар, вечером считала выручку, получала оплату, выпивала бутылку пива и спешила на ночевку. Я заставляла себя работать без выходных на износ до тех пор, пока и Галка, и Пушкин, и даже родители сделались для меня миражом, в который я и сама с трудом верила. Мой мозг словно сработал на уничтожение этих образов.
Галка исправно оповещала меня в течение месяца о тревогах родителей и продолжала учебу в институте культуры. После окончания ее, не задумываясь, пригласили в национальный театр. К тому времени связь между нами, казалось, была утеряна навсегда. И именно тогда так же случайно, как недавно Галку, я повстречала на Профсоюзной Полину, которая и рассказала мне о сенсации театрально сезона.
– Представляешь, Ксюха, как повезло человеку! После института культуры сразу попасть в национальный театр! Нет, Галине, как там ее по фамилии, ну, ты должна знать, вы, кажется, дружили когда-то, таки повезло! Ее, говорят, главреж сразу приметил на роль Мавки.
– Что?
– Роль Мавки ей дали, ну, по пьесе Леси Украинки.
– А, ну да.
– Так не ошибся ведь, она там – богиня! Нет, правда, это сенсация. Все, кто ее видел, говорят, что она – лучшая из всех Мавок. Даже пожилые актрисы соглашаются, прикинь?
Полина только три месяца была в Москве, она изнывала от одиночества. Рассказ о Галке нас сблизил надолго.
– Гал, держи, – я отдаю тряпку, – сейчас твою роль Анжела играет, которая с тобой на параллельном курсе училась, Полина рассказывала.
– Анжела – хорошая актриса, – кивает Галка, и я тут же жалею, что сказала об этом ей. Жестоко с моей стороны.
– Гал, давно хотела спросить, как ты в Москве оказалась?
Галка взяла сигарету:
– Проще простого, влюбилась.
Галка произнесла это со злобой, как когда-то говорила о Толике. Но если тогда чувство не мешало ей оставаться собой, то сейчас именно оно блокировало тот интеллект, которого в свое время не без причины побаивались родители, учителя, сверстники.
Изменилось в Галине все, в том числе внешность. Короткие упругие прыгающие завитки вместо длинных тяжелых волос искажали правильные черты лица, в прежнем глубоком взгляде часто проскальзывала смешливость, даже дурашливость, а в черных глазах больше не было космоса. С женщинами такое случается в период беременности, с Галкой это случилось из-за любви.
– Глупо все получилось. У меня появилось особенно много поклонников после того спектакля, но один… Романтики захотелось, поверила сказкам… Вначале, и правда, все было как в сказке. Не поверишь, все отдала за любовь. Кто его в театр привел? Рассказываю. Выхожу после премьеры – Господи, все как сейчас перед глазами, баба Маня на вахте дежурит, на ушко мне шепчет: «Молодый, сымпатычный, час уже з магнолиями стоить на вахти. Я його гоню-гоню, може, пишла, кажу, та я нэ помитыла. А он: нет, дождусь, люблю, говорит, и все тут, отогнать не могу, боюсь директор з-за его наругает». Выхожу из театра, действительно кто-то ждет. Актриса безмозглая! Месяц встречались – цветы, рестораны, маму очаровал. Что москвич – не сразу сказал. Командировка у него, видите ли, но уже заканчивается. Кому я поверила? Душа открытая. Вот такую лапшу до колен отвесил! Коренной москвич, родители при делах, знакомые у кормушки. Щас! Сказал, что в Москве в театр устроит запросто, только мол, не отказывай, не могу без тебя. Так разве я долго думала? Полвагона вещей собрала – только меня и видели! А сколько меня отговаривали, карьеру прочили! Ну, расписались, месяц медовый счастливой дурой ходила, только потом что-то понимать стала. Сначала он свои деньги пропил, потом мои шмотки. Какой театр! Я об этом и думать забыла! А к кому мне идти? Мне и соседям в этом признаться-то стыдно было, не то что своим. Год назад я не выдержала, ушла из дому. И проснулась на улице. Там и подобрали меня – режиссер наш – тоже судьба, можно сказать. Везет же. Сначала жила у него, теперь вот квартирку по дешевке нашел. Платит мало, но лучше, чем на дороге валяться, да и куда здесь с моим украинским гражданством да прононсом? Курс-то украинский заканчивала, сценречь опять же. А в Киев… Не хочу туда я с позором. Не хочу даже, чтоб знал кто-то из наших, маме не говорю, так, будто поссорились. Ты-то как? Если б знала, что ты в Москве.
Я смотрю на подпрыгивающие кудряшки – как зайчики на резиночках. Так и выходит, что исповедь в человеческую жизнь укладывается в два часа разговора на кухне. А что Москва?.. Город, в который каждый везет свою боль, со временем обнаруживая, что она здесь никому не нужна.
– Бездомные мы здесь, чужие, – словно читает мои мысли Галка. И менталитет у нас другой, как ни крути. А здесь волчьи законы. Вон, как у тех собак, что свадьбу собачью водят, – Галка выглядывает в окно.
– Что делают? – я подхожу к ней.
Тот же темно-вишневый мерс у подъезда и та же свора собак, на которую я обратила внимание еще в электричке.
– Словно сговорились меня преследовать, – шучу я, испытывая неловкость за внезапно охватившую меня тревогу.
– Правда, не знаешь? – Галка, как в школе, удивленно пожимает плечами. – Эта свора – их обычно не меньше семи – сучку с самцом охраняют, пока те спариваются. Закон такой у них: куда пара, молодожены, что ли, туда свора. Типа свадьбы. И не дай Бог зацепить кого-то из них.
– В смысле?
– В смысле порвут на части. Да не смотри на меня так. Они в этот период не как собаки – как волки. Только природный инстинкт. Только. Не соображают ничего. Природа свое берет, размножения требует. Для них мир клином сошелся на этой свадьбе.
От Галки я уходила поздно, на последнюю электричку. Она долго уговаривала остаться, но я придумывала кучу причин, втайне надеясь, что позвонит Эд.
Буквально перед моим уходом как назло поднялся ветер и повалил снег: крупный, тяжелый и мокрый – в белом пятне от фонарного света он метался в разные стороны. С первым же шагом я по щиколотку повалилась в пористый, как влажный бисквит, сугроб. В голову сами собой стали лезть гадкие мысли. А вдруг я больше никогда не увижу Галку? А вдруг не позвонит Эд? И еще этот вишневый навязчивый мерс – не успела я пройти мимо, он медленно заурчал и тронулся с места. Окончательно страх овладел мной, когда я поравнялась с путями железной дороги. Мерс по-прежнему ехал следом. Сомневаться не приходилось: за мной кто-то следит. Я натянула на лицо капюшон.
Только в метро мне удалось слегка успокоиться и не потому, что хвоста не было, просто там они вряд ли бы что-то стали предпринимать. Абстрактное «они» – кто, я и понятия не имела.
Эд появился на следующий день на Курском вокзале, когда у выхода из метро я ждала встречи с клиентом: схватил за руку и поволок за собой.
– Куда?! Эд! Меня уволят с работы!
– Когда-то я уже это слышал.
– Тогда было впервые! И потом, Питер мне простили только из-за безупречной репутации. Второй раз не прокатит. И у меня не было встречи. Клиент через пару минут будет на месте!
– Ничего, подождет и подумает, что что-то напутал.
– Не подумает, он будет звонить в агентство. Эд, с моим гражданством найти новую работу…
– Сама не захотела за меня замуж.
– При чем тут это?! – я свирепела с каждой минутой, хотя и отдавала себе отчет, что спорить с Эдом – занятие бесполезное.
Эд заказал сэндвичи в привокзальном кафе.
– Я не поняла, ты, что, без машины?
– Без.
Я впервые видела Эдика в общественном месте.
– Иногда я люблю людей. Они помогают не превратиться в мишень. А вообще, ты же в курсе, что нет глупее и отвратительнее беса, чем дух народа?
Я покосилась: говорить о чем-то, никоим образом не касающемся темы и не подходящем к месту, Эдик умел, как никто другой.
– Разве не так? Не моя, между прочим, мысль, кстати.
– Кстати?! Тебя убить мало!
– Они тоже так думают, – Эд кивнул в сторону.
Я оглянулась. За соседним столиком два человека тут же отвели от нас взгляды, принимаясь за заказанный кофе.
– Мы – как бомжи.
– Ну, ты ведь когда-то тоже пыталась меня напоить компотом.
– При чем тут компот?
– При том, что компот – это напиток плебеев.
Меня начинало трясти от злости и страха.
– Может, пойдем отсюда?
– Хочешь убедиться, что они будут преследовать нас в трамвае, в машине, на улице? – Эд сделал вид, будто собирается уходить, и двое кофеманов тут же потеряли к напитку всяческий интерес.
Страх – теперь уже абсолютно животный – сковал горло и опустился в низ живота. Я смотрела в глаза Эдику и, несмотря на всю абсурдность происходящего, понимала, что именно здесь и сейчас хочу его так, как никого и никогда в своей жизни. И что, сделай он третий раз предложение, я без колебаний бы согласилась.
– Не бойся. Ты им нужна только рядом со мной.
Эд рассказал, что тот Андрей, который сватал меня на работу, делал это по наводке Полины.
– Они правильно рассчитали, что за поддержкой ты обратишься по адресу, – Эд закашлялся, – в последнее время его часто мучили подобные приступы. – Иди, тебя ждет клиент, – я поняла, что наше свидание – это финал. – Иди и не бойся. Они знают, что ты ничего знать не можешь. Иди, надо так, пойми, надо.
– Нет.
Мне захотелось, чтобы Эд признался в любви. Но он улыбнулся:
– Да. А вот Полину сживать со света не стоит. Дура она завербованная, а не певица. По крайней мере, теперь. Иди, – еще раз повторил он.
Мы смотрели друг на друга, как загнанные дворняги, готовые любиться в холод и голод, только бы не остаться без продолжения рода.
Эдик исчез бесследно. Когда я смирилась с тем, что его посадили, разом опротивело все – работа, общение, снимаемая квартира. Сначала это выражалось в неоправданной агрессии по отношению к клиентам агентства, потом на смену раздражительности пришло равнодушие. Именно его Полина и восприняла как прощение с моей стороны. В апреле у нее заканчивались репетиции шоу-программы в «Кристалле», и она пригласила меня на второй премьерный показ.






