Дневник архимандрита Антонина (Капустина). 1850 Капустин архимандрит Антонин
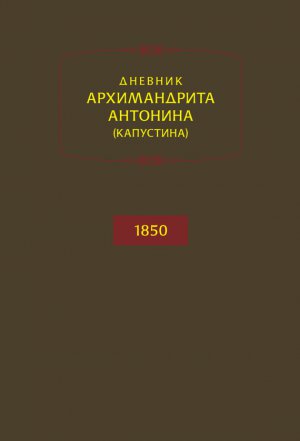
© Л. А. Герд, К. А. Вах, Составление, подготовка текста, 2013
© Л. А. Герд, Статья, 2013
© К. А. Вах, Примечания, статья, 2013
© Издательство «Индрик», Оформление, 2013
Архимандрит АНТОНИН (КАПУСТИН).
Фотопортрет. 1850-е гг.
От составителей
Настоящее издание второго по счету тома Дневника архимандрита Антонина (Капустина) за 1850 год продолжает научно-исследовательский и издательский проект по изучению и публикации в полном объеме этого уникального исторического источника. Весь комплекс Дневника архимандрита Антонина охватыает период с 1817 по 1894 гг. Проект был инициирован группой российских исследователей, возглавлен членом-корреспондентом РАН Я. Н. Щаповым и получил благословение Святейшего Патриарха Алексия II, который принял на себя звание его почетного председателя. В память о наших первых руководителях редакционная коллегия пока не предпринимает шагов по замещению этих должностей и вся научная и организационная работа ведется силами редакционного совета.
Первым увидел свет Дневник архимандрита Антонина (Капустина) за 1881 год. В этом издании был сформулирован основной принцип научной работы в рамках проекта – предоставить как исследователям, так и широкому кругу заинтересованных читателей исторический источник с комментарием, необходимым для понимания содержания текста[1]. При этом в первую очередь было решено сосредоточить усилия на изучении: деятельности архимандрита Антонина (Капустина) на Православном Востоке, где в общей сложности он прожил без малого 44 года. Из этого времени 10 лет Антонин провел в Афинах, 5 лет в Константинополе, остальные годы – в Иерусалиме. Работу по подготовке к изданию Дневника, осуществляют две группы ученых, каждая в рамках своего периода. Научно-исследовательской работой над наиболее объемным иерусалимским периодом занимается исследовательский коллектив под руководством Н. Н. Лисового. Изучением и изданием томов Дневника афинского и константинопольского периодов жизни архимандриат Антонина руководит Л. А. Герд.
Настоящая публикация тома Дневника за 1850 год открывает собой научно-издательскую программу по выпуску в свет афинского и константинопольского периодов деятельности архимандрита Антонина. В дальнейшем планируется отойти от заявленной ранее методики публикации Дневника по одному году в каждом томе. Авторский коллектив считает возможным в ходе последующего издания сгруппировать годы Дневника, охватывающие афинский и константинопольский периоды в трех томах: 1851–1855 гг., 1856–1860 гг. и 1861–1865 гг. соответственно. Каждый из этих томов будет содержать отдельный справочный аппарат и комментарий.
Такое расположение материала не случайно. Период 1851–1855 гг. отражает и первый этап в жизни архимандрита Антонина на Православном Востоке. В эти годы он как бы пускает корни, врастает в эту новую для него реальность взаимоотношений, сложившуюся внутри восточнохристианского мира. Ситуация усугубляется для него теми обстоятельствами, в которых оказались представители Русской Церкви на Востоке перед самым началом и в продолжение Крымской войны. Этот период стал для него настоящей школой в церковно-дипломатическом и человеческом плане. Многие представления Антонина, с которыми он выехал из России, претерпели в этот период серьезные изменения. В то же время обстоятельства позволили раскрыться его талантам церковного дипломата и ученого. Второй период (1856–1860 гг.) характеризуется теми изменениями в русской политике на Православном Востоке, которые произошли в первые годы после подписания Парижского мира. Роль Антонина как настоятеля русской посольской церкви в Афинах в этих условиях получала самостоятельное, пусть и не официальное значение представителя Русской Церкви в Греции. В середине 1850-х гг. отношения России с греческими иерархами Восточной Православной Церкви обострились. С изменением политики русского правительства в балканском регионе и на Ближнем Востоке при Александре II в греки начинают воспринимать русских как своих прямых соперников в будущем разделе наследия Османской империи. Наиболее открыто это недоверие к России проявлялось как раз вне пределов Османской империи. Если в Турции Патриархи вынуждены были лавировать между российскими, османскими и европейскими интересами, то вновь созданный Синод Элладской Церкви постепенно все больше проникался антирусскими настроениями. В этих условиях российским дипломатам в Греческом королевстве предстояла филигранная работа по созданию условий для диалога и противодействия антироссийской политике великих держав в Греции. И архимандрит Антонин становится негласным, но очень эффективным участником деятельности российского посольства в указанном направлении. Третий период 1861–1865 гг. посвящен пребыванию архимандрита Антонина в Константинополе. Многое, что было сказано о его церковно-политическом значении для русской политики в Греции, может быть отнесено и к его деятельности в качестве настоятеля русской посольской церкви в Константинополе. Правда, теперь Антонин попал, так сказать, в эпицентр церковно-политической жизни, сосредоточенной так или иначе вокруг Вселенского патриаршего престола. Здесь было переплетено все сразу: взаимоотношения Русской Церкви и Восточных Патриархов, церковно-дипломатические, канонические и внутренние проблемы Православной Восточной Церкви, контакты с инославными конфессиями, национальные и межэтнические отношения, политическое положение Османской империи и ее взаимоотношения с европейскими державами и т. д. Можно предположить, что для самого Антонина это был бесспорно интересный, хотя и трудный период его жизни на Востоке, особенно, когда его непосредственным начальником стал близкий ему по духу человек – граф Н. П. Игнатьев. Этим можно объяснить многочисленные жалобы Антонина Игнатьеву по поводу его затянувшейся иерусалимской командировки. А когда Антонин указом Синода от 5 июня 1869 г. был официально назначен начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, первое, что он делает, пишет проект о соединении в одном лице должности начальника Миссии в Константинополе и в Иерусалиме. Теплое и чрезвычайно трепетное отношение к Игнатьеву Антонин пронес через всю свою жизнь[2], но вернуться в Константинополь из Иерусалима он уже не мог, а после отъезда Игнатьева – вряд ли бы и захотел.
Дневник за 1850 год охватывает последние месяцы пребывания Антонина в Киевской духовной академии. На страницах Дневника занятия в академии и семинарии чередуются со службами, праздники сопровождаются описанием общих поездок за город на хутора, принадлежавшие епархии. В 1850 году выходят первые печатные труды Антонина, что также находит свое отражение в Дневнике. Знание той среды, которая окружала Антонина, чрезвычайно важно для изучения его деятельности на Востоке, для понимания его личности в целом. На киевских страницах Дневника оживают колоритные, почти лесковские картины. Академия в эти годы живет насыщенной жизнью. Среди ее администрации и преподавателей значительное количество выдающихся представителей русского ученого монашества, большинство из которых оставили заметный след в истории Русской Церкви. Когда Антонин пишет Н. П. Игнатьеву в январе 1869 г. о том, что его ученики в России уже архиерействуют и сияют звездами, – мы понимаем, что он говорит о своих киевских товарищах, среди которых ученик Антонина Иоанникий (Руднев), будущий митрополит Киевский и Галицкий, и сокурсник его по Академии Нектарий (Надеждин), будущий архиепископ Харьковский и Ахтырский. Его близкими знакомыми по преподавательской деятельности были архимандрит Иоанн (Петин) – будущий епископ Полтавский и Переяславский, и архимандрит Димитрий (Муретов) – будущий архиепископ Херсонский и Одесский. Особое место заниает искренняя и задушевная дружба Антонина с архимандритом Феофаном (Авсеневым), оказавшим сильнейшее влияние на его мировоззрение. Петр Семенович Авсенев (пострижен в монашество с именем Феофан в 1844 г.) преподавал в Академии философию и психологию. Его принято считать родоначальником российской школы психологии. «Начитанность его вообще была необыкновенна велика, а жажда чтения – неутолима»[3]. Соединив классическую античную науку о душе с современными ему достижениями западной философии и естествознания, он сопоставил полученный результат со святоотеческой традицией. В результате такого синтеза европейская философская традиция в существенной своей части оказалась переписанной на язык Православной Церкви. Курс его пользовался особым вниманием со стороны студентов. Знаменитый богослов и педагог Преосвященный Иннокентий (Борисов) в бытность свою ректором академии неоднократно посещал лекции профессора Авсенева и публично высказывал ему свое одобрение. Взгляды архимандрита Феофана получили выражение в уникальном и самобытном научном обобщении, озаглавленном «Жизнь души». Читая эту книгу сегодня, нас не покидает ощущение того, что мы говорим с нашим современником, а методы и базовые элементы, на которых строится изложение, есть данные современной науки. Одно из центральных мест в книге отводится состоянию души во время сна, а также магнетической или нервной силе души. Согласно выводам автора, сновидения человека есть символический язык души, который нужно стараться понять. «Кто через самоиспытание дознал нечто из этих наречий и когда какой язык употребляет больше душа его во сне, тот может несколько уразумевать свои сны, но не чужие»[4]; «В состоянии сна открывается внутренний, потаенный сердца человек. Посему вникай в сновидения, дабы узнать нравственное свое состояние»[5]. Многочисленные описания снов, которые постоянно помещает Антонин в своем Дневнике, есть не что иное, как отражение теории архимандрита Феофана. Отсюда происходят и попытки объяснять свои сны, и соблазнительное для нашего времени доверие к снам со стороны ученого-монаха и архимандрита[6]. Заметим, что это же повышенное внимание к сновидениям было свойственно старшему другу о. Антонина, не менее его ученому, архимандриту Порфирию (Успенскому), и не только ему одному. Классическая русская литература XIX века наполнена сновидениями. Отношение к ним героев и автора как правило необычайно серьезное. Достоевский, в романах которого снам и их толкованию часто отводится центральное место, верил в существование второго зрения, доступного человеку во сне и считал свои сны вещими[7]. И подобных примеров мы можем найти множество. Из Дневника Антонина мы видим, как толкует его сон один из наиболее почитаемых в Лавре духовников старец Парфений Киевский (запись от 14 марта). В таинственной связи между душой и телом виделась в первую очередь мистическая связь человека с Богом. «Сердце, проникнутое любовию к Богу и озаренное внутренним светом, в сновидениях дает вещам нередко совсем другое значение, нежели какое находит в них любознательный рассудок или чувственность… Для любящего Бога сердце имеет ключ к естествознанию внутреннему, которое видит в природе откровенное слово Божией премудрости»[8]. И различные проявления силы души, такие как ясновидение или магнетизм, воспринимались как естественные проявления божественных дарований, скрытых в человеческой природе. Именно поэтому спиритические сеансы могли устраиваться членами царской семьи даже в присутствии духовенства, а сеансы медиумов в России проходили публично и без каких-либо ограничений. Все это нужно иметь в виду, когда мы читаем в Дневнике подробное описание очередного сновидения.
Решение Антонина просить о назначении в Афины также сформировалось при участии архимандрита Феофана, но, возможно, было спровоцировано отказом назначить его на должность инспектора академии. Согласно данным Дневника, разговор о переводе за границу зашел после получения 18 февраля архимандритом Феофаном письма от своего прежнего академического начальника и покровителя – архиепископа Херсонского Иннокентия (Борисова). «И я не спал потом целую ночь, думая об Афинах, Палестине и всем Востоке», – записал Антонин в Дневнике на следующий день. Больше недели прошло в обдумывании этого шага и в разговорах о возможных переменах. Наконец, 4 марта, архимандрит Феофан в ответном письме к архиепископу Иннокентию, отправленном в Петербург после получения окончантельного согласия от Антонина, рекомендовал его для перевода в Афины. Мысль о Востоке постепенно захватила Антонина. Через неделю (12 марта) он уже объяснял свой сон тем, что в столице в этот день должно было быть получено рекомендательное письмо о. Феофана. Вероятно, дело о назначении о. Феофана в Рим уже было заранее подготовлено со стороны архиепископа Иннокентия. В ответном письме, полученном в Киеве 28 марта, его вопрос выглядит полностью решенным, тогда как об Атонине поручено было представить новую более решительную рекомендацию, отправленную о. Феофаном в Петербург 30 марта. Неофициально Антонин узнал о своем назначении в Великий Понедельник 17 апреля. Письмо из Синода ректора академии Антония (Амфитеатрова) извещало о предполагавшемся назначении о. Антонина в Афины. «У меня не стало головы! Итак, я решительно буду на Востоке!! в Иерусалиме!! в Египте!! Ай! ай! Как бы не сойти с ума».
Антонин горячо воспринял это известие и не смотря на явное неудовольствие начальства (Дневник за 24 апреля) не изменил принятого однажды решению. Но дело с отъездом затягивалось. Прошла весна, за ним лето. 11 августа Антонин проводил в путь архимандрита Феофана, а на следующий день отпраздновал день своего рождения. Ему исполнилось 33 года – символический возраст. 14 августа, в день памяти прп. Феодосия Печерского, митрополит Киевский Филарет собственноручно возложил на него пожалованный Синодом кабинетный крест и, напутствуя, произнес шутя: «Как бы тебя, о. Антонин, не сделали там архиереем греки-то. Вези им побольше денег…» С 19 августа Антонин начинает делать записи шифром. Только в день отъезда 2 сентября появляется краткая запись: «Братство. Старый Киев. Феофания. Большая дорога. 5 минут плача. Дремота. Ночь. Прощай Киев!» Описание пути из Киева до Одессы, посадки на пароход и отъезда вновь сделаны шифрованным письмом. Лишь на подходе к Босфору он вновь возвращается к прежней манере ведения Дневника. 22 сентября пароход подошел к стенам Константинополя. «Вот он, заветный, таинственный, с раннего детства врезавшийся мне в душу, Царьград! Приветствую тебя, любимец души моей!» Перед ним открывался неведомый и манящий Восток, где судьбой ему было предопределено прожить большую часть своей жизни.
Издание подготовлено по машинописной копии Дневника, хранящейся в библиотеке ГМИР и сверено с оригиналом РГИА. Текст воспроизводится в современной орфографии, с сохранением стилистических особенностей языка. Выделения в тексте сохраняются. Отдельные места, написанные киноварью, а также авторские пометы на полях оговариваются в примечаниях. Многочисленные сокращения, не важные для понимания текста в целях удобства восприятия раскрыты без указания. В отдельных случаях раскрытые сокращения помещены в угловые скобки. Перевод иноязычных слов и фраз вынесен в примечания.
Составители считают своим долгом поблагодарить директора Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург) и А. Р. Соколова за предоставленную возможность работать с оригиналом Дневника и за содействие в изготовлении необходимых цифровых копий. Выражаем признательность Государственному музею истории религии (Санкт-Петербург) и Е. А. Терюковой за постоянную помощь оказываемую нашему проекту со стороны руководства музея. Работа над текстом Дневника и составление комментария были бы немыслимы без архивных материалов, хранящихся в Архиве внешней политики Российской империи (Москва). Слова нашей особой благодарности директору АВП РИ МИД России И. В. Поповой.
Подготовка Дневника и его издание стали возможны благодаря поддержке, оказанной Российским гуманитарным научным фондом и его руководителями: В. Н. Фридляновым, Ю. Л. Воротниковым и В. П. Гребенюком.
Выражаем нашу искреннюю признательность архиепископу Егорьевскому Марку (Головкову) за постоянное доброжелательное внимание к работам по изданию Дневника.
Настоящая публикация Дневника за 1850 год приурочена к 120-летию со дня кончины начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина).
Л. А. Герд, К. А. Вах
Архимандрит Антонин (Капустин). Дневник. Год 1850
Новый 1850 год
<Январь>
Воскресение, 1 янв<аря>
Служили обедню и ездили в Лавру поздравлять Владыку{1} с Новым Годом. Обедали в трапезе и выполняли все, что было пренужно. Кажется, вечерком сидели у о. типографа, пока не пришло инспекторское повеление ехать нашему бродяжничеству домой, не томя лошадей. Дома приготовлял тетрадь для переписки «Круга»{2}.
Понедельник, 2 янв<аря>
Пересматривал и докончил Мытаря и Фарисея{3}. Теперь остается только сесть да переписывать. И я точно, сел и немилосердно томил свою руку: до того, что она стала неметь и судорожничать.
Пятница, 6 января.
На празднике{4} у нас служил Преосвященный викарий{5}. После обедни было обыкновенное освящение воды на Днепре, причем я не был. Что происходило в остаток дня не могу припомнить. Вероятно, я продолжал заниматься перепискою своего изделия.
Воскресение, 8 января
После обедни получил записку от о. Ивана{6}, приглашавшую меня к нему обедать, с намеком на некую новость. Обед был, но новости никакой не оказалось. Зато мы выкинули с о. Иваном потом немаловажную штуку. Ему какое-то заделье было съездить к Николаю Пустынному{7}, и он для компанства пригласил меня с собою. В три часа мы поехали и до 8-ми часов блудили{8}, пока нашли пустынного святителя. Сначала нас направили к старому попу, т. е. о. Исакию{9}, от него мы перешли к новому – о. Димитрию{10}, его зятю, безногому, а как вскоре оказалось, и безголовому. Сначала больной благоговел пред гостями, а потом, к концу вечера, до того вознесся над ними, что имел благодушие изречь оные приснопамятные слова: «Дураки вы все – ректора и инспектора!» Меня хозяин принимал за инспектора семинарии. После такого комплимента нам осталось только пожелать ему доброй ночи и лечь спать. На дворе был сильный мороз, и в хате так холодно, что руки мерзли. Кое-как, завернувшись в рясу, я заснул на лавке.
Понедельник, 9 янв<аря>
Встали на восходе солнышка. Ходили в церковь{11}, согрелись чаем и еще кое-чем и в крепкую стужу отправились в Киев. Прибыли в оный часу в 11-м. С час или более я отогревал руки, пока оне сделались способными держать перо и писать.
Воскресение, 15 января
Всю истекшую неделю переписывал свой «Круг». Сегодня после обедни мы получили приглашение быть на пироге у именинника{12}. О. ректор{13} отказался по болезни; о. инспектор{14} – по слабости; о. Даниил{15} – по убеждению, что будущему инспектору приличнее не являться без ректора. Между тем о. Иван, по примеру прошлого воскросенья, опять приглашает меня обедать к себе. Несмотря на все сие, близость наступающего цензурного истязания моей рукописи расположила меня быть у именинника. С о. Иоанникием{16} мы упешеходствовали и явились в самое то время, как флюгер Григория Никифоровича{17} великолепно прозвучал во уши всей почтенной публики, что ректор и инспектор выдумали себе болезнь, а прочие (мы недостойные) приплясываем оным… До того я возблагоговел пред хозяином – именинником, что вечерком послал ему великолепную гравюру Drei Mnner zu Rtli{18} в подарок. Подымается Антонин на штуки…
Среда, 18 января
Представил при прошении в цензурный комитет свою рукопись, присовокупив, что остающиеся непереписанными проповеди будут в скорости представлены комитету, а оне, не только не переписаны, но еще и не сочинены… Становится занимательно! Что-то будет с моим предприятием?… Ну как кончится все ничем? Стыд и жаление о пропавшем напрасно жестоком труде.
С 19<-го> числа по 25-е продолжал сочинять остальные проповеди до Пасхи. Спасибо, братец{19} посоветовал издать пока первую часть проповедей, чтобы потом посмотреть, что с ними будет, и тогда уже подумать о второй – послепасхальной. До какой степени я истомил себя, свидетельством тому может служить то, что 21 числа я уже не мог писать правою рукою и хотел заменить ее левою, но не сумел сделать этого; весь следующий день должен был отдыхать, написавши строк десяток – в начало великосубботней проповеди. Вместе с телом истомилась и мысль. Великих усилий и напряженных соображений стоила проповедь на В<великий> Четверток. Приходили минуты, в которые я писал, не сознавая, что и к чему.
Понедельник, 23 числа
Неожиданно мы (монахи) получили от о. ректора приглашение на обед. Немало составлено было нами по этому поводу умозаключений предположительных. К большему соблазну известно стало, что вчера за обедней (я не служил или служил раннюю) о. Даниил показывал о. ректору какое-то письмо с особенною пассиею{20} и после того еще ниже кланялся ему после возгласов и в друтих случаях, где было нужно. Так мы и подумали (с о. Феофаном и Иоанникием), что верно о. ректору пришла весть о назначении его викарием на третью вакансию в г. Волчек{21}. Увы! все оказалось мечтою и сошлось на пустяк. О. ректор был некогда в этот день именинник и в этот же день подал прошение о монашестве. После разочарования с одной и разблажения с другой стороны, я, по обычаю, принялся за сочинение своего неумолимо-требовательного «Круга», но, кажется, мало имел сочувствия с ним, потому что почти все сочиненные 24 строчки впоследствии времени были зачеркнуты. Что ж делать? на то праздник!..
Четверток, 26 янв<аря>
Двум любезным именинницам по 1000 лет. Ради праздника начал с благословением Божиим читать обличительное богословие. Вот и все! Может быть, сегодня кончил и великосубботнюю проповедь. Комитет{22} поручил рукопись Ивану Михайловичу Скворцову{23}, который ничего с нею до сих пор не сделал. Отговаривается контрактовым недосугом… Жаль. Время спешит и не ждет нашего брата.
Пятница, 27 янв<аря>
Послал Ивану Матвеевичу{24}, ради его именинства просфору и братцево творение о душе моей, душе моей…{25} Что следовало за сим событием, не вем. Батюшка о. инспектор решительно требует, чтоб его уволили от инспекторства. Владыка с намерением проволакивает дело, чтобы дождаться о. Антония{26} (которого он гласно и прямо называет будущим ректором академии) и у него узнать, на что решиться. Сам Владыка расположен сделать инспектором о. Даниила. Все (о. Димитрий, о. Лаврентий{27}, о. Феофан) другие на это место рекомендуют меня. Но «у него нет характера!», говорит обо мне Владыка.
Ну!.. дожил Антонин! Скоро скажут, что у тебя нет и головы.
Февраль
Первое и главнейшее, что занимает в настоящее время весь мир, это выезд из Петербурга о. Антония. Чается вместе с этим нечто особенное, чрезвычайное, непредвидимое, неразгаданное. Самое лице о. Антония превращается в какой-то лучезарный миф, к которому устремились все телескопы умов и сердец киевских. Не меньше всех прочих занята грядущим событием академия. Уже некоторые из ее старцев ежедневно и многократно наведываются: не приехал ли о. ректор?
Четверток, 2 февр<аля>
Праздник. Служили и, вероятно, у о. ректора обедали. Вечером всеобщий звон (языков) разнес по Киеву весть о прибытии Петербургского. Итак – увы! мимолетный о. ректор семинарский, наш любезнейший батюшка о. Иван должен возвратиться на прежнее место в бурсу и ссадить (тоже любезнейшего) о. Дорофея{28} с смотрительского трона на табурет учительства! Оле чудесе! Sic transit gloria mundi!{29}
Пятница, 3 февр<аля>
Вся семинария являлась к новоприбывшему своему ректору, но успел предварить всех прочих наш авва…{30}
Контракты кончились, выманив, по обычаю, у меня рублей 30 серебром на картинки и друтие пустячные мелочи. Может быть, теперь пошевелится и моя рукопись…
Суббота, 4 февр<аля>
Ходили и мы с о. Иоанникием к о. Антонию. Новое светило ко мне стало полюсом, к о. Иоанникию умеренным поясом… Радуюсь и этому. На полюсе хоть холодно, зато здорово… В сей же день известно стало, что Владыка согласился уволить о. инспектора и на его место утверждает о. Даниила. В сей же день, может быть, я узнал, что Иван Михайлович затрудняется чтением моей рукописи и полагает между прочим, что автор их крепко хитрит…
Воскресение, 5 февр<аля>
До определения о. Даниила исправляющим инспекторскую должность, о. ректор поручает мне инспекторство… Много чести и милости! Опасаюсь, как бы своею «бесхарактерностью» в один час не наделать таких глупостей, которых не исправит характерность и в целый год… О. ректор! ускользнуло от тебя и третие архиерейское место! ускользнет и четвертое! кто не думает о другом, тот напрасно думает о себе…
Понедельник, 6 февр<аля>
Ночью скончался после долговременной болезни студент Феодор Кириллович Ботвиновский{31}. Успокой, Господи, душу его! Был хорошо приготовлен к смерти. Ныне же состоялось журнальное определение Правления о том, что вследствие резолюции Владыки о. архимандрит Феофан увольняется и его должность поручается о. Даниилу; о чем предписывается старшему (?!?) помощнику инспектора о. Антонину объявить студентам. Немедленно я объявил.
Вторник, 7 февраля
Думал было поздравить батюшку ('){32} с днем Ангела, но сообразил, что должен быть при погребении усопшего. Обедни не служил. После отпевания провожал усопшего на Владимирское кладбище{33}, пропешествовав верст 6 или . Похоронив его, закусили у о. Константина Алексеевича Троицкого{34} (брата Платону Алексеевичу){35} и возвратились восвояси.
Воскресенье, 12 февр<аля>{37}
«Не помолимся фарисейски братие!»{38} Алеше миленькому{39}, имениннику нынешнему, вечный покой и царство небесное! Вечером в комнатах о. ректора была ученая Конференция, предметом коей было: х. составление руководства к чтению Св. Писания, причем на мою долю досталось написать о книгах Соломоновых. 2. Рассмотрение синодального предложения о составлении полного круга проповедей на целый год для сельских священников. 3. Рассмотрение составленной священником Алексием Петровским{40} (ай да XI курс!) греческой хрестоматии для духовных училищ. О. новый инспектор предлагал между прочим на обсуждение общее щекотливейший пункт инспекторской должности – распоряжение классом в случае болезни какого-нибудь наставника. В минувшую среду или пятницу у него было столкновение по этому пооду с Иваном Петровичем{41}, заставившее наставников наших прозреть в простачке Даниле себе на уме сущаго о. Даниила… Это начало болезнем.
Не помню в какой день я узнал, что Иван Михайлович отказался цензуровать мои проповеди и передал их о. Антонию. Это на первый раз крепко меня огорчило. О, судьба, судьба! подумал я. Ты меня хочешь сделать совершенно восковым… Гнись и мнись и извивайся, кланяйся и ласкайся – забудь и думать о ропоте и неудовольствии! – Нечего делать! пошел к о. Антонию просить милости своему исчадию. Что ж? каково было мое изумление, когда я получил сведение, что уже четыре проповеди мои прочтены и могут быть хоть зараз печатаемы… И прочие все будут прочтены также вскорости. Вот как вдруг пошло дело! От Ивана Михайловича не дождаться бы верно и в полгода того, что сделал о. Антоний в неделю. Да притом и цензура теперь такая милостивая, что лучшей и требовать грешно. Итак – нет худа без добра!
Суббота, 18 февр<аля>
Получил первые две тетради своей рукописи с позволением печатать. Стало уже не только занимательно, но и тревожно. Как! ужо и печатать можно? Да это просто: не знать что делать! Как печатать? Где печатать? Когда печатать? На какой бумаге? В каком формате? каким шрифтом? Напасть да и только! А напастнее всего: где взять денег на напечатание? Просить у родителей?{42} У дяди?..{43} Занять у «Воскресного чтения»?{44} Украсть? Наковать самому?.. Ну, просто хоть с ума сходи! – Вечером б<атюшка> получил письмо от Пр<еосвященного> Иннокентия{45}.
Воскресение, 19 февр<аля>
Сыну лукавому ничто же есть благо!{46} Служил обедню и это чуть помню. Прочее же все предано забвению. Вечером, вероятно, ездили к о. наместнику за совещанием{47}. Сперва авва говорил батюшке: куда тебе ехать? больному? пускай вот едет Антонин! Потом, разговорившись порядком, уже посылал его в Рим, а мне говорил: ступай в Морею!{48} Это шуточное слово почему-то запало глубоко мне на сердце, и я не спал потом целую ночь, думая об Афинах, Палестине и всем Востоке…{49}
Понедельник, 20 ф<евраля>
Во время обедни мне пришла великолепная мысль уладить все дело единым махом… Что тут долго думать о изыскании средств печатания? Пойду к отцу моему ректору и реку: отче! несмь достоин нарещися богатым человеком. Сотвори мя, яко единого от наемник журнала твоего; т. е. попрошу о. ректора, нельзя ли будет поместить несколько проповедей моих в «Воскресное чтение» прежде, нежели они напечатаются отдельно и таким образом пособить мне в моем предприятии?..{50} Пошел и паче чаяния встретил совершенное его на то согласие. Потом чем занимался – не вем.
Вторник, 21 февр<аля>
Имел дело с Кочубеевским коммиссионером Метелицею на счет бумаги{51}. Виделся с Вальнером{52} и чуть-чуть не заключил с ним контракта о напечатании моего «Круга». После обеда ушел к наместнику Михайловскому{53} и умолил его благословить мое дело{54}. Спасибо ему, благословил охотно. После чего мы ездили к Гликсбергу{55} и заключили с Калиновским{56} условие, вследствие которого я послал к Вальнеру извинение (все это было вчера){57}.
Весна
- Как весна
- Ни прекрасна,
- Все она
- Преопасна —
- Злой недуг
- Мне сулит,
- Душу «Круг»
- Закружит.
Март
Среда, 1 число
Блины, блины и блины! Вот все, что можно сказать о каждом из сих дней. Ученье, разумеется, сегодня кончилось, и академия погрузилась в абсолют. Мы с батюшкой{58} постоянно толкуем о Риме и об Афинах, к чему отчасти примешиваются трактаты о неприязненных прежней инспекции отзывах и действиях нового инспектора и о кое чем прочем…
Четверток и пяток
Ни тот, ни друтой день не оставили по себе замечательных следов. Известное дело: маслянка! Довольно одного этого, чтобы не желать Дневнику сему ничего более в рекомендацию тому и другому дню.
Суббота, 4 марта
О. Ф<еофан> уехал за благословением к Владыке и батюшке. Сверх чаяния последний не советует ему ехать. Долго ждал я возврата его из Лавры. Он возвратился и стал писать ответное письмо в Питер. Истребовав от меня решительное да, он стал рекомендовать в Афины… Я изнемогал от треволнения душевного. Когда письмо было кончено, б<атюшка> настоял непременно, чтобы подписался и я. Я засвидетельствовал истину своего желания и предал судьбу свою воле Божией.
Воскресение, 6 марта
Целовник{59}. Служили обедню, после чего поехали на прощание с Владыкою. Слушали у него проповедь, закусили у него и простились с ним. Обедали в трапезе и к вечерне прибыли восвояси. С 8-ми по 11-ть часов сидели по обычаю у о. ректора и простились с ним, а потом и друг с другом. Господи! прости наше лицемерие!
Великий пост
Чистый понедельник, 6 ч<исло> Начали с помощию Божиею поститься, и я принялся за сочинение следующих проповедей «Круга», и именно Пасхальной. В четверток кончил ее. В пятницу писал уже проповедь на пассию второй недели. Хотели с б<атюшкой> ехать исповедаться в Лавру, но не нашлось для нас экипажа. Нов<ый> инспектор не пожелал взять из Лавры духовника и поручил исповедывать студентов о. Арсению. И все это делается потому, чтобы решительно истребить так называемую феофановщину!.. При таком инспекторе можно ли быть усердным мне – феофановскому помощнику?.. Уже одни дела певческие оттолкнули меня совершенно от о. Даниила! – Прости, Господи! Не в такое бы время заниматься подобными пересудами. В досаду вводит и типография{60}, доселе не напечатавшая ни одного листа моих проповедей, хотя обещание дано было печатать каждую неделю полтора листа и на крайность – лист.
Суббота, 11 марта
Намеревался служить раннюю обедню, но проспал (?) утреню. Что делать? Уж как пошло неладно, так не поправишь своей оплошности. Зато целый день и ночью очень долго писал проповедь. Так много зараз, кажется, еще никогда не писал.
Воскресение, 12 марта
Видел ночью, часу во 2-м или з-м чудный сон. Куда-то ехал или шел вместе с Петром{61} за город. Там неожиданно встретил меня о. Парфений{62} и, показывая особенным образом исписанный им лист бумаги, утверждал, что по силе писанного тут меня надобно постричь в схиму. Я принял это с великою горестию и неохотою и отказывался от того. Но он, немного думая, снял с себя клобук или куколь и надел на меня, прибавив: будь ты Пимен многоболезненный! Мне жаль стало прежнего имени и прежнего положения. Я горько заплакал, но потом скрепился сердцем и сказал сам себе: разве я не человек? – Когда так или иначе стал схимником, то так тому и быть, надобно и жить по-схимнически! О. Парфений собирался потом ехать назад в город вместе со мною для моего утешения и подкрепления, но я сказал: пойдем пешие, и он был рад этому. Потом его не стало, и я остался один. Меня опять взяло горе. Иду куда-то; смотрю: Петр мой лежит и спит, раскидавшись. Я хотел прикрыть его одеялом, но совесть сказала мне: теперь тебе – схимнику – уже неприлично заниматься этим. Затем сцена переменилась. Вижу: стою во множестве народа… Из города тянется длинная процессия монахов и послушников с зажженными свечами, и все, кажется, из здешнего монастыря. Они приближаются ко мне с тем, чтобы совершить мой постриг. Я стоял перед стеною, и передо мною была икона Василия Великаго. Дошедши до меня, процессия остановилась и о. Анастасий{63} спросил: чего ради пришел еси семо?
Услышав это, я припал к иконе Святителя и горько зарыдал. Что было дальше, уже не помню. Некоторым объяснением этого сна может быть то, что сегодня в Петербурге получено будет письмо с изъявленным мною желанием быть в Афинской миссии. День прошел без особенных приключений. Написал в проповедь мало.
Вторник, 14 марта
На часы с батюшкой поехали в Лавру и прямо спустились к ближним пещерам. Отстояв преждеосвященную обедню, тут, в алтаре, у престола исповедались. Потом зашли к батюшке о. Парфению. Когда я рассказал ему свой сон, он сказал: верно тебе Господь пошлет какой-нибудь подвиг на спасение души! – Вечером в тот же день я ходил к о. Антонию осведомиться о судьбе стихов своих, и он при мне же пропустил их к напечатанию{64}. Что за милый цензор! Целую ночь потом я кое-что исправлял в них.
Среда, 15 марта
Занимался тем же делом, или, вернее, оканчивал проповедь на пассию. Вечером Ф.В.Ч.{65} пригласил нас на музыкальный вечер к Ник. А. Р-у.{66} Сперва мы слышали квартет Гайдена, потом Шторха, потом еще кого-то и, в заключение всего, Бетховена. Последний заставил нас совершенно растеряться. Что за пречудная композиция! Отчета о слышанном не могу дать.






