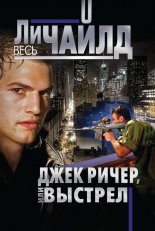Расскажи мне… Вассергольц Ида
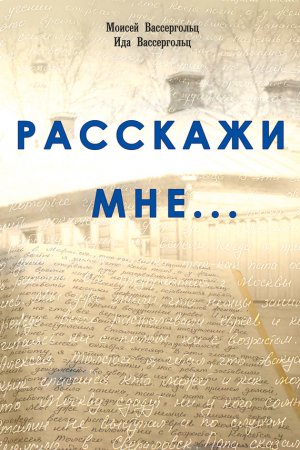
Эпизод 1
Родился мой папа в городе Гарволине (60 км от Варшавы) в 1898 году в семье краснодеревщика. Был он седьмым сыном и предпоследним.
Дедушку – папиного отца я видел только на портрете. Это был благообразный еврей с большой седой бородой и в ермолке. От вечной нужды, по словам папы, он был злой и, хотя брался обучать своему ремеслу по очереди всех своих сыновей, ни один не пошел по его стопам.
Бабушку я не видел даже на фотографии, но в папиных воспоминаниях, это была маленькая женщина, очень добрая, вечно в хлопотах, чтобы прокормить и одеть своих детей.
Каждый из папиных братьев, когда достигал 13–14 лет, уходил из дома, чтобы начать самостоятельную жизнь. Из-за вечной бедности детей не отдавали учиться, и мой папа ходил только два года в хейдер при синагоге.
Хейдер – это еврейская школа, где мальчиков обучали молитвам, но и читать и писать по-еврейски папа немножко научился.
Когда ему исполнилось 13 лет, что по еврейским обычаям соответствует совершеннолетию, он, как и его старшие братья, уехал из дома и пересек просторы государства Российского, чтобы добраться до центра еврейской оседлости – города Киева.
Киев в Российской империи был, как-бы, столицей евреев, так как в центральные города им въезд был запрещен.
В Киеве папа поступил учеником портного в мастерскую к богатому еврею.
Через два года он выписал к себе младшего брата (дядю Яшу), и это единственный папин родственник, которого я знал.
Сначала началась первая мировая война, потом революция, Польша отделилась от России, и все папины родные остались за границей. Он больше их не видел и не переписывался. И остался он вдвоем с младшим братом.
Моя мама родилась в 1900 году в местечке Хойники, в семье полу крестьянина, полу ремесленника. По законам Российской империи евреи не имели права владеть землей, и, поэтому в сельской местности, занимались извозом и ремеслами. Вот в такой семье и родилась мама. У нее было два брата и сестра Хана.
О маминых родителях я не знаю ничего, и даже фотографий не видел.
Мамина семья, по еврейским меркам, была маленькая – всего четверо детей. Их соседка имела 16 детей и, чтобы не тратить силы и время на перечисление их имен, обычно созывала их домой громким криком: «Эй, вы все, кого я родила!».
Уйти из родных мест девушке-подростку было трудно, но прокормиться в местечке было еще труднее.
В 14 лет мама поехала в г. Киев, где поступила ученицей портного в мастерскую, где уже работал папа. Там они познакомились, полюбили друг друга и поженились в 1916 году.
Сколько смогу помнить, ни разу не слышал я, чтобы папа с мамой ругались. Несмотря на то, что мама была совсем неграмотная, а папа малограмотный, они жили очень дружно и, как я теперь понимаю, нежно любили друг друга и детей.
Ремарка 1
Моего деда – папиного отца звали Абрам Вигдорович Вассергольц, а бабушку – Берта Моисеевна Куравская, хотя потом я узнала, что, по-настоящему, ее надо было бы звать Бася-Лоим, дочь Моше. На фото, которое мой дедушка подарил бабушке 12 июня 1916 года (перед свадьбой), он написал: «Дарю тому, кого люблю. На долгую добрую память Берте Куравской от Вашего друга Абрама Вассергольца».
Когда в России начались «беспорядки», мама и папа стали собирать деньги, чтобы выехать за границу. Но, в один «прекрасный день» все их деньги стали ничем и им пришлось остаться.
К февралю 1917 г. рубль на внутреннем рынке обесценился почти в 4 раза.
В 1924 году родители с моими сестрами – Аней и Любой (6 и 4 лет) решили переехали в Москву, где у них были знакомые.
Они купили квартиру в Марьиной роще.
Так как мама приехала в Москву беременной, то вскоре родился и я.
Родился я дома: в доме 105 по Александровской, а ныне Октябрьской улице, в кв. 4, где проживала моя семья и семья Слуцких.
До сих пор я не знаю дня своего рождения. Мама говорила, что я родился в 1924 году 31 августа, т. е. накануне учебного года, но метрику получили через семь месяцев и, чтобы избежать штрафа, записали меня неправильно. Когда я подрос и стал выяснять этот вопрос, то так ничего и не добился. И, хотя в семье отмечали мой день рождения 31 августа, я склонен думать, что фактически родился 30 января 1925 года, как и записано в метрике.
Папа очень хотел иметь сына, и мое рождение его очень обрадовало, но родился я, видно, не в добрый час. О первых годах своей жизни у меня остались смутные воспоминания. Но, начиная с семи лет, кое-что в моей памяти сохранилось.
Чтобы понять, откуда складывался мой характер, нужно знать Марьину рощу того времени, т. е. тридцатых годов. Сколько разных рассказов ходило про Марьину рощу, и даже в 1940 году ни такси, ни извозчик далее Марьинского универмага вечером не ехали. Я же вырос в Марьиной роще и очень ее любил.
Центральная улица Марьиной рощи – это Шереметьевская, которая пересекает ее из конца в конец. Параллельно ей с одной стороны шла Октябрьская улица, а с другой – 1, 2, 3 и 4 Марьинорощинские улицы. Перпендикулярно этим улицам шли проезды от 1-го до 14-го.
На углу Октябрьской улицы и 6-го проезда и стоял наш дом.
Марьина роща была застроена, в основном, деревянными домами в один-два этажа. Каждый дом имел со стороны улицы садик, а сзади – двор, застроенный сараями.
Точно посередине Марьина роща разделялась железной дорогой, проходившей по дну глубокой выемки, и поэтому жителей, живших по одну сторону, называли городскими, а других – залининскими.
Я принадлежал к городским.
Населяли Марьину рощу, в основном, ремесленники.
Кто там только не жил! Были там портные, сапожники, скорняки, печники, плотники, столяры, бондари, медники, лудильщики, пекари, колбасники, извозчики и еще сотня разных профессий. Еще перед Великой отечественной войной в Марьиной роще были частные пекарня, колбасная и парикмахерская.
В каждом доме жило много семей, поэтому каждый дом походил на улей. У нас был «большой» – двухэтажный деревянный дом, и в нем было восемь квартир.
Сейчас я точно не помню, но в первой квартире жило семь семей; во второй – три; в нашей – четвертой, как я уже говорил, – две; в пятой – тоже две; в восьмой – четыре.
Мы жили на первом этаже, и окна, выходившие во двор, были на полметра от земли.
У наших жильцов – Слуцких было двое сыновей, и поэтому, когда я пошел в школу, квартиру разделили. У нас получилась отдельная квартира за номером 4, а у Слуцких – 4а.
Папа с мамой работали портными в мастерской, которая находилась в шестом проезде по Шереметьевской улице. Но заработка, чтобы прокормить семью им не хватало, и они брали еще работу на дом. Это обстоятельство сыграло с нашей семьей нехорошую шутку.
В начале тридцатых годов была карточная система, а моих родителей, из-за т ого, что они работали на дому, отнесли в разряд лишенцев и не дали карточек.
Мне было лет семь, но я хорошо запомнил то время. Чтобы прокормить нас – детей мама с папой продали все из дома, а потом мама отнесла в Торгсин свои золотые сережки – свадебный подарок папы и обручальное кольцо.
Торгсин – это торговая организация, где за сданные золотые вещи можно было на выданные бонны купить любые продукты.
Я запомнил это время, потому что не только я, но и другие ребята нашего двора не отходили от своих мам в ожидании, когда их накормят. Видно от постоянного недоедания я плохо рос, и, когда папа в 1932 году отвел меня в школу, был самым маленьким в своем классе.
Из-за вечного недоедания я был не только маленьким, но и очень слабым, а в Марьиной роще это – беда, так как меня постоянно били и обижали. К счастью это продолжалось всего года три.
Летом в Марьиной роще благодать. Можно бегать и играть целый день на улице в одних трусиках. Покупных игрушек у нас в ту пору почти не было, но игр и так хватало. Мы играли и в прятки, и в салочки, и в чижика, и в фантики, но самая интересная была игра в войну.
Своими силами, кто как умел, мы изготовляли сабли, ружья, пистолеты, луки, стрелы и играли в войну до самозабвения. Частенько, во время игры получали шишки, синяки, не говоря о царапинах и ссадинах. В особенности доставалось мне, как слабосильному. Так что очень часто я приходил домой не только в рваных трусах, но и в крови. В таких случаях мама жаловалась папе, говоря: «Посмотри, в каком виде твой сын!» Папа же всегда отвечал, что все в полном порядке, а вот, когда мой сын придет с улицы чистым, то срочно нужно будет позвать врача.
Были у нас и другие игрушки.
Когда удавалось выпросить у мамы бутылку, то ее можно было выменять на игрушки у китайцев, живших в пятом проезде. Это были уди-уди, бумажный веер или даже оловянный наган. Обладатель оловянного нагана считался богачем.
Летом мы запускали на пустыре змеев и «монахов», во время дождя делали запруды и самодельные корабли.
Иногда, сестры брали меня на прогулку в выемку, где проходила железная дорога, и там мы собирали цветы, ловили бабочек. Так что летом было очень хорошо.
Но вот наступали холода, и выпадал снег.
Территорию улицы около дома убирали жильцы, для чего она была разбита на участки. И вот рано утром после снегопада, пока снег не утоптали, надо было его сгрести в кучи, а потом вывезти во двор.
Для вывозки снега в ход пускалось все: и санки, и корыта, и даже ведра.
В снежные зимы во дворах скапливалось столько снега, что старшие ребята строили целые дома и замки, а некоторые умельцы проводили туда даже электричество.
Вечерами все ребятишки собирались в какой-нибудь квартире на кухне. В каждой квартире кухни были большие, с русской печкой, так что было тепло и вместительно. Там старшие девочки, которые уже ходили в школу, читали нам сказки и учили читать и писать. Для этого у каждого из нас была фанерка, покрытая черной краской и белый грифель или кусочек мела. И хотя было бедно, но, все равно, вспоминается детство, как самое лучшее время.
Мне шел уже десятый год, когда родители смогли меня послать на весь летний сезон в пионерлагерь. После трехмесячного отдыха даже родители меня не узнали, так я поправился и подрос. Да и в нашей семье стало немного легче с едой, а аппетитом я не страдал и после обеда мог скушать еще тарелку пшенной каши с хлебом. Вот в эту осень и произошло мое первое «крещение».
Прямо напротив нашего дома находился завод МЗОЦМ (Московский завод обработки цветных металлов), а рядом с ним построили большой, в два этажа деревянный клуб.
Недавно я там проезжал и видел здание этого клуба: рядом с новыми домами он выглядит, как развалившийся сарай, но в то время он нас восхищал.
На втором этаже этого клуба показывали кино и, конечно, все ребята старались на него попасть.
Вход в клуб был из короткого коридора, в котором было несколько ступенек. Перед входом узкий тротуар, мостик через канаву с водой и мостовая.
Вот ребята при выходе из кино и устраивали такой порядок: они становились по обе стороны коридора и, когда выходил пацан, начинали толкать его от стенки к стенке, пока он не вылетал на улицу.
Еще хорошо, если падал на мостик или тротуар, а если в канаву с водой, то начинался всеобщий хохот, так как все остальные останавливались смотреть на эту забаву.
В свое время я не раз попадал в эту переделку, если не удавалось проскочить за спинами взрослых. В особенности доводил меня один мальчишка – Фима Киксман. У него было еще два брата, да и он был старше и сильнее меня.
Вот и в этот раз, приехав из пионерлагеря, я пошел в клуб смотреть кино. При выходе повторилась старая история, но с другим окончанием.
Когда меня толкнули, я налетел на Фимку Киксмана, но он не успел меня оттолкнуть. Я схватил его и еще одного пацана и, вылетев на улицу, обоих бросил в канаву.
Смеялась вся Марьина роща, а со мной стали более осторожны – я завоевал «авторитет».
Рассказал я об этом случае так подробно, потому что после этого случая меня уже не обижали и приняли в свою артель, как равноправного, все ребята.
С года 1935 наша семья стала жить нормально.
Я помню, как сейчас, когда мама с папой сделали ремонт и купили новую мебель.
Мои сестры были уже большими, а Аня считалась даже невестой.
Начиная с этого времени, мама стала покупать мне много игрушек, чтобы я меньше бывал на улице, так как, завоевав авторитет, я стал верховодить среди мальчишек и готов был пропадать на улице целыми днями.
В школе я учился очень хорошо, так как, обладая прекрасной памятью, почти не нуждался в домашних занятиях, да и сестры здорово помогали.
Память и способность рассказать прочитанное развились у меня благодаря библиотекарше, работающей при нашем клубе.
Когда я пошел в школу и научился читать, сестра Люба отвела и записала меня в библиотеку.
В это время папа работал в мастерской по пошиву кожаных пальто и костюмов для высшего комсостава, находившейся на Гоголевском бульваре. Но работал папа на дому, а мама ему помогала, так что заказчики приезжали к нам на примерку, и это сыграло свою роль и в моей жизни.
Один из заказчиков помог папе купить мне велосипед. В то время велосипед был «дороже» Жигулей, и я был на «седьмом небе» от счастья (все мальчишки завидовали мне) и только друзьям я давал кататься на нем.
На коньках я научился кататься рано.
Все мальчишки, когда наступала зима, привязывали веревками к валенкам или ботинкам коньки и гонялись по улицам.
Чтобы отучить меня от улицы, купили мне ботинки с коньками (гаги) и абонемент на каток в центральном парке Красной армии, находящемся на Екатерининской площади (ныне площадь Коммуны). Так что сразу после школы я переодевался, брал коньки и шел на каток, не пропуская ни одного дня.
Занятия спортом (летом – велосипед, зимой – коньки), хорошее питание быстро сделали свое дело – я очень сильно подрос и, главное, окреп.
В 1936 году моя старшая сестра Аня вышла замуж за брата нашего соседа – Матвея Слуцкого, и папа купил им комнату в Большом Кондратьевском переулке (около м. «Белорусская»). А 16 апреля 1937 года в возрасте 12 лет я стал дядей, так как Аня родила Фирочку.
К сожалению, память не совершена, и что было в свое время очень важным и значительным – забылось. Но очень хорошо я помню, как будучи маленьким, мы с мамой ездили с ней несколько раз к ней на родину – в Хойники.
Мы ехали до Гомеля, а там была пересадка на местный поезд.
В Хойниках жили мамина сестра Хана и брат Лева со своими семьями. К сожалению, я забыл даже имена своих двоюродных сестер и братьев.
В Хойниках не только дети евреев, которых было очень много, но и дети белорусов, говорили на белорусском и еврейском языках. Вот там я и научился понимать и говорить (немножко) по-еврейски.
Средний, любимый мамин брат погиб во время гражданской войны, и меня назвали его именем – Моше-Вейвл, так как его звали Володя.
Дядя Лева погиб во время Великой отечественной войны, а тетя Хана умерла.
Эпизод 2
ИТК – 400/2 г. Тула
24 мая 1964 года вместе с другими меня из Тульского изолятора (тюрьмы) привезли в «воронке» (машина для перевозки заключенных) в ИТК-400/2 (Исправительная трудовая колония). До конца срока наказания мне оставалось 10 лет 4 месяца и 1 день.
Я не знаю, кто первый лишил человека свободы, но думаю, что это было в доисторические времена. И удивительно, что в конце 20 века это положение осталось. Говорят, что пока есть преступники, останутся и тюрьмы. Я же попробую доказать обратное – пока есть тюрьмы, будут преступники. Но вернусь к 24 мая 1964 года.
Из тульской тюрьмы в ИТК 400/2 нас в количестве 22 голов (не человек, а именно голов: так там – в ИТК считают заключенных) привезли и поместили на КПП (контрольно-пропускной пункт).
Там с нашими личными делами ознакомились начальник спецчасти и зам. начальника колонии по оперативно-режимной работе, после чего двух заключенных отправили обратно в Тульский изолятор, как теперь называется тюрьма.
Там же, на КПП, мы прослушали первую лекцию о том, кто мы и как должны себя вести.
Привезли нас в ИТК часов в 9 утра в «вольной» одежде, а без малого в 12 часов с нарядчиком перевели в жилую зону для регистрации.
Мы, как стадо баранов, стояли в узком коридоре с тремя дверьми, одна из которых вела в нарядную, другая – в спальню, а третья – в туалет.
Когда мы так стояли, начался обеденный перерыв, и на нас налетела толпа в одинаковых черных спецовках с шапочками, как у немцев. Я не знаю, как другие (потом я выяснил, что все реагировали одинаково), но сам я не мог отличить одного от другого и стоял с мешком, прислонившись к стене.
И вдруг двоих, пришедших со мной, стали бить, бить зверски, как может бить только толпа. Мы стояли оцепеневшие, ожидая своей очереди. Когда драку остановили, эти двое были все в крови и синяках. Это было мое первое знакомство с колонией, но день еще не кончился.
После того, как нас записали и распределили по отрядам, повели обедать, а потом в кладовую, где мы переоделись в «форму».
Я попал во 2-ой отряд, и меня отвели в жилую секцию, где указали койку на 2-ом «этаже».
В то время в колонии не хватало заключенных, и нас всех – вновь прибывших вывели на работу во вторую смену для зарядки ремней.
Верстаки для сборки транспортерных лент стояли во дворе производственной зоны. Ремни для этих лент, которые мы должны были заряжать, т. е. вставлять заклепки, представляли собой прорезиненные ленты длиной 9,5 метра. В дальнейшем, на эти ленты клалось брезентовое полотно и деревянные рейки – так получалась транспортная лента для комбайна.
Часов в 9-10 вечера, когда стемнело, ко мне подошел один парень и сказал, чтобы завтра я отдал ему макинтош, сапоги и костюм, в котором привезли меня в ИТК, а иначе мне будет плохо.
Он не знал одного, что мне было уже так плохо, что хуже не бывает: я не мог себе представить, что смогу «прожить» в тех условиях более 10 лет.
В руках у меня был молоток, которым я клепал, поэтому я и ответил ему, что, если он сейчас же не уберется, проломлю ему голову, а там пусть будет, что будет. Как ни странно, но это подействовало, хотя сказано это было скорее от отчаяния.
Чувствовал я себя в то время, как говорят, хуже не бывает.
Уже год и восемь месяцев я находился в заключении, и какое это было время, и как оно пережито знал только я сам и удивлялся только одному – почему я в здравом уме.
Эпизод 3
Все началось 25 сентября 1962 года.
Рано утром Поля (жена) ушла на работу, а я с детьми – Идочкой и Витенькой хотел позавтракать и, проводив их в школу, идти на работу.
Я был в туалете, когда раздался звонок в дверь, и подумал, что вернулась Поля. Но, выйдя из туалета, увидел, что это посторонние люди.
Меня сразу схватили и, проведя на кухню, обыскали, предъявив ордер на обыск.
Один из них с сыном пошел за женой (она работала напротив дома), а мне предложили одеться.
Как только Поля зашла в комнату, меня вывели во двор и посадили в стоявшую там черную «волгу» на заднее сидение между двумя мужчинами.
Машина поехала к Савеловскому вокзалу, к магазину, в котором я работал.
Подъехав к магазину, мы зашли в него, т. е. я и трое приехавших со мной, шофер остался в машине.
Там меня еще раз обыскали и, забрав ключи и пломбир, посадили обратно в машину.
Развернувшись, машина поехала к центру. Через улицы Сретенку и Дзержинскую машина, со стороны последней, подъехала к подъезду дома, выходящему фасадом на площадь Дзержинского.
Меня ввели в подъезд и на первом этаже поместили в бокс.
Бокс – это шкаф высотой метра два и шириной 0,5 метра. Глубина этого шкафа, так же как и ширина, – сантиметров 50; напротив двери приделана доска для сиденья, а наверху двери – отверстия для воздуха. Несмотря на то, что в боксе есть для сидения доска, сидеть там можно только условно. Если всей спиной прижаться к задней стенке, а ноги развести в стороны и ступни поставить параллельно двери, то упершись коленями в дверь, можно присесть.
Сейчас часто говорят о стрессе, тогда я этого слова не знал. Но, видимо, я был именно в стрессовом состоянии, поэтому, несмотря на то, что прошло столько лет, все запомнил.
К «счастью» меня не долго держали в боксе и вскоре провели из него на третий этаж в большой кабинет.
В кабинете усадили меня за маленький столик, стоявший в углу, а за большим письменным столом, который стоял напротив, сидел человек в штатском.
Часы у меня забрали, и я не мог следить за временем, но, все-таки, было еще утро.
В карманах у меня, кроме носового платка, оставили две пачки папирос, две пачки сигарет и спички. Мне разрешили курить, поставив на столик пепельницу.
Прошло много времени, за окном стало темнеть.
За это время много раз за письменным столом менялись люди, и сколько их сменилось, я не помню, но ни один не разговаривал со мной.
Они делали так: заходил один, молча подходил к столу, сидевший вставал и уходил, а вновь пришедший занимал его место. Если таким способом они хотели меня расслабить, то добились противоположного.
Когда за окном совсем стемнело, я обратился к очередному сидевшему за письменным столом с просьбой отправить меня в тюрьму, если я арестован.
Тогда он со мной заговорил, и стал уговаривать рассказать ему всю правду о моих преступлениях, но, получив от меня ответ, что я очень устал, нажал у стола кнопку и вызвал конвой. Перед тем, как меня увели, он дал мне подписать ордер на мой арест.
Не зная здания, очень тяжело ориентироваться, но, как я думаю, проведя меня по многим коридорам, подняли на четвертый этаж и завели в темную комнату без окон. Там мне велели раздеться и провели в душ. Когда я вернулся, зашел врач и спросил, на что я жалуюсь, нет ли у меня каких-то болезней. Получив ответ, что я вполне здоров, врач ушел. Надзиратель (теперь он называется контролер) дал мне трусы, майку, носки, башмаки и то, что у меня оставалось от папирос и сигарет, а взамен моей верхней одежды – хлопчатобумажные брюки и курточку. Когда я оделся, он провел меня на этом же этаже в другую дверь, ведущую во внутреннюю тюрьму.