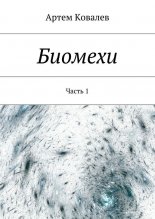Ангел-хранитель Светлова Галина
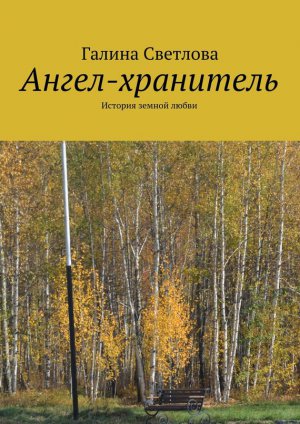
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Ревущий «Ягуар» Пола мчался по прямому шоссе вдоль побережья, через Санта-Монику, мимо Голливуда. Было тепло, даже жарко, в воздухе запах бензина мешался с запахом ночи. Машина Пола шла на скорости 150. У него был небрежный вид заправского гонщика, но его профиль и полуперчатки с прорезями на суставах меня почему-то раздражали.
Я — Дороти Сеймур, мне сорок пять, черты лица женщины, не обиженной жизнью, хотя и слегка поблекшие. Сценаристка, причем достаточно известная, я еще весьма и весьма нравлюсь мужчинам, впрочем, как и они мне. Я — одно из ужасных исключений, позорящих Голливуд: в двадцать пять модная актриса в интеллектуальном фильме, через полгода в Европе прожигаю гонорар с левым художником, в двадцать семь — в родном городе без имени и единого доллара, но в ожидании нескольких долговых судебных процессов. Мое полное безденежье приостановило процессы, и я стала сценаристкой, хотя имя знаменитой Дороти Сеймур уже ничего не говорило неблагодарной публике. Впрочем, это и к лучшему — терпеть не могу автографы, фотографов и всевозможную шумиху.
Итак, я та, «которая могла бы, но…». Я унаследовала от деда-ирландца отменное здоровье и богатое воображение — отсюда мои успехи в производстве этой цветной целлулоидной муры, к тому же недурно оплачиваемой.
Теперь мое имя часто фигурирует в титрах исторических фильмов RKB. И порой в ночных кошмарах мне мерещится возмущенная Клеопатра, заявляющая: "Нет, мадам, ваш текст: «Передайте Цезарю, что он господин моего сердца» — я произносить отказываюсь! "
А господином моего сердца, вернее, тела, должен был сегодня вечером стать Пол Бретт, — и я уже заранее зевала.
Впрочем, Пол Бретт — настоящий красавец. Он представляет интересы RKB и других кинематографических фирм — элегантен, приятен и неотразим. То есть настолько, что Памелла Крис и Луэлла Шримп, эти дамочки-вамп нашего поколения, десять лет вгрызавшиеся в сердца и состояния знакомых мужчин и в собственные мундштуки, поочередно влюбились в него, а после разрыва едва не утонули в слезах.
Вот такое у Пола славное прошлое.
Но несмотря на все, этим вечером он был для меня просто блондинчиком. Причем блондинчиком сорока лет. Что для меня довольно унизительно. Но надо было сдаваться — после недели, полной цветов, звонков, намеков и совместных выходов в свет, женщина моих лет просто обязана уступить. У нас по крайней мере так принято.
И вот этот момент наступил: два часа ночи, на спидометре 150, впереди мое скромное жилище. И пропади он пропадом, этот секс — умираю, хочу спать.
Но я уже засыпала накануне и три дня назад и сегодня, увы, не имела на это права. Иначе понимающее «Конечно, конечно, малышка» Пола, несомненно, сменилось бы на «Дороти, вы можете мне объяснить, что происходит?» Мне остается достать из холодильника лед, откупорить бутылку шотландского виски, радостно позвенев бокалом, протянуть его Полу и сладострастно вытянуться на широком диване в гостиной в манере Поллет Годар. Пол приближается, обнимает меня, задушевно шепчет: «Это должно было случиться, не правда ли, дорогая?»
Ну что ж, это должно было случиться. Я тяжело вздохнула. И тут Пол сдавленно вскрикнул.
В свете фар возник какой-то чудак, ни дать ни взять — соломенное пугало, — я видела такие на полях Франции. Он метнулся наперерез нам. Ну и реакция у моего блондинчика: тормоз-до отказа, и машина — в правом кювете! Со мной, разумеется. Несколько мгновенных вспышек — и я уткнулась носом в траву, с зажатой в руке сумочкой. Забавно: обычно я везде ее забываю. А тут, за минуту до возможной смерти…
Я слышу дрожащий от волнения голос Пола, зовущий меня, успокаиваюсь за него и с величайшим облегчением закрываю глаза. Полоумный, кажется, невредим, я — жива-здорова. Пол тоже. Что ж, похоже, сегодня вечером, после такой передряги, у меня будет шанс заснуть в одиночестве.
Угасающим голосом я прошептала: «Все в порядке, Пол» — и уселась на траве.
— Благодарение Господу! — воскликнул Пол, любивший подобные напыщенные выражения. — Благодарение Господу, с вами ничего не случилось, дорогая. А мне показалось…
Не знаю, что показалось ему в то мгновение, но в следующее раздался адский грохот, и мы, сцепившись, как безумные, отлетели метров на десять от кювета. Наполовину оглохшая и ослепшая, я высвободилась из его объятий и увидела, как горит «Ягуар». Он полыхал, как факел, как огромный факел.
Пол тоже поднялся.
— Господи, — выпалил он, — бензин!..
— А там что-то еще может взорваться? — съязвила я. И вдруг вспомнила о существовании ненормального. А что если он сейчас горит? Я рванулась к дороге, мельком отметив свои порванные чулки. Пол — за мной. На обочине, в стороне от огня, я наткнулась на неподвижное тело. Сначала я разглядела лишь темные волосы, в свете пламени отливающие рыжим, затем легко перевернула его и увидела лицо мужчины, похожего на ребенка.
Нет, ей-Богу, мне не нравились молоденькие мальчики (еще их в Европе называют «котами»). Надеюсь, не понравятся и впредь. Их растущий успех у множества моих подруг кажется мне странным. Почти фрейдистским. Юнцы, у которых молоко на губах не обсохло, не должны попадаться в руки дам, попахивающих виски. Однако это лицо на дороге, такое юное и уже такое жесткое в своем совершенстве, наполнило меня странным чувством: мне захотелось одновременно и отвернуться от него, и приласкать. При этом я абсолютно лишена материнских комплексов. Моя дочь, которую я когда-то обожала, живет в Париже, замужем, нарожала детей и каждое лето мечтает подкинуть их мне как раз в тот момент, когда я решаю провести месяц на Ривьере. Я редко путешествую одна, и только внуков мне и не хватает.
Но вернусь к Льюису, потому что этого мальчика с прекрасным лицом, лежащего без сознания, звали Льюис, и я неподвижно стояла перед ним, даже не положив руку ему на сердце, не проверив, жив он или нет. Мне это казалось не таким уж важным. Непостижимое чувство, о котором я впоследствии горько пожалею.
— Кто это? — недовольно спросил Пол. Что восхищает в людях из Голливуда, так это их мания все обо всех знать. Пола явно огорчила невозможность назвать по имени паренька, которого он чуть не задавил среди ночи. Я отрезала:
— Мы не на коктейле, Пол. Как вы считаете, он не ранен?.. О, Боже!
Возле головы и рук незнакомца расползалось темное пятно крови. Я почувствовала ее теплоту. Пол увидел кровь одновременно со мной.
— Я его не задел, — сказал он, — я уверен. Должно быть, при взрыве его ранило осколком от машины.
Пол выпрямился, говорил спокойно и твердо. Я начала понимать рыдания Луэллы Шримп: он мог быть жестким.
— Не отходите, Дороти, я пойду позвоню. Он торопливо направился к темневшим поодаль силуэтам домов. Я осталась на дороге одна, стоя на коленях возле человека, который, возможно, умирал. Вдруг он открыл глаза, посмотрел на меня и улыбнулся.
ГЛАВА ВТОРАЯ
— Дороти, вы что, с ума сошли?
На подобный вопрос мне труднее всего ответить. К тому же задал его Пол, одетый в элегантный темно-синий блайзер и сурово меня разглядывающий. Мы находились на террасе моего домика, и я была одета для работы в саду: старые холщовые брюки, блузка с вылинявшими цветами и тесемка в волосах. Нет, я не только никогда не занималась садом, но даже один вид секатора наводил на меня ужас. Просто я обожаю маскарад. Субботними вечерами я, подобно всем соседям, наряжаюсь садовницей, но вместо того чтобы таскать обезумевшую газонокосилку или выпалывать непокорные сорняки, я усаживаюсь на террасе с большим бокалом виски и книгой в руках. За этим занятием меня и застал Пол где-то между шестью и восьмью часами. Я чувствовала себя виноватой и заброшенной, два примерно равных по силе чувства.
— Вы знаете, что весь город говорит о вашей последней выходке?
— Весь город, весь город, — повторила я недоверчиво и скромно.
— Ради всего святого, что делает у вас этот парень?
— Поправляется, Пол, поправляется. У него, как-никак, совершенно разбита нога. И вам прекрасно известно, что у него нет ни денег, ни семьи, ничего.
Пол набрал воздуху:
— Именно это меня и беспокоит, дорогая. И еще тот факт, что ваш битник был накачан ЛСД, когда бросился под мою машину.
— Но послушайте, Пол, он ведь сам вам все объяснил. Под действием этих своих наркотиков он не осознавал, что на него едет машина. Он принял фары за…
Пол внезапно покраснел.
— Мне плевать, что он там осознал. Этот болван, этот хулиган чуть не сделал нас убийцами, а назавтра вы забираете его к себе домой, устраиваете в комнате для гостей и кормите завтраками! А что если он вас убьет, приняв за цыпленка или Бог знает за что? А если он сбежит, прихватив ваши драгоценности?
Я восстала:
— Знаете, Пол, меня еще никогда не принимали за цыпленка. А что касается моих драгоценностей, то они, бедняжки, вряд ли являются таким уж состоянием. И в конце концов, нельзя же его бросить на улице, к тому же полубольного.
— Вы бы могли отправить его в больницу.
— Он там был и нашел, что больница ужасно мрачная. По правде говоря, не могу с ним не согласиться.
Пол с растерянным видом опустился напротив меня в кожаное кресло. Он даже взял машинально мой стакан и отпил половину. Хоть я и злилась, но не остановила его. Было очевидно, что он на грани срыва. Он как-то странно на меня посмотрел.
— Вы работали в саду?
Я кивнула. Любопытно отметить, что некоторые люди вас прямо-таки заставляют себя обманывать.
Я совершенно не смогла бы объяснить Полу мое невинное субботнее времяпрепровождение. Он бы в очередной раз назвал меня сумасшедшей, и я задумалась, так ли он не прав.
— Что-то незаметно, — подал он голос, оглядевшись вокруг.
Мой несчастный клочок земли действительно похож на настоящие джунгли. Но при этих словах я приняла оскорбленный вид.
— Делаю то, что в моих силах, — отрезала я.
— А что у вас в волосах?
Я провела рукой по волосам и вынула две-три деревянные стружки, тонкие, как листочки. Я поразилась.
— Это стружки, — сказала я.
— Вижу, — произнес Пол, — их и на земле хватает. Вы что, кроме садовых работ занимаетесь еще и столярными?
В этот момент легкая стружка опустилась с неба ему на голову.
Я резко подняла глаза.
— Ах да! — сказала я. — Понятно. Это Льюис лежит и, чтобы развлечься, вырезает деревянную голову.
— А мусор вежливо выбрасывает в окно? Великолепно.
Я тоже начала немного нервничать. Может быть, я напрасно устроила Льюиса у себя дома, но, в конце концов, это было сделано из милосердия, безо всяких задних мыслей и к тому же ненадолго. А Пол не имеет на меня никаких прав. Я решила ему на это указать. Он ответил, что имеет на меня права, которые любой здравомыслящий мужчина имеет на неразумную женщину, то есть право ее опекать, и понес всякий прочий вздор. Мы поспорили, он ушел взбешенный, а я осталась, сгорбившись от усталости в кресле, перед теплым виски, и вечер обещал быть бесцельным, так как из-за размолвки с Полом мы не пошли на вечеринку, где должны были появиться вместе. Оставалось смотреть телевизор, который мне порядком надоел, или слушать сопение Льюиса, когда я принесу ему ужин. Кстати, никогда не встречала более молчаливого существа. Он высказался достаточно ясно только один раз, через день после аварии, сообщив о своем решении покинуть больницу, приняв как должное мое приглашение. В тот день я пребывала в прекрасном настроении, может быть, даже слишком прекрасном, в том состоянии, когда все люди кажутся одновременно и братьями, и сыновьями, о которых надо заботиться. Я кормила Льюиса, переехавшего в мой дом и вяло лежавшего на кровати с забинтованной ногой, повязку на которой он менял сам. Он не читал, не слушал радио, не говорил. Иногда принимался мастерить странные фигурки из сухих веток, которые я подбирала в саду. А порой упрямо и бесстрастно смотрел в окно. Может, он полный идиот? В сочетании с его красотой это было бы даже романтично. В ответ на мои редкие застенчивые вопросы о его прошлом, о целях, о жизни раздавался один и тот же ответ: «Это неинтересно». Он оказался ночью на шоссе перед нашей машиной, его зовут Льюис, вот, пожалуй, и все. Хотя мне это облегчало жизнь — не люблю всяких рассказов, и, Бог знает, почему люди меня от них не избавят.
Я вышла на кухню, приготовила на скорую руку изысканный ужин из консервов и поднялась по лестнице. Постучалась в дверь к Льюису, вошла и поставила поднос к нему на кровать.
Она была усыпана деревянными стружками. Вспомнив о той, которая упала на голову Пола, я расхохоталась. Льюис с заинтересованным видом поднял глаза. Глаза у него были зеленовато-голубые, очень светлые, почти кошачьи, брови черные, и я каждый раз думала, что в «Коламбия-пикчерс» его взяли бы за один взгляд.
— Почему вы смеетесь?
Голос у него был низкий, с хрипотцой, немного задумчивый.
— Я смеюсь, потому что недавно одна из ваших стружек упала на голову Пола, и он страшно возмутился.
— А ему что, больно было?
Я взглянула на него с изумлением. Первая шутка из его уст, если, конечно, это была шутка. Я глупо рассмеялась и вдруг почувствовала себя совершенно не в своей тарелке. Пожалуй, Пол был в чем-то прав. Что я тут делаю, наедине с этим типом, в пустом доме, в субботу вечером? А ведь могла бы сейчас танцевать, веселиться с друзьями, флиртовать с моим дражайшим Полом или с кем-нибудь другим…
— Вы никуда не пойдете?
— Нет, — ответила я с горечью. — Я вас не отвлекаю?
И сразу же пожалела о своей фразе.
Она противоречила всем законам гостеприимства. Но Льюис вдруг рассмеялся, как-то по-детски, мило, от всего сердца. Это чудесный смех тут же вернул ему и его возраст, и обаяние.
— Вы очень скучаете?
Вопрос застал меня врасплох. Можно ли сказать, очень или не очень скучаешь в безумной суматохе нашего существования? Ответила я крайне добропорядочно:
— У меня для этого нет времени. Я работаю сценаристкой на RKB и…
— Там?
Он мотнул подбородком влево, в сторону сверкающего побережья Санта-Моники, Беверли Хиллз, обширных владений Голливуда, киностудий и кинофирм, объединив их презрительным «там». Презрение — пожалуй, сказано слишком сильно, но, уж во всяком случае, это не было безразличием.
— Там. Так я зарабатываю себе на жизнь. Я разволновалась. После трехминутного разговора с этим незнакомцем я сначала почувствовала себя мещанкой, а потом бездельницей. Ведь в самом деле, что еще приносила эта идиотская профессия, кроме кучки долларов, которую раз в месяц получаешь и тут же тратишь? При всем при том, было довольно унизительно, что на это мне указывает какой-то наркоман. Я ничего не имею против подобного рода медикаментов, но не люблю, когда свои вкусы превращают в философию, полную презрения к тем, кто их не разделяет.
— Зарабатывать на жизнь… — повторил он задумчиво, — зарабатывать на жизнь…
— Это довольно распространенное занятие.
— Как жалко! Вот я бы хотел жить во Флоренции, когда там было полно людей, кормивших многих других просто так, ни за что.
— Они кормили скульпторов, художников, писателей. Вы что, к ним относитесь?
Он помотал головой.
— Может быть, они кормили просто так тех, кто им нравился, и все?
Я цинично рассмеялась, совсем как Бэт Девис.
— Уж это вы могли бы найти и здесь. И тоже мотнула головой влево, совсем как недавно он. Льюис закрыл глаза.
— Я сказал «просто так». А это не просто так. Он произнес «это» таким убитым голосом, что в голове у меня тут же зароились мысли, одна романтичнее другой. В сущности, что я знаю о нем? Любил ли он кого-нибудь до безумия? Хотя то, что называют безумием, по-моему, единственно нормальное проявление любви. И что его толкнуло под колеса «Ягуара» — случайность, наркотики или отчаяние? А может, сейчас выздоравливала не только его нога, но и сердце? И эти взгляды, устремленные в небо, возможно, различали там чье-то лицо? Внезапно я, к моему ужасу, вспомнила, что уже использовала этот образ в фильме о жизни Данте, куда так трудно было засунуть хоть каплю эротики. Когда бедный Данте, сидевший за грубым средневековым бюро, поднимал голову от рукописи, голос за кадром шептал:
"А эти взгляды, упрямо устремленные в небо, возможно, различали там чье-то лицо? " Вопрос, на который зрители сами должны были дать ответ, и, надеюсь положительный.
Итак, я начала думать так же, как пишу — вещь, которая меня бы, возможно, обрадовала, если бы я хоть в малейшей степени претендовала на талант или высокую литературу. Увы… Я посмотрела на Льюиса. Он снова открыл глаза и начал меня разглядывать.
— Как вас зовут?
— Дороти, Дороти Сеймур. Разве я вам не говорила?
Я сидела у него в ногах, в окно проникал вечерний воздух, несущий запах моря, запах такой сильный, такой неизменный уже сорок пять лет, что он казался почти жестоким в своем постоянстве. Сколько еще я буду его сладострастно вдыхать, сколько еще, пока не придет тоска по прожитому, по поцелуям, по теплу мужского тела? Мне бы нужно выйти замуж за Пола. Мне бы нужно оставить безграничную уверенность в собственном отменном здоровье и душевном равновесии. Приятно ощущать свое тело, когда есть кто-то, кто хочет к нему прикоснуться, вдохнуть его тепло, но потом? Да, что потом? А потом будут психиатры, и от одной этой мысли у меня заныло сердце.
— У вас грустный вид, — сказал Льюис, взял меня за руку и принялся ее рассматривать. Я тоже посмотрела на нее. Мы вместе ее разглядывали с неожиданным интересом: Льюис — потому что не знал, а я — потому что в его ладони она выглядела как-то иначе: как предмет, больше мне не принадлежащий. Ни одно прикосновение не доставляло мне так мало волнения.
— Сколько вам лет? — спросил он. Сама поражаясь собственной глупости, я сказала чистую правду:
— Сорок пять.
— Вам повезло.
Я изумленно посмотрела на него. Ему, должно быть, двадцать шесть, может, меньше.
— Повезло? Почему?
— Дожить до таких лет… Здорово!
Он выпустил мою руку, точнее (так мне показалось), отстранил ее. Потом отвернулся и закрыл глаза. Я встала.
— Спокойной ночи, Льюис.
— Спокойной ночи, — сказал он мягко. — Спокойной ночи, Дороти Сеймур.
Я тихонько прикрыла дверь и спустилась на террасу. Чувствовала я себя до странности хорошо.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
— Слушай, ты хоть понимаешь, что я никогда не излечусь? Никогда не смогу излечиться?
— От всего можно вылечиться.
— Нет. Между мной и тобой существует что-то неумолимое, и ты это прекрасно чувствуешь. Ты… должна об этом знать. Не можешь не знать.
Я прервала эту странную беседу, последний образчик моего творчества, и вопросительно взглянула на Льюиса. Он поднял брови, улыбнулся.
— А вы верите, что существуют неумолимые вещи?
— Речь не обо мне, а о Ференце Листе и о…
— Но вы сами верите?
Я рассмеялась. Я знала, что жизнь иногда действительно представляется неумолимой и что от некоторых романов, как мне казалось, я никогда не смогу излечиться. И ничего, сижу себе в саду, мне сорок пять, я в отличном настроении и никого не люблю.
— Верила когда-то. А вы?
— Пока еще нет.
Он прикрыл глаза. Мы понемногу начинали говорить — о нем, обо мне, о жизни. Когда я приходила со студии, Льюис спускался из своей комнаты, опираясь на костыли, вытягивался в кожаном кресле, и, попивая виски, мы смотрели как опускается вечер. Возвращаясь, я была рада снова его увидеть, такого спокойного, странного, одновременно веселого и испуганного, как неизвестный зверек. Рада, но не более того. Я ни в коей мере не была влюблена и, что интересно, при других обстоятельствах его красота могла бы вызвать у меня испуг, даже отвращение. Сама не знаю почему — просто он слишком уж стройный, изящный, совершенный. Отнюдь не женоподобный, он тем не менее заставлял меня вспоминать о касте, описанной Прустом: его волосы походили на перышки, кожана ткань. Одним словом, в нем не было ничего похожего на ту детскую грубость, которая меня привлекала в мужчинах. Я спрашивала себя, бреется ли он, нужно ли ему это.
Как выяснилось, он родился в североамериканской пуританской семье. Немного поучившись, ушел бродить по стране, по дороге перепробовал кучу профессий и остановился в Сан-Франциско. Встреча с такими же бродягами, слишком большая доза ЛСД, драка, поворот машины — и он оказался здесь, у меня дома. Когда поправится, уйдет, сам не знает куда. А пока мы говорили о его жизни, об искусстве — он был достаточно образован, несмотря на свои неслыханные суждения. Короче говоря, в глазах окружающих наши отношения выглядели самыми пристойными и самыми нелепыми из всех возможных отношений между двумя человеческими существами. Но если Льюис меня постоянно расспрашивал о моих прошлых романах, то о своих не говорил ни слова, и это казалось единственно странным и наиболее опасным в мальчике его возраста.
Он говорил о мужчинах или о женщинах как о неких отвлеченных, безликих понятиях. И мне казалось почти непристойным в мои-то годы испытывать такую нежность и такие волнующе-смутные воспоминания при слове «мужчины».
— Когда у вас появилось это ощущение неумолимости? — спросил Льюис. — Когда ушел ваш первый муж?
— Господи, да нет конечно! В тот момент я испытала скорее облегчение. Вы только представьте — абстрактная живопись круглые сутки, круглые сутки. А вот когда ушел Фрэнк, тогда да, тогда чувствовала себя загнанным зверем.
— Кто такой Фрэнк? Ваш второй?
— Да, второй. В нем, конечно, не было ничего выдающегося, но он был таким веселым, таким нежным, таким счастливым.
— Он вас бросил?
— Его подцепила Луэлла Шримп.
Он с интересом поднял брови.
— Вы хоть слышали о такой актрисе — Луэлле Шримп?
Льюис сделал обидевший меня непонятный жест, но я сдержалась.
— Короче, Фрэнк был соблазнен, очарован и бросил меня, чтобы на ней жениться. Вот тогда, как Мари Д'Агу, я подумала, что уже никогда не излечусь. Я так думала целый год. Вам это кажется странным?
— Нет. И что же с ним стало?
— Через два года Луэлла подцепила другого, а его бросила. Он снял три дурацких фильма и запил. Таков финал.
Возникло молчание. Потом Льюис тихонько застонал и попытался встать с кресла. Я встревожилась:
— Вам нехорошо?
— Очень больно. Мне кажется, я никогда не смогу встать на ноги.
Я на секунду представила, как здесь навечно поселится бедный больной Льюис, и, как ни странно, эта мысль не показалась мне ни абсурдной, ни неприятной. Может быть, я уже достигла того возраста, когда человек должен взвалить на себя какую-нибудь ношу. В конце концов я бы чувствовала себя нужной и спокойно ее несла.
— Ну что ж, тогда вы останетесь здесь, — сказала я весело. — А когда у вас выпадут зубы, я буду варить вам кашку.
— Почему же у меня должны выпасть зубы?
— Говорят, такое случается с теми, кто долго не встает. Хотя, признаюсь, это выглядит парадоксом. Они ведь должны выпадать под действием силы тяжести, когда человек находится в вертикальном положении. Так ведь нет.
Он искоса посмотрел на меня, как это делал Пол, но более добродушно.
— А вы забавная, — сказал он. — Я бы никогда не смог вас бросить. — Потом закрыл глаза, слабеющим голосом попросил сборник стихов, и я пошла в библиотеку поискать что-нибудь, что бы ему понравилось. Это тоже был один из наших ритуалов. Я читала нежно и тихо, чтобы не разбудить или не испугать его, стихи Лорки об Уолте Уитмене:
В небе есть берега, где хоронится жизнь,
И завтра не всем суждено повториться…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Я была погружена в работу, когда узнала новость. Точнее, я диктовала секретарше сочиненный мною захватывающий диалог между Ференцем Листом и Мари Д'Агу, и делала это без всякого воодушевления, потому что накануне узнала, что Листа будет играть Подин Дайк, и совершенно не представляла себе в этой роли такого смуглого, мускулистого громилу. Но в кино полно подобных неизбежных и глупых ошибок. Итак, я шептала «что-то непоправимое» на ухо моей милой всхлипывающей секретарше Кэнди — она невероятно чувствительна, — когда зазвонил телефон. Она сняла трубку, шумно высморкалась и повернулась ко мне:
— Мистер Пол Бретт. Мадам, он говорит, что это срочно.
Я взяла трубку.
— Дороти? Вы знаете новость?
— Нет. Не думаю.
— Дорогая моя… гм… Фрэнк умер. Я молчала. Он занервничал.
— Фрэнк Сэймур. Ваш бывший муж. Застрелился этой ночью.
— Это неправда, — сказала я.
Я действительно так думала. Фрэнк никогда не отличался смелостью. Море обаяния, но ни капли смелости. А на мой взгляд, для самоубийства нужно иметь достаточно мужества. Стоит только вспомнить огромное количество тех, кто только этим и занимается, но без всякого успеха.
— Правда, — прозвучал голос Пола. — Он застрелился сегодня ночью в дрянном мотеле, недалеко от вас. Никаких объяснений.
Мое сердце билось медленно, очень медленно. Так сильно и так медленно. Фрэнк… веселье Фрэнка, смех Фрэнка, кожа Фрэнка… Умер. Странно, но иногда смерть маленького человека потрясает сильнее, чем смерть знаменитости. Я не могла в это поверить.
— Дороти, вы меня слушаете?
— Я вас слушаю.
— Дороти, нужно, чтобы вы приехали. У него не было семьи, а Луэлла, как вам известно, в Риме. Мне очень жаль, Дороти, но вы должны приехать, чтобы уладить все формальности. Я заеду за вами.
Раздались гудки. Я протянула трубку секретарше и села. Она посмотрела на меня с пониманием, которое я в ней так ценю, поднялась, открыла полку с надписью «Архивы» и вынула стоящую там открытую бутылку «Чивас». Я рассеянно отпила большой глоток.
Я знаю, почему людям в шоковом состоянии дают что-нибудь выпить — в этой ситуации алкоголь производит такое мерзкое действие, что вызывает у вас чувство физического отвращения, протеста, которое лучше всего остального может вьтести из отупения.
Виски обожгло мне горло, небо, и я от ужаса пришла в себя.
— Фрэнк умер, — сказала я.
Кэнди опять уткнулась в носовой платок. В те нередкие минуты, когда мне отказывало воображение, я развлекала ее рассказами о моей загубленной жизни. Впрочем, она меня тоже. Одним словом, она знала о Фрэнке, и в этом было ощущение некоторой поддержки. Сейчас, после известия о его смерти, я не вынесла бы присутствия кого-то, кто о нем даже не слышал. Хотя по-настоящему его популярность давно улетучилась, о нем забыли так же быстро, как и вознесли. Сволочная штука слава, а здесь, в Голливуде — тем более. Не успеешь оглянуться — ее и след простыл. А Фрэнк, красавчик Фрэнк, счастливый муж Луэллы Шримп, Фрэнк, так любивший со мной посмеяться, умрет дважды — его имя добьют равнодушные, безжалостные слухи, вызванные его самоубийством.
Пол приехал очень быстро. Он дружески взял меня за руку, обойдясь без поцелуя, чтобы не вызвать у меня слез. Я всегда сохраняла нежную привязанность к мужчинам, с которыми была близка. Свойство довольно редкое. Человек, с которым ты проводишь ночь в одной постели, в какой-то момент обязательно становится для тебя ближе всех остальных, никто меня в этом не переубедит. Тела мужчин, сильные и одновременно беззащитные, такие разные, похожие и так не желающие этого сходства.
Пол взял меня за руку, и мы отправились. Я была признательна ему за это, хотя я никогда его не любила.
Фрэнк лежал безмятежный, тихий, неживой. Пуля прошла в двух сантиметрах от сердца, поэтому лицо не было задето. Я простилась с ним без боли — рана уже затянулась. Он не поседел. Странно, я никогда не встречала мужчин с такими темными волосами.
Пол предложил отвезти меня домой. Я согласилась. Было четыре часа. Мы ехали в его новом «Ягуаре». Солнечные лучи скользили по лицам, и я подумала, что Франк никогда уже не почувствует солнечного тепла, которое он так любил.
Мы слишком добропорядочно обходимся со смертью: едва она наступает, мы хорошенько упаковываем ее в черный ящик и укладываем в землю. Мы от нее избавляемся. Или прихорашиваем, приукрашиваем и выставляем на обозрение в бледном свете электрических ламп, трансформируем ее, пытаясь заморозить.
Мне кажется, надо было бы отвозить покойников на берег моря, оставлять ненадолго на солнце, так ими когда-то любимом, в последний раз класть на землю, пока они с ней еще не смешались. Но — нет, их наказывают их же собственной смертью. В лучшем случае им немного поиграют Баха, религиозную музыку, которую они терпеть не могли… Я чувствовала себя совершенно измотанной, когда Пол подвел меня к двери.
— Хотите, я зайду к вам на минутку?
Я машинально кивнула, потом вспомнила о Льюисе. А впрочем, какое это может иметь значение? Мне было безразлично, как они с Полом друг на друга посмотрят, что подумают. Пол довел меня до террасы, где Льюис наблюдал за птицами, неподвижно вытянувшись в кресле. Он издалека замахал мне рукой, но, увидев Пола, осекся. Я поднялась по ступенькам на веранду, остановилась перед ним.
— Умер Франк, — сказала я.
Он протянул руку, как-то осторожно, с неуверенностью коснулся моих волос, и тут меня прорвало. Я упала на колени к его ногам и зарыдала перед этим ребенком, незнакомым с людскими бедами. Он гладил мои волосы, лоб, мокрую щеку и молчал. Немного успокоившись, я подняла голову. Пол ушел, не сказав ни слова. Мне внезапно пришло в голову, что перед ним я не расплакалась по одной причине: он этого хотел.
— Я, наверное, не слишком-то хорошо выгляжу, — сказала я, повернувшись к Льюису, и посмотрела на него в упор. Я знала, что у меня опухли глаза, потекла тушь, исказились черты. Но впервые в жизни, стоя перед мужчиной, я не испытывала никакого стеснения. В его глазах отражался лишь плачущий ребенок — Дороти Сеймур, сорока пяти лет. В Льюисе чувствовалось что-то непонятное, одновременно пугающее и успокаивающее, что-то, отвергавшее всякие соображения приличий.
— Вам больно, — задумчиво сказал он.
— Я его долго любила.
— Он вас бросил и был наказан, — кратко ответил он. — Такова жизнь.
— Вы еще совсем ребенок! — воскликнула я. — Слава Богу, жизнь не так наивна, как вы.
— Но может стать.
Он больше не смотрел на меня и опять принялся наблюдать за птицами с рассеянным, почти скучающим видом. Я подумала, что его сочувствие не так уж глубоко, и пожалела об уходе Пола, который вместе со мной мог бы вспомнить Фрэнка, вытирал бы мои слезы, одним словом, пожалела об идиотской сентиментальной комедии, которую мы разыграли бы здесь, на веранде. Но, с другой стороны, мне было ужасно приятно, что я сумела сдержаться.
Когда я вернулась в дом, зазвонил телефон. Звонки продолжались весь вечер. Бывшие любовники, друзья, моя секретарша, партнеры Фрэнка, журналисты (не слишком многочисленные на этот раз), все, кому не лень, набирали мой номер. Уже было известно, что в Риме Луэлла Шримп тут же упала в обморок, а затем благополучно отбыла в сопровождении нового итальянского жиголо. Вся эта суматоха вызывала у меня только отвращение — никто из тех, кто сейчас плакался мне в жилетку, ни разу в жизни не помог Фрэнку. Лишь я сама, вопреки всем американским законам о разводе, до конца поддерживала его материально. Но последний удар мне нанес Джерри Болтон, шишка из «Ассамблед акторз». Этот мерзкий тип после моего возвращения из Европы возбуждал против меня процесс за процессом, пытался довести до настоящего голода и, не преуспев в этом, обрушился на Франка, который в тот момент впал в немилость у Луэллы Шримп. Это было сварливое, отвратительное, хотя и могущественное существо, знавшее, что я ненавижу его от всей души. И у него хватило наглости позвонить:
— Дороти? Я в отчаянии. Я знаю, как вы любили Франка и…
— А я знаю, Джерри, что вы вышвырнули его и добились, чтобы так же поступили все остальные. Повесьте, пожалуйста, трубку, мне не хотелось бы быть невежливой.
Он повесил трубку. Ярость благотворно на меня подействовала. Я вернулась в гостиную и объяснила Льюису, почему ненавижу Джерри Болтона, со всеми его долларами и указаниями.
— Не будь у меня нескольких верных друзей и железного здоровья, он довел бы меня до самоубийства, как это случилось с Франком. Он самый грязный лицемер из всех, кого я знаю. Я никому никогда не желала смерти, но ему могла бы. Единственный человек, кому могла бы…
Вот так я и закончила.
— Вы просто не слишком требовательны, дорогая моя, — сказал Льюис рассеянно. — Найдутся, без сомнения, и другие.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Я сидела в своем кабинете на RKB, затаившись, как кошка, не отводя взгляда от телефона. Кэнди побледнела от волнения. И только Льюис, расположившийся в кресле для посетителей, казался спокойным, даже скучающим. Мы все вместе ожидали результатов его первой пробы.
Он решился на это как-то вечером, через несколько дней после гибели Фрэнка. Встал, сделал три ровных, легких шага, словно никогда и не был ранен, и остановился передо мной, застывшей от удивления.
— Видите, я поправился.
Я поняла, что совершенно к этому не готова. Я настолько привыкла к его болезни, к его постоянному присутствию, что просто не представляла без этого свою жизнь. Теперь он мне скажет: «Всего хорошего, спасибо», скроется за углом, и мы никогда больше не увидимся. Необъяснимая боль сжала мне сердце.
— Прекрасная новость, — сказала я слабо.
— Вы находите?
— Ну конечно. Что же… Что вы теперь собираетесь делать?
— Это зависит от вас, — сказал он спокойно. И снова сел.
Я вздохнула с облегчением. По крайней мере он не собирается уходить немедленно. С другой стороны, его ответ меня заинтриговал. Каким образом судьба такого свободного и равнодушного существа могла зависеть от меня? Ведь, в сущности, я всегда оставалась для него всего лишь сиделкой.
— Если я останусь здесь, мне все-таки надо будет работать, — снова проговорил он.
— Вы хотите остаться в Лос-Анджелесе?
— Я сказал «здесь», — строго ответил он, показав подбородком на веранду и свое кресло. И после небольшой паузы добавил:
— Если, конечно, вам это не помешает. Я выронила сигарету, потом подобрала ее и вскочила, бормоча что-то вроде «ах вот как, ну конечно» и т. д. Он смотрел на меня не двигаясь. В безумном смущении (думаю, естественном в такой ситуации) я выскользнула на кухню и выпила огромный глоток виски. Так я наверняка стану алкоголичкой, если, конечно, еще не стала. Немного придя в себя, вернулась на веранду. Было самое время объяснить этому мальчишке, что я живу одна исключительно по собственному желанию и не нуждаюсь в компании молодых людей. Что его присутствие к тому же помешает мне приводить воздыхателей, которые, откровенно говоря, мне ужасно надоели. И что, в-третьих, в-третьих, в-третьих… Короче говоря, нет никаких причин, чтобы он оставался здесь. Его решение меня вдруг так возмутило, как две минуты назад повергла в отчаяние мысль о его отъезде. Но мне ли удивляться собственной непоследовательности?
— Льюис, — сказала я, — нам надо поговорить.
— Не имеет смысла, — ответил он. — Если вы не хотите, чтобы я остался, я уйду.
— Речь не об этом, — растерянно сказала я.