Анти-Дюринг. Диалектика природы Энгельс Фридрих
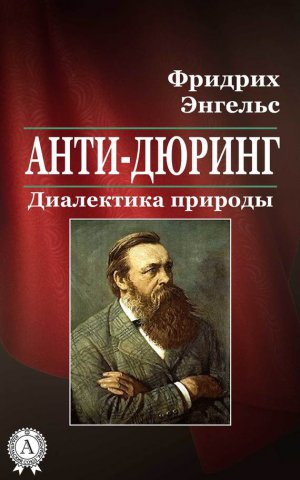
Это ведь гегелевская узловая линия отношений меры, где чисто количественное увеличение или уменьшение вызывает в определенных узловых пунктах качественный скачок, как, например, в случае нагревания или охлаждения воды, где точки кипения и замерзания являются теми узлами, в которых совершается – при нормальном давлении – скачок в новое агрегатное состояние, где, следовательно, количество переходит в качество.
Наше исследование тоже пыталось дойти до корня вещей, и в корне проникающих до самых корней дюринговских основных схем оно находит… «горячечные фантазии» некоего Гегеля, категории гегелевской «Логики» (часть I, учение о бытии)[45] в строго старогегелевской «последовательности» и почти без всякой попытки замаскировать плагиат!
И, не довольствуясь тем, что он заимствовал у своего, так оклеветанного им, предшественника всю его схематику бытия, г-н Дюринг – после того, как он сам дал приведенный выше пример скачкообразного перехода количества в качество, – нисколько не смущаясь, заявляет о Марксе:
«Разве не комично выглядит, например, ссылка» (Маркса) «на путаное и туманное представление Гегеля о том, что количество превращается в качество!».
Путаное и туманное представление! Кто здесь претерпевает превращение и кто здесь выглядит комичным, г-н Дюринг?
Таким образом, все эти милые вещицы не только не «решены аксиоматически», как было предписано, но просто привнесены извне, т. е. из «Логики» Гегеля. Да еще так, что во всей рассматриваемой здесь главе нет даже и видимости внутренней связи, поскольку эта связь не заимствована также у Гегеля, и все в конце концов сводится к бессодержательному мудрствованию о пространстве и времени, о постоянстве и изменении.
От бытия Гегель переходит к сущности, к диалектике. Здесь он рассматривает рефлективные определения, их внутренние противоположности и противоречия, – например, положительное и отрицательное, – затем переходит к причинности, или к отношению причины и действия, и заканчивает необходимостью. То же мы видим и у г-на Дюринга. То, что Гегель называет учением о сущности, г-н Дюринг переводит на свой язык словами: «логические свойства бытия». Последние же заключаются прежде всего в «антагонизме сил», в противоположностях. Но что касается противоречия, то его г-н Дюринг, напротив, радикально отрицает; позднее мы еще вернемся к этому вопросу. Далее он переходит к причинности, а от нее – к необходимости. Если, следовательно, г-н Дюринг говорит о себе:
«Мы, которые не философствуем из клетки», то это, очевидно, надо понимать так, что он философствует в клетке, а именно – в клетке гегелевского схематизма категорий.
V. НАТУРФИЛОСОФИЯ. ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО
Перейдем теперь к натурфилософии. Здесь г-н Дюринг имеет опять все основания быть недовольным своими предшественниками.
Натурфилософия «пала так низко, что превратилась в какую-то пустую лжепоэзию, покоящуюся на невежестве», и «стала уделом проституированного философствования некоего Шеллинга и ему подобных молодцов, выступающих со своим хламом в роли жрецов абсолюта и мистифицирующих публику». Усталость спасла нас от этих «уродств», но пока она расчистила почву только для «шатаний»; «что же касается широкой публики, то тут, как известно, уход более крупного шарлатана часто дает лишь повод более мелкому, но более ловкому в этих делах преемнику воспроизводить под новой вывеской все штуки первого». Сами естествоиспытатели не проявляют большой «склонности к экскурсиям в царство мирообъемлющих идей» и потому дают в теоретической области одни лишь «несвязные скороспелые выводы».
Здесь настоятельно необходима помощь, и, к счастью, г-н Дюринг находится на своем посту.
Чтобы правильно оценить следующие за сим откровения о развитии мира во времени и его ограниченности в пространстве, мы должны вернуться вновь к некоторым местам «мировой схематики».
Бытию, опять-таки в согласии с Гегелем («Энциклопедия», § 93), приписывается бесконечность – то, что Гегель именует дурной бесконечностью,[46] – которая затем и исследуется.
«Наиболее отчетливой формой бесконечности, мыслимой без противоречий, является неограниченное накопление чисел в числовом ряде… Подобно тому, как мы к каждому числу можем прибавить еще одну единицу, не исчерпывая никогда возможности дальнейшего счета, так и к каждому состоянию бытия примыкает следующее состояние, и в неограниченном порождении этих состояний и заключается бесконечность. Эта точно мыслимая бесконечность имеет поэтому лишь одну-единственную основную форму с одним-единственным направлением. Ибо, хотя для нашего мышления и безразлично, представить ли накопление изменяющихся состояний в этом или в противоположном направлении, все же такая идущая назад бесконечность – не что иное, как образ, созданный слишком поспешным представлением. В самом деле, так как эта бесконечность должна была бы в действительности быть пройденной в обратном направлении, то в каждом отдельном своем состоянии она имела бы позади себя бесконечный числовой ряд. Но тогда мы получили бы недопустимое противоречие сосчитанного бесконечного числового ряда; поэтому предположить еще второе направление бесконечности оказывается бессмысленным».
Первое следствие, которое выводится из этого понимания бесконечности, состоит в том, что сцепление причин и следствий в мире должно было иметь некогда свое начало:
«Бесконечное число причин, уже примкнувших одна к другой, немыслимо уже потому, что оно предполагает бесчисленность сосчитанной».
Стало быть, доказано существование конечной причины. Вторым следствием является «закон определенности каждого данного числа: накопление тождественных элементов какого-либо реального рода самостоятельных объектов мыслимо только в виде образования некоторого определенного числа». Само по себе определенным должно быть в каждый данный момент не только наличное число небесных тел, но и общее число всех существующих в мире мельчайших самостоятельных частей материи. Эта последняя необходимость есть истинное основание того, почему никакое соединение нельзя мыслить без атомов. Всякая реальная разделенность всегда обладает конечной определенностью и должна ею обладать, ибо иначе получится противоречие сосчитанной бесчисленности. По той же причине не только должно быть определенным число сделанных уже Землей оборотов вокруг Солнца, хотя это число и неизвестно нам, но и все периодические процессы природы должны были иметь какое-нибудь начало, а всякая дифференциация, все следующие друг за другом многообразия природы должны корениться в некотором равном самому себе состоянии. Такое состояние может без противоречия мыслиться существовавшим от века, но и это представление было бы исключено, если бы время само по себе состояло из реальных частей, а не делилось, напротив, произвольно нашим рассудком, путем одного только идеального полагания возможностей. Иначе обстоит дело с реальным и внутренне-неоднородным содержанием времени; это действительное наполнение времени поддающимися различению фактами, а также формы существования этой области принадлежат – именно благодаря своей различности – к тому, что поддается счету. Если мы мысленно представим себе такое состояние, которое лишено изменений и в своем равенстве самому себе не проявляет никаких различий в следовании, то и более частное понятие времени превратится в более общую идею бытия. Что должно означать это накопление пустой длительности, этого нельзя себе даже представить.
Так говорит г-н Дюринг, немало гордящийся важностью этих своих открытий. Сначала он выражает только надежду, что их «признают, по меньшей мере, немаловажной истиной», но дальше мы читаем у него:
«Напомним о тех крайне простых приемах, посредством которых мы доставили понятиям бесконечности и их критике доселе неведомую значимость… Вспомним элементы универсального понимания пространства и времени, столь просто построенные благодаря современному углублению и заострению».
Мы доставили! Современное углубление и заострение! Кто же это – мы, и когда разыгрывается эта современность? Кто углубляет и заостряет?
«Тезис. Мир имеет начало во времени, и в пространстве он также заключен в границы. – Доказательство. В самом деле, если мы допустим, что мир не имеет начала во времени, то до всякого данного момента времени прошла вечность – и, стало быть, истек бесконечный ряд следовавших друг за другом состояний вещей в мире. Но бесконечность ряда именно в том и состоит, что он никогда не может быть закончен путем последовательного синтеза. Следовательно, бесконечный протекший мировой ряд невозможен; значит, начало мира есть необходимое условие его существования, – это первое, что требовалось доказать. – Что касается второй половины тезиса, допустим опять противоположное утверждение, что мир есть бесконечное данное целое из одновременно существующих вещей. Но величину такого количества, которое не дано в известных границах какого бы то ни было наглядного представления, мы можем мыслить не иначе, как только посредством синтеза частей, а целостность такого количества – только посредством законченного синтеза, или посредством повторного присоединения единицы к самой себе. Поэтому, чтобы мыслить как целое мир, наполняющий все пространства, необходимо было бы рассматривать последовательный синтез частей бесконечного мира как завершенный, т. е. пришлось бы рассматривать бесконечное время, необходимое для пересчитывания всех сосуществующих вещей, как протекшее, что невозможно. Итак, бесконечный агрегат действительных вещей не может быть рассматриваем как данное целое, а следовательно, он не может быть рассматриваем также и как данный одновременно. Следовательно, мир по своему протяжению в пространстве не бесконечен, а заключен в свои границы, – это второе» (что требовалось доказать).
Эти положения буквально списаны с одной хорошо известной книги, впервые появившейся в 1781 г. и озаглавленной: Иммануил Кант, «Критика чистого разума», где каждый может их прочитать в I части, отд. 2-й, кн. 2-я, гл. II, § 2: Первая антиномия чистого разума.[47] Г-ну Дюрингу принадлежит, следовательно, только та слава, что к мысли, высказанной Кантом, он приклеил название «закон определенности каждого данного числа» и открыл, что было такое время, когда еще не было никакого времени, хотя уже существовал мир. Что же касается всего прочего, т. е. всего того, что в рассуждениях г-на Дюринга еще имеет какой-либо смысл, то оказывается: «мы» – это… Иммануил Кант, а «современности» всего-навсего девяносто пять лет. Бесспорно, «крайне просто»! Замечательная «доселе неведомая значимость»!
Между тем Кант вовсе не утверждает, что приведенные положения окончательно установлены этим его доказательством. Напротив, на странице, помещенной тут же рядом, он утверждает и доказывает противоположное: что мир не имеет начала во времени и конца в пространстве. И именно в том, что первое из этих положений так же доказуемо, как и второе, Кант усматривает антиномию, неразрешимое противоречие. Люди меньшего калибра, быть может, несколько призадумались бы над тем, что «некий Кант» нашел здесь неразрешимую трудность. Но не таков наш смелый изготовитель «своеобразных в самой основе выводов и воззрений»: то, что ему может пригодиться из антиномии Канта, он прилежно списывает, а остальное отбрасывает в сторону.
Вопрос сам по себе разрешается очень просто. Вечность во времени, бесконечность в пространстве, – как это ясно с первого же взгляда и соответствует прямому смыслу этих слов, – состоят в том, что тут нет конца ни в какую сторону, – ни вперед, ни назад, ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево. Эта бесконечность совершенно иная, чем та, которая присуща бесконечному ряду, ибо последний всегда начинается прямо с единицы, с первого члена ряда. Неприменимость этого представления о ряде к нашему предмету обнаруживается тотчас же, как только мы пробуем применить его к пространству. Бесконечный ряд в применении к пространству – это линия, которая из определенной точки в определенном направлении проводится в бесконечность. Выражается ли этим хотя бы в отдаленной степени бесконечность пространства? Отнюдь нет: требуется, напротив, шесть линий, проведенных из одной точки в трояко противоположных направлениях, чтобы дать представление об измерениях пространства; и этих измерений у нас было бы, следовательно, шесть. Кант настолько хорошо понимал это, что только косвенно, обходным путем переносил свой числовой ряд на пространственность мира. Г-н Дюринг, напротив, заставляет нас принять шесть измерений в пространстве и тотчас же вслед за этим не находит достаточно слов для выражения своего негодования по поводу математического мистицизма Гаусса, который не хотел довольствоваться тремя обычными измерениями пространства.[48]
В применении ко времени бесконечная в обе стороны линия, или бесконечный в обе стороны ряд единиц, имеет известный образный смысл. Но если мы представляем себе время как ряд, начинающийся с единицы, или как линию, выходящую из определенной точки, то мы тем самым уже заранее говорим, что время имеет начало; мы предполагаем как раз то, что должны доказать. Мы придаем бесконечности времени односторонний, половинчатый характер; но односторонняя, разделенная пополам бесконечность есть также противоречие в себе, есть прямая противоположность «бесконечности, мыслимой без противоречий». Избежать такого противоречия можно лишь приняв, что единицей, с которой мы начинаем считать ряд, точкой, отправляясь от которой мы производим измерение линии, может быть любая единица в ряде, любая точка на линии и что для линии или ряда безразлично, где мы поместим эту единицу или эту точку.
Но как быть с противоречием «сосчитанного бесконечного числового ряда»? Его мы сможем исследовать ближе в том случае, если г-н Дюринг покажет нам кунштюк, как сосчитать этот бесконечный ряд. Когда он справится с таким делом, как счет от – оо (минус бесконечность) до нуля, тогда пусть он явится к нам. Ведь ясно, что откуда бы он ни начал свой счет, он оставит за собой бесконечный ряд, а вместе с ним и ту задачу, которую ему надо решить. Пусть он обернет свой собственный бесконечный ряд 1+2+3+4… и попытается вновь считать от бесконечного конца обратно до единицы; совершенно очевидно, что это попытка человека, который совсем не видит, о чем здесь идет речь. Более того. Если г-н Дюринг утверждает, что бесконечный ряд протекшего времени сосчитан, то он тем самым утверждает, что время имеет начало, ибо иначе он вовсе не мог бы начать «сосчитывать». Он, стало быть, опять подсовывает в виде предпосылки то, что должен доказать. Таким образом, представление о сосчитанном бесконечном ряде, другими словами, мирообъемлющий дюринговский закон определенности каждого данного числа есть contradictio in adjecto,[49] содержит в себе самом противоречие, и притом абсурдное противоречие.
Ясно следующее: бесконечность, имеющая конец, но не имеющая начала, не более и не менее бесконечна, чем та, которая имеет начало, но не имеет конца. Малейшая диалектическая проницательность должна была бы подсказать г-ну Дюрингу, что начало и конец необходимо связаны друг с другом, как северный и южный полюсы, и что когда отбрасывают конец, то начало становится концом, тем единственным концом, который имеется у ряда, – и наоборот. Вся иллюзия была бы невозможна без математической привычки оперировать бесконечными рядами. Так как в математике мы, в силу необходимости, исходим из определенного, конечного, чтобы прийти к неопределенному, не имеющему конца, то все математические ряды, положительные или отрицательные, должны начинаться с единицы, иначе никакие выкладки тут невозможны. Но идеальная потребность математика весьма далека от того, чтобы быть принудительным законом для реального мира.
Кроме того, г-ну Дюрингу никогда не удастся представить себе действительную бесконечность лишенной противоречий. Бесконечность есть противоречие, и она полна противоречий. Противоречием является уже то, что бесконечность должна слагаться из одних только конечных величин, а между тем это именно так. Ограниченность материального мира приводит к не меньшим противоречиям, чем его безграничность, и всякая попытка устранить эти противоречия ведет, как мы видели, к новым и худшим противоречиям. Именно потому, что бесконечность есть противоречие, она представляет собой бесконечный, без конца развертывающийся во времени и пространстве процесс. Уничтожение этого противоречия было бы концом бесконечности. Это уже совершенно правильно понял Гегель, почему он и отзывается с заслуженным презрением о господах, мудрствующих по поводу этого противоречия.
Пойдем дальше. Итак, время имело начало. А что было до этого начала? Мир, находящийся в неизменном, самому себе равном состоянии. И так как в этом состоянии не происходит никаких следующих друг за другом изменений, то более частное понятие времени превращается в более общую идею бытия. Во-первых, нам здесь совершенно нет дела до того, какие понятия претерпевают превращения в голове г-на Дюринга. Речь идет не о понятии времени, а о действительном времени, от которого г-ну Дюрингу так дешево ни в коем случае не отделаться. Во-вторых, сколько бы понятие времени ни превращалось в более общую идею бытия, мы от этого не подвигаемся ни на шаг дальше. Ибо основные формы всякого бытия суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства. Гегелевское «вневременно прошедшее бытие» и новошеллинговское «предвечное бытие»[50] являются еще рациональными представлениями по сравнению с этим бытием вне времени. Поэтому г-н Дюринг и приступает очень осторожно к делу: собственно говоря, это, пожалуй, – время, но такое время, которое нельзя в сущности назвать временем, ибо само по себе время не состоит ведь из реальных частей и лишь произвольно делится на части нашим рассудком; только действительное наполнение времени поддающимися различению фактами принадлежит к тому, что поддается счету; а что должно означать накопление пустой длительности, – этого нельзя себе даже представить. Что должно означать это накопление, для нас здесь совершенно безразлично; спрашивается: длится ли мир в предположенном здесь состоянии, обладает ли он длительностью во времени? Что от измерения подобной, лишенной содержания длительности ничего не получится, как и в том случае, если бы мы принялись без смысла и цели производить измерения в пустом пространстве, – это мы знаем давно, и Гегель, именно вследствие скучного характера такого рода занятия, называет эту бесконечность дурной. Согласно г-ну Дюрингу, время существует только благодаря изменению, а не изменение существует во времени и благодаря времени. Именно потому, что время отлично, независимо от изменения, его можно измерять посредством изменения, ибо для измерения всегда требуется нечто отличное от того, что подлежит измерению. Затем, время, в течение которого не происходит никаких заметных изменений, далеко от того, чтобы совсем не быть временем; оно, напротив, есть чистое, не затронутое никакими чуждыми примесями, следовательно, истинное время, время как таковое. Действительно, если мы хотим уловить понятие времени во всей его чистоте, отделенным от всех чуждых и посторонних примесей, то мы вынуждены оставить в стороне, как сюда не относящиеся, все те различные события, которые происходят во времени рядом друг с другом или друг за другом, – иначе говоря, представить себе такое время, в котором не происходит ничего. Действуя таким путем, мы, следовательно, вовсе не даем понятию времени потонуть в общей идее бытия, а лишь впервые приходим к чистому понятию времени.
Однако все эти противоречия и несообразности представляют собой еще детскую забаву по сравнению с той путаницей, в которую впадает г-н Дюринг со своим равным самому себе первоначальным состоянием мира. Если мир был некогда в таком состоянии, когда в нем не происходило абсолютно никакого изменения, то как он мог перейти от этого состояния к изменениям? То, что абсолютно лишено изменений, если оно еще вдобавок от века пребывает в таком состоянии, не может ни в каком случае само собой выйти из этого состояния, перейти в состояние движения и изменения. Стало быть, извне, из-за пределов мира, должен был прийти первый толчок, который привел мир в движение. Но «первый толчок» есть, как известно, только другое выражение для обозначения бога. Г-н Дюринг, уверявший нас, что в своей мировой схематике он начисто разделался с богом и потусторонним миром, здесь сам же вводит их опять – в заостренном и углубленном виде – в натурфилософию.
Далее, г-н Дюринг говорит:
«Там, где величина принадлежит постоянному элементу бытия, она остается неизменной в своей определенности. Это положение справедливо… относительно материи и механической силы».
Первое предложение представляет, кстати сказать, прекрасный образчик широковещательной аксиоматически-тавтологической манеры выражения г-на Дюринга: там, где величина не изменяется, она остается той же самой. Итак, количество механической силы, имеющееся в мире, остается вечно тем же самым. Мы уже не говорим о том, что в той мере, в какой это положение правильно, его знал и высказал в философии почти триста лет тому назад Декарт,[51] что в естествознании учение о сохранении силы за последние двадцать лет повсюду получило самое широкое распространение и что, ограничивая его механической силой, г-н Дюринг его отнюдь не улучшает. Но где же была механическая сила во время неизменного состояния мира? На этот вопрос г-н Дюринг упорно отказывается дать нам какой-либо ответ.
Где, г-н Дюринг, была тогда вечно остающаяся равной себе механическая сила и что она приводила в движение? Ответ:
«Изначальное состояние вселенной, или, выражаясь яснее, бытия материи, лишенного изменений, не заключающего в себе никакого накопления изменений во времени, – это вопрос, отмахнуться от которого может лишь ум, видящий верх мудрости в самоуродовании своей производительной способности».
Стало быть: либо вы принимаете без рассуждений мое неизменное изначальное состояние, либо я, наделенный производительной способностью Евгений Дюринг, объявляю вас духовными евнухами. Это, конечно, может кое-кого испугать. Но мы, уже видевшие несколько образцов производительной способности г-на Дюринга, позволим себе оставить пока изящное ругательство г-на Дюринга без ответа и спросить еще раз: однако, г-н Дюринг, с вашего позволения, как обстоит дело с механической силой?
Г-н Дюринг тотчас же приходит в замешательство.
Действительно, – бормочет он, – «абсолютное тождество этого первоначального предельного состояния само по себе не дает никакого принципа перехода. Вспомним, однако, что в сущности такое же затруднение имеется по отношению к любому, даже самому малому, новому звену в хорошо известной нам цепи бытия. Поэтому тот, кто хочет найти затруднения в данном главном случае, не должен позволять себе обходить их в случаях менее заметных. Сверх того, перед нами возможность включения промежуточных состояний, в их последовательной градации, и тем самым мост непрерывности, чтобы, идя назад, дойти до полного угасания изменений. Правда, чисто логически эта непрерывность не помогает нам найти выход из главного затруднения, но она является для нас основной формой всякой закономерности и всякого известного нам вообще перехода, так что мы имеем право воспользоваться его и как посредствующим звеном между упомянутым первоначальным равновесием и его нарушением. Но если бы мы захотели представить себе это, так сказать» (!), «неподвижное равновесие, в соответствии с теми понятиями, которые допускаются без особых сомнений» (!) «в современной механике, то совершенно нельзя было бы объяснить себе, каким образом материя могла дойти до состояния изменчивости». Но кроме механики масс существует еще, – говорит г-н Дюринг, – превращение движения масс в движение мельчайших частиц; однако как оно происходит, «для этого мы до сих пор не располагаем никаким общим принципом и мы не должны поэтому удивляться, если эти явления несколько уходят в темную область».
Вот и все, что может сказать г-н Дюринг. И в самом деле, мы должны были бы видеть верх мудрости не только в «самоуродовании производительной способности», но и в слепой и темной вере, если бы захотели удовлетвориться этими поистине жалкими, пустыми увертками и фразами. Что абсолютное тождество не может само собой прийти к изменению, это признаёт сам г-н Дюринг. Нет никакого средства, с помощью которого абсолютное равновесие само собой могло бы перейти в движение. Что же остается в таком случае? Три ложных жалких выверта.
Во-первых: столь же трудно, по словам г-на Дюринга, установить переход от любого, даже самого малого звена в хорошо известной нам цепи бытия к следующему звену. – Г-н Дюринг считает, по-видимому, своих читателей младенцами. Установление отдельных переходов и связей всех, даже самых малых, звеньев в цепи бытия как раз и составляет содержание естествознания, и если при этом кое-где дело не ладится, то никому, даже г-ну Дюрингу, не приходит в голову объяснять происшедшее движение из «ничего», а всегда, напротив, предполагается, что это движение является результатом перенесения, преобразования или продолжения какого-нибудь предшествующего движения. Здесь же, как он сам признаёт, дело идет о том, чтобы выводить движение из неподвижности, т. е. из ничего.
Во-вторых: мы имеем «мост непрерывности». Правда, чисто логически он, как говорит г-н Дюринг, не помогает нам найти выход из затруднения, но все же мы вправе воспользоваться этим мостом как посредствующим звеном между неподвижностью и движением. К сожалению, непрерывность неподвижности состоит в том, чтобы не двигаться; поэтому вопрос, каким образом создать при ее помощи движение, остается еще более таинственным, чем когда-либо. И сколько бы г-н Дюринг ни разлагал на бесконечно малые частицы свой переход от полного отсутствия движения к универсальному движению и какой бы долгий период он ни приписывал этому переходу, все же мы не сдвинемся с места ни на одну десятитысячную долю миллиметра. Без акта творения мы уж, конечно, никак не можем перейти от ничего к чему-то, хотя бы это «что-то» было не больше математического дифференциала. Таким образом, мост непрерывности – даже не ослиный мост[52] пройти по такому мосту может только г-н Дюринг.
В-третьих: пока сохраняет значение современная механика, – а она, по г-ну Дюрингу, является одним из важнейших орудий для развития мышления, – совершенно невозможно объяснить, как совершается переход от неподвижности к движению. Но механическая теория теплоты показывает нам, что движение масс при известных обстоятельствах превращается в молекулярное движение (хотя и в этом случае движение возникает из другого движения, но никогда не возникает из неподвижности), и это, робко намекает г-н Дюринг, могло бы, быть может, послужить нам мостом между строго статическим (находящимся в равновесии) и динамическим (движущимся). Однако эти явления «несколько уходят в темную область». И г-н Дюринг так и оставляет нас сидеть впотьмах.
Вот куда мы пришли после всего углубления и заострения: все глубже погружаясь во все более глубокую бессмыслицу, мы, наконец, причалили туда, куда необходимо должны были причалить, – к «темной для нас области». Это, однако, мало смущает г-на Дюринга. Уже на следующей странице он имеет дерзость утверждать, что ему «удалось наполнить понятие равного самому себе постоянства реальным содержанием, исходя непосредственно из действий самой материи и механических сил».
И этот человек называет других людей «шарлатанами»!
К счастью, при всей этой путанице и беспомощном блуждании «впотьмах», у нас еще остается одно бесспорно возвышающее дух утешение:
«Математика обитателей других небесных тел не может основываться ни на каких иных аксиомах, кроме наших!».
VI. НАТУРФИЛОСОФИЯ. КОСМОГОНИЯ, ФИЗИКА, ХИМИЯ
В дальнейшем мы приходим к теориям о том, каким способом образовался нынешний мир.
Состояние всеобщего рассеяния материи, – говорит г-н Дюринг, – было исходным представлением уже у ионийских философов, но особенно со времени Канта гипотеза первоначальной туманности стала играть новую роль, причем тяготение и тепловое излучение послужили для объяснения постепенного образования отдельных твердых небесных тел. Современная механическая теория теплоты позволяет придать выводам о прежних состояниях вселенной гораздо более определенный характер. Но при всем том «состояние газообразного рассеяния может быть исходным пунктом для выводов, имеющих серьезное значение, лишь в том случае, если предварительно определеннее охарактеризовать данную в нем механическую систему. В противном случае не только эта идея фактически остается весьма туманной, но и первоначальная туманность, по мере дальнейших выводов, становится действительно все более густой и непроницаемой;… пока что все остается еще в смутном и бесформенном состоянии идеи рассеяния, не допускающей более точного определения», и, таким образом, мы имеем «в лице этой газообразной вселенной только крайне воздушную концепцию».
Кантовская теория возникновения всех теперешних небесных тел из вращающихся туманных масс была величайшим завоеванием астрономии со времени Коперника. Впервые было поколеблено представление, будто природа не имеет никакой истории во времени. До тех пор считалось, что небесные тела с самого начала движутся по одним и тем же орбитам и пребывают в одних и тех же состояниях; и хотя на отдельных небесных телах органические индивиды умирали, роды и виды все же считались неизменными. Было, конечно, очевидно для всех, что природа находится в постоянном движении, но это движение представлялось как непрестанное повторение одних и тех же процессов. В этом представлении, вполне соответствовавшем метафизическому способу мышления, Кант пробил первую брешь, и притом сделал это столь научным образом, что большинство приведенных им аргументов сохраняет свою силу и поныне. Разумеется, теория Канта и до сих пор еще является, строго говоря, только гипотезой. Но и Коперникова система мира также остается доныне не более, чем гипотезой.[53] А после того как существование раскаленных газовых масс в звездном небе было установлено спектроскопически с убедительностью, разбивающей всякие возражения, замолкла и научная оппозиция против теории Канта. Сам г-н Дюринг тоже не может справиться со своей конструкцией мира, не прибегая к подобной стадии туманного состояния, но – в отместку за это – он выдвигает требование, чтобы ему показали данную в этом туманном состоянии механическую систему, а так как это пока невыполнимо, то он награждает это туманное состояние всякого рода пренебрежительными эпитетами. Современная наука не может, к сожалению, охарактеризовать эту систему так, чтобы вполне удовлетворить г-на Дюринга. Но в такой же степени она не может ответить и на многие другие вопросы. На вопрос, почему жабы не имеют хвоста, наука доселе может дать только такой ответ: «потому что они его утратили». Если же у кого-нибудь явилась бы охота погорячиться по поводу такого ответа и сказать, что в таком случае все остается в смутном и бесформенном состоянии идеи утраты, не допускающей более точного определения, и что все это представляет собой крайне воздушную концепцию, то от подобного применения морали к естествознанию мы не подвинулись бы ни на шаг вперед. Такого рода выпады и изъявления неудовольствия могли бы иметь место всегда и везде, и именно поэтому они никогда и нигде не уместны. И кто, наконец, мешает г-ну Дюрингу самому найти механическую систему первоначальной туманности? К счастью, мы узнаем теперь, что Кантова туманная масса «далеко не совпадает с вполне тождественным состоянием мировой среды, или, выражаясь иначе, с равным самому себе состоянием материи».
Истинное счастье для Канта, что, найдя обратный путь от существующих ныне небесных тел к туманному шару, он мог этим удовлетвориться и что ему даже в голову не приходила мысль о равном самому себе состоянии материи! Заметим мимоходом, что если в современном естествознании туманный шар Канта называется первоначальной туманностью, то это, само собой разумеется, надо понимать лишь относительно. Эта туманность является первоначальной, с одной стороны, как начало существующих небесных тол, а с другой, как самая ранняя форма материи, к которой мы имеем возможность восходить в настоящее время. Это отнюдь не исключает, а, напротив, требует предположения, что материя до этой первоначальной туманности прошла через бесконечный ряд других форм.
Г-н Дюринг усматривает здесь свое преимущество. Там, где мы, вместе с наукой, останавливаемся пока на существовавшей когда-то первоначальной туманности, ему его наука наук помогает гораздо дальше проникнуть в прошлое, – вплоть до того «состояния мировой среды, которое нельзя понять ни как чисто статическое, в современном смысле этого представления, ни как динамическое», которого, следовательно, вообще нельзя понять.
«Единство материи и механической силы, которое мы называем мировой средой, есть, так сказать, логически-реальная формула, имеющая целью указать на равное самому себе состояние материи как на предпосылку всех поддающихся счету стадий развития».
Очевидно, мы далеко еще не отделались от этого равного самому себе первоначального состояния материи. Здесь оно называется единством материи и механической силы, а сие единство – логически-реальной формулой и т. д. Как только, следовательно, прекращается единство материи и механической силы, начинается движение.
Эта логически-реальная формула представляет собой не что иное, как бессильную попытку воспользоваться для философии действительности гегелевскими категориями «в себе» и «для себя». По Гегелю, бытие в себе содержит первоначальное тождество неразвитых противоположностей, скрытых в какой-либо вещи, в каком-либо процессе, в каком-либо понятии; в бытии для себя выступает различение и разъединение этих скрытых элементов и начинается их взаимная борьба. Мы, стало быть, должны представить себе неподвижное первоначальное состояние в виде единства материи и механической силы, а переход к движению – в виде их разъединения и противоположения. Но такой способ представления не дает нам доказательства реальности дюринговского фантастического первоначального состояния, а показывает только то, что это состояние может быть подведено под гегелевскую категорию «в себе», а столь же фантастическое прекращение этого состояния – под категорию «для себя». Гегель, выручай!
Материя, – говорит г-н Дюринг, – есть носитель всего действительного; поэтому не может существовать никакой механической силы вне материи. Далее, механическая сила есть некоторое состояние материи. И вот, в первоначальном состоянии, когда ничего не происходило, материя и ее состояние, т. е. механическая сила, составляли нечто единое. Следовательно, потом, когда что-то начало совершаться, состояние должно было, очевидно, стать отличным от материи. Итак, мы должны позволить потчевать нас подобными мистическими фразами, да еще уверением, что равное самому себе состояние не было ни статическим, ни динамическим, что оно не находилось ни в равновесии, ни в движении. Мы всё еще не знаем, где была механическая сила во время этого состояния и как нам без толчка извне, т. е. без бога, перейти от абсолютной неподвижности к движению.
До г-на Дюринга материалисты говорили о материи и движении. Г-н Дюринг сводит движение к механической силе, как к его якобы основной форме, и тем лишает себя возможности понять действительную связь между материей и движением, которая, впрочем, была неясна и всем прежним материалистам. Между тем дело это довольно просто. Движение есть способ существования материи. Нигде и никогда не бывало и не может быть материи без движения. Движение в мировом пространстве, механическое движение менее значительных масс на отдельных небесных телах, колебание молекул в качестве теплоты или в качестве электрического или магнитного тока, химическое разложение и соединение, органическая жизнь – вот те формы движения, в которых – в одной или в нескольких сразу – находится каждый отдельный атом вещества в мире в каждый данный момент. Всякий покой, всякое равновесие только относительны, они имеют смысл только по отношению к той или иной определенной форме движения. Так, например, то или иное тело может находиться на Земле в состоянии механического равновесия, т. е. в механическом смысле – в состоянии покоя, но это нисколько не мешает тому, чтобы данное тело принимало участие в движении Земли и в движении всей солнечной системы, как это ничуть не мешает его мельчайшим физическим частицам совершать обусловленные его температурой колебания или же атомам его вещества – совершать тот или иной химический процесс. Материя без движения так же немыслима, как и движение без материи. Движение поэтому так же несотворимо и неразрушимо как и сама материя – мысль, которую прежняя философия (Декарт) выражала так: количество имеющегося в мире движения остается всегда одним и тем же. Следовательно, движение не может быть создано, оно может быть только перенесено. Когда движение переносится с одного тела на другое, то, поскольку оно переносит себя, поскольку оно активно, его можно рассматривать как причину движения, поскольку это последнее является переносимым, пассивным.
Это активное движение мы называем силой, пассивное же – проявлением силы. Отсюда ясно как день, что сила имеет ту же величину, что и ее проявление, ибо в них обоих совершается ведь одно и то же движение.
Таким образом, лишенное движения состояние материи оказывается одним из самых пустых и нелепых представлений, настоящей «горячечной фантазией». Чтобы прийти к нему, нужно представить себе относительное механическое равновесие, в котором может пребывать то или иное тело на нашей Земле, как абсолютный покой и затем это представление перенести на всю вселенную в целом. Такое перенесение облегчается, конечно, если сводить универсальное движение к одной только механической силе. И тогда подобное ограничение движения одной механической силой дает еще то преимущество, что оно позволяет представить себе силу покоящейся, связанной, следовательно, в данный момент бездействующей. А именно, если перенос движения, как это бывает очень часто, представляет собой сколько-нибудь сложный процесс, в который входят различные промежуточные звенья, то действительный перенос можно отложить до любого момента, опуская последнее звено цепи. Так происходит, например, в том случае, если, зарядив ружье, мы оставляем за собой выбор момента, когда будет спущен курок и вследствие этого совершится разряжение, т. е. будет перенесено движение, освободившееся благодаря сгоранию пороха. Можно поэтому представить себе, что во время неподвижного, равного самому себе состояния материя была заряжена силой, – это и подразумевает, по-видимому, г-н Дюринг, если он вообще что-либо подразумевает, под единством материи и механической силы. Однако такое представление бессмысленно, ибо на вселенную в целом оно переносит, как нечто абсолютное, такое состояние, которое по самой природе своей относительно и которому, следовательно, может быть подвержена в каждый данный момент всегда только часть материи. Но даже если оставить в стороне это обстоятельство, то все же остается еще затруднение: во-первых, каким образом мир оказался заряженным, ибо в наши дни ружья не заряжаются сами собой, а, во-вторых, чей палец затем спустил курок? Мы можем вертеться и изворачиваться, как нам угодно, но под руководством г-на Дюринга мы каждый раз опять возвращаемся к… персту божию.
От астрономии наш философ действительности переходит к механике и физике. Здесь он сетует, что механическая теория теплоты за целое поколение, прошедшее со времени ее открытия, недалеко ушла от того пункта, до которого ее постепенно довел сам Роберт Майер. Кроме того, по его мнению, все это дело еще очень темно:
Мы вынуждены «вновь напомнить, что вместе с состояниями движения материи даны и статические отношения и что эти последние не имеют никакой меры в механической работе… Если мы раньше назвали природу великой работницей и будем теперь брать это выражение в его строгом смысле, то мы должны еще прибавить, что равные самим себе состояния и покоящиеся отношения не выражают никакой механической работы. Таким образом, у нас опять нет моста от статического к динамическому, и если так называемая скрытая теплота до сих пор остается камнем преткновения для теории, то мы и здесь должны констатировать такой пробел, наличие которого менее всего следовало бы отрицать в применении к космическим проблемам».
Все это оракульское разглагольствование представляет собой опять-таки не что иное, как излияние нечистой совести, которая очень хорошо чувствует, что этим своим порождением движения из абсолютной неподвижности она безнадежно запуталась, но все же стыдится апеллировать к единственному спасителю, а именно – к создателю неба и земли. Если даже в механике, включая сюда механику теплоты, нельзя найти моста от статического к динамическому, от равновесия к движению, то почему г-н Дюринг обязан отыскивать мост от своего неподвижного состояния к движению? Если это так, то он тем самым счастливо выпутался бы из беды.
В обыкновенной механике мостом от статического к динамическому является – толчок извне. Если камень весом в центнер поднят на высоту десяти метров и свободно подвешен, оставаясь там в равном самому себе состоянии и покоящемся отношении, то нужно апеллировать к публике из грудных младенцев, чтобы утверждать, будто теперешнее положение этого тела не выражает никакой механической работы или что расстояние, на котором оно находится от своего прежнего положения, не имеет никакой меры в механической работе. Каждый встречный без труда разъяснит г-ну Дюрингу, что камень не сам собой попал туда, вверх, на веревку, и первый попавшийся учебник механики может указать ему, что если этому камню дать вновь упасть, то он произведет при падении ровно столько механической работы, сколько нужно было ее затратить, чтобы поднять его на высоту десяти метров. Даже тот весьма простой факт, что камень висит там, наверху, выражает уже механическую работу, ибо если он будет висеть достаточно долгое время, то веревка оборвется, как только она, вследствие химического разложения, окажется недостаточно крепкой, чтобы поддерживать камень. Но к таким «простым основным формам», употребляя выражение г-на Дюринга, можно свести все механические процессы, и надо еще родиться такому инженеру, который не сумел бы найти мост от статического состояния к динамическому, располагая надлежащим внешним толчком.
Конечно, для нашего метафизика твердым орешком и горькой пилюлей является тот факт, что движение должно находить свою меру в своей противоположности, в покое. Ведь это – вопиющее противоречие, а всякое противоречие, по мнению г-на Дюринга, есть бессмыслица.[54] Тем не менее это факт, что висящий камень выражает определенное количество механического движения, которое может быть точно измерено по весу камня и его удаленности от поверхности Земли и может быть по желанию использовано различными способами (например, посредством прямого падения, спуска по наклонной плоскости, вращения какого-нибудь вала); и точно так же обстоит дело с заряженным ружьем. Для диалектического понимания эта возможность выразить движение в его противоположности, в покое, не представляет решительно никакого затруднения. Для него вся эта противоположность является, как мы видели, только относительной; абсолютного покоя, безусловного равновесия не существует. Отдельное движение стремится к равновесию, совокупное движение снова устраняет равновесие. Таким образом, покой и равновесие там, где они имеют место, являются результатом того или иного ограниченного движения, и само собой понятно, что это движение может быть измеряемо своим результатом, может выражаться в нем и вновь из него получаться в той или иной форме. Но удовлетвориться столь простой трактовкой этого вопроса г-н Дюринг не может. Как это и подобает настоящему метафизику, он сначала создает между движением и равновесием не существующую в действительности зияющую пропасть, а затем удивляется, что не может найти мост через эту, им же самим сфабрикованную пропасть. Он с таким же успехом мог бы сесть на своего метафизического Росинанта и погнаться за кантовской «вещью в себе», ибо именно она, а не что-либо другое, скрывается в конце концов за этим непостижимым мостом.
Но как обстоит дело с механической теорией теплоты и со связанной, или скрытой, теплотой, которая для этой теории «остается камнем преткновения»?
Если фунт льда при температуре точки замерзания и при нормальном атмосферном давлении превратить путем нагревания в фунт воды той же температуры, то исчезает количество теплоты, которого было бы достаточно, чтобы нагреть тот же фунт воды от нуля до 79,4° С или чтобы нагреть 79,4 фунта воды на 1°. Если этот фунт воды нагреть до точки кипения, т. е. до 100°, и затем превратить ее в пар температурой в 100°, то, пока вода целиком превратится в пар, исчезает почти в семь раз большее количество теплоты – такое количество ее, которого достаточно, чтобы повысить на 1° температуру 537,2 фунта воды.[55] Эту исчезнувшую теплоту называют связанной. Если путем охлаждения превратить пар снова в воду и воду снова в лед, то такое же количество теплоты, которое прежде приведено было в связанное состояние, вновь освобождается, т. е. оно становится ощущаемым и измеримым в качестве теплоты. Это высвобождение теплоты при сгущении пара и при замерзании воды есть причина того, что пар, охлажденный до 100°, лишь постепенно превращается в воду и что масса воды, имеющая температуру точки замерзания, лишь очень медленно превращается в лед. Таковы факты. Теперь спрашивается: что происходит с теплотой в то время, когда она находится в связанном состоянии?
Механическая теория теплоты, согласно которой теплота заключается в большем или меньшем, смотря по температуре и агрегатному состоянию, колебании мельчайших физически деятельных частиц тела (молекул), – колебании, способном при определенных условиях превратиться в любую другую форму движения, – эта теория объясняет дело тем, что исчезнувшая теплота произвела определенную работу, превратилась в работу. При таянии льда прекращается тесная, крепкая связь отдельных молекул между собой, превращаясь в свободное расположение соприкасающихся частиц; при испарении воды, имеющей температуру точки кипения, возникает такое состояние, в котором отдельные молекулы не оказывают никакого заметного влияния друг на друга и под действием теплоты даже разлетаются по всем направлениям. При этом ясно, что отдельные молекулы какого-либо тела в газообразном состоянии обладают гораздо большей энергией, чем в жидком, а в жидком состоянии – опять-таки большей, чем в твердом. Таким образом, связанная теплота не исчезла, – она просто претерпела превращение и приняла форму силы молекулярного напряжения. Как только прекращается условие, при котором отдельные молекулы могут сохранять в отношении друг друга эту абсолютную или относительную свободу, т. е. как только температура опускается ниже минимума в 100° или, соответственно, ниже 0°, – эта сила напряжения высвобождается, молекулы опять стремятся друг к другу с той же силой, с какой они раньше отрывались друг от друга; и эта сила исчезает, но лишь для того, чтобы вновь обнаружиться в виде теплоты, и притом в таком же точно количестве, которое прежде было связанным. Это объяснение представляет собой, конечно, только гипотезу, как и вся механическая теория теплоты, поскольку никто до сих пор не видел молекулы, не говоря уже о ее колебаниях. Оно поэтому несомненно полно пробелов, как и вообще вся эта еще очень молодая теория, но, по крайней мере, эта гипотеза может объяснить данный процесс, не вступая в какое бы то ни было противоречие с неуничтожимостью и несотворимостью движения, и она даже в состоянии дать точный отчет о том, куда девается теплота во время ее превращения. Следовательно, скрытая, или связанная, теплота вовсе не является камнем преткновения для механической теории теплоты. Напротив, эта теория впервые дает рациональное объяснение процесса, а камнем преткновения может служить разве лишь то, что физики продолжают называть теплоту, превращенную в другую форму молекулярной энергии, устарелым и уже не подходящим выражением «связанная теплота».
Итак, в равных самим себе состояниях и покоящихся отношениях твердого, капельно-жидкого и газообразного агрегатного состояния действительно выражена механическая работа, поскольку эта последняя является мерой теплоты. Как в твердой земной коре, так и в воде океана в их теперешнем агрегатном состоянии выражено совершенно определенное количество освободившейся теплоты, которому, само собой разумеется, соответствует столь же определенное количество механической силы. При переходе газообразного шара, из которого возникла Земля, в капельно-жидкое, а позднее – в значительной своей части – в твердое агрегатное состояние, определенное количество молекулярной энергии было излучено в мировое пространство в виде теплоты. Следовательно, того затруднения, о котором таинственно бормочет г-н Дюринг, не существует; и даже в применении к космическим проблемам мы хотя и наталкиваемся на недостатки и пробелы, обусловленные несовершенством наших познавательных средств, но нигде не встречаемся с теоретически непреодолимыми препятствиями. Мостом от статического к динамическому является и здесь толчок извне – охлаждение или нагревание, вызванное другими телами, которые действуют на предмет, находящийся в равновесии. Чем больше мы углубляемся в дюринговскую натурфилософию, тем больше обнаруживается безнадежность всех попыток объяснить движение из неподвижности или найти мост, по которому чисто статическое, покоящееся может само собой перейти в динамическое, в движение.
Теперь мы как будто благополучно избавились на некоторое время от равного самому себе первоначального состояния. Г-н Дюринг переходит к химии и по этому случаю раскрывает перед нами три закона постоянства природы, добытые до сих пор философией действительности, а именно:
1) количество всей вообще материи, 2) количество простых (химических) элементов и 3) количество механической силы – неизменны.
Итак, несотворимость и неразрушимость материи и ее простых элементов, поскольку она состоит из них, а равно несотворимость и неразрушимость движения – эти старые общеизвестные факты, крайне неудовлетворительно выраженные, – вот единственное действительно положительное, что г-н Дюринг может преподнести нам как результат своей натурфилософии неорганического мира. Все это – давным-давно известные нам вещи. Оставалось для нас неизвестным лишь одно: что это – «законы постоянства» и что как таковые они представляют «схематические свойства системы вещей». Получается та же история, какую мы раньше[56] видели в отношении Канта: г-н Дюринг берет какое-нибудь общеизвестное старье, приклеивает к нему дюринговскую этикетку и называет это «своеобразными в самой основе выводами и воззрениями… системосозидающими идеями… проникающей до корней наукой».
Однако это еще отнюдь не должно приводить нас в отчаяние. Какими бы недостатками ни страдала эта самая коренная из всех наук и предлагаемое г-ном Дюрингом наилучшее общественное устройство, одно г-н Дюринг может утверждать с полной определенностью:
«Имеющееся во вселенной золото необходимо представляло всегда одно и то же количество и, подобно всей вообще материи, не могло быть ни увеличено, ни уменьшено».
К сожалению, г-н Дюринг не сообщает нам, что именно мы можем купить себе на это «имеющееся золото».
VII. НАТУРФИЛОСОФИЯ. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР
«От механики давления и толчка до связи ощущений и мыслей идет единообразная и единственная последовательность промежуточных ступеней».
Этим уверением г-н Дюринг избавляет себя от необходимости сказать что-либо более определенное относительно возникновения жизни, хотя, казалось бы, от мыслителя, который проследил развитие мира в обратном направлении вплоть до равного самому себе состояния и который чувствует себя совсем как дома на других небесных телах, можно было бы ожидать, что он и это дело знает в точности. Впрочем, приведенное утверждение г-на Дюринга верно лишь наполовину, пока оно не дополнено упомянутой уже[57] гегелевской узловой линией отношений меры. При всей постепенности, переход от одной формы движения к другой всегда остается скачком, решающим поворотом. Таков переход от механики небесных тел к механике небольших масс на отдельных небесных телах; таков же переход от механики масс к механике молекул, которая охватывает движения, составляющие предмет исследования физики в собственном смысле слова: теплоту, свет, электричество, магнетизм. Точно так же и переход от физики молекул к физике атомов – к химии – совершается опять-таки посредством решительного скачка. В еще большей степени это имеет место при переходе от обыкновенного химического действия к химизму белков, который мы называем жизнью.[58] В пределах сферы жизни скачки становятся затем все более редкими и незаметными. – Итак, опять Гегелю приходится поправлять г-на Дюринга.
Для логического перехода к органическому миру г-ну Дюрингу служит понятие цели. И это опять-таки заимствовано у Гегеля, который в своей «Логике» – в учении о понятии – совершает переход от химизма к жизни при посредстве телеологии, или учения о цели. Куда мы ни посмотрим, везде мы наталкиваемся у г-на Дюринга на какую-нибудь гегелевскую «неудобоваримую идею», которую он без малейшего стеснения выдает за свою собственную, до корней проникающую науку. Мы зашли бы слишком далеко, если бы занялись здесь исследованием того, в какой степени правомерно и уместно применение представления о цели и средствах к органическому миру. Во всяком случае, даже применение гегелевской «внутренней цели», т. е. такой цели, которая не привносится в природу намеренно действующим сторонним элементом, например мудростью провидения, а заложена в необходимости самого предмета, – даже такое применение понятия цели постоянно приводит людей, не прошедших основательной философской школы, к бессмысленному подсовыванию природе сознательных и намеренных действий. Тот самый г-н Дюринг, который при малейших «спиритических» поползновениях других впадает в величайшее нравственное негодование, уверяет «с полной определенностью, что инстинкты созданы главным образом ради того удовлетворения, которое связано с их игрой».
Он рассказывает нам, что бедная природа «должна постоянно, все снова и снова, приводить в порядок предметный мир» и что сверх того у нее еще много других дел, «которые требуют от природы большей утонченности, чем принято думать». Но природа не только знает, почему она создает то или другое, ей не только приходится выполнять работу домашней служанки, она не только обладает утонченностью, что уже само по себе представляет собой весьма порядочное совершенство в субъективном сознательном мышлении, – она имеет еще и волю; ибо дополнительную роль инстинктов, – то, что они мимоходом осуществляют реальные естественные функции: питание, размножение и т. д., – «мы вправе рассматривать не как прямо, а лишь как косвенно желаемое».
Таким образом, мы пришли к сознательно мыслящей и сознательно действующей природе, следовательно, мы стоим уже на «мосту», ведущем, правда, не от статического к динамическому, но все же от пантеизма к деизму. Или, быть может, г-ну Дюрингу хочется и самому немного заняться «натурфилософской полупоэзией»?
Нет, этого не может быть. Все, что наш философ действительности может сказать нам об органической природе, ограничивается походом против этой «натурфилософской полупоэзии», против «шарлатанства с его легкомысленной поверхностностью и, так сказать, научными мистификациями», против «напоминающих дурную поэзию черт» дарвинизма.
Прежде всего Дарвину ставится в упрек, что он переносит теорию народонаселения Мальтуса из политической экономии в естествознание, что он находится во власти представлений животновода, что в своей теории борьбы за существование он предается ненаучной полупоэзии и что весь дарвинизм, за вычетом того, что заимствовано им у Ламарка, представляет собой изрядную дозу зверства, направленного против человечности.
Дарвин вынес из своих научных путешествий мнение, что виды растений и животных не постоянны, а изменчивы. Чтобы у себя дома развить эту мысль дальше, ему не представлялось лучшего поля для наблюдений, чем разведение животных и растений. Именно в этом отношении Англия является классической страной; достижения других стран, например Германии, не могут даже в отдаленной степени сравниться по своему масштабу с тем, что в этом отношении сделано в Англии. При этом большая часть успехов, достигнутых в указанной области, относится к последней сотне лет, так что констатирование фактов не представляет больших затруднений. И вот, Дарвин нашел, что отбор вызвал искусственно у животных и растений одного и того же вида различия более значительные, чем те, которые встречаются у видов, всеми признаваемых разными. Таким образом, с одной стороны, была доказана доходящая до известной степени изменчивость видов, а с другой – было доказано, что у организмов, обладающих неодинаковыми видоными признаками, могут быть общие предки. Дарвин исследовал затем, нельзя ли найти в самой природе таких причин, которые должны были с течением времени – без всякого сознательного и намеренного воздействия селекционера – вызвать в живых организмах изменения, подобные тем, которые создаются искусственным отбором. Причины эти он нашел в несоответствии между громадным числом создаваемых природой зародышей и незначительным количеством организмов, фактически достигающих зрелости. Так как каждый зародыш стремится к развитию, то необходимо возникает борьба за существование, которая проявляется не только в виде непосредственной физической борьбы или пожирания, но и в виде борьбы за пространство и свет, наблюдаемой даже у растений. Ясно, что в этой борьбе имеют наибольшие шансы достичь зрелости и размножиться те особи, которые обладают какой-либо, хотя бы и незначительной, но выгодной в борьбе за существование индивидуальной особенностью. Такие индивидуальные особенности имеют поэтому тенденцию передаваться по наследству, а если они встречаются у многих особей одного и того же вида, то и тенденцию усиливаться в однажды принятом направлении путем накопления наследственности. Напротив, особи, не обладающие такими особенностями, легче погибают в борьбе за существование и постепенно исчезают. Так происходит изменение вида путем естественного отбора, путем выживания наиболее приспособленных.






