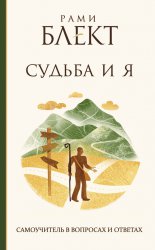Война: Журналист. Рота. Если кто меня слышит (сборник) Подопригора Борис

Новоселов кивнул – он действительно все понимал: Светлана училась в Москве, Андрей в Ленинграде. Перспектив развития отношений не было. Вот только объяснить это девушке не много нашлось бы охотников – Илья видел, какими глазами она смотрела на Обнорского… И почему только Андрюха не москвич?..
После последнего предупреждения проводницы о скором отправлении ребята крепко обнялись, и Андрей вскочил в вагон. Когда поезд тронулся, друзья продолжали еще некоторое время держать друг друга взглядами, но постепенно состав набрал скорость, и Илья уже не поспевал идти за ним по перрону. Еще мгновение – и Новоселов пропал из виду, в эту секунду Обнорскому стало настолько тоскливо, что он едва не выпрыгнул из вагона…
Всю ночную дорогу до Ленинграда Андрей не сомкнул глаз – курил в тамбуре сигарету за сигаретой, думал обо всем сразу, привалившись пылающим лбом к холодному стеклу дверного окна. В темноте октябрьской ночи его глаза поблескивали то ли сдерживаемыми слезами, то ли жестоким металлическим отсверком… Соседи по купе в самом начале случайно столкнулись взглядами с Обнорским и почувствовали безотчетный страх перед этим странным парнем, они даже не сделали ни одного замечания за его бесконечные хождения из тамбура в купе и обратно…
В Ленинград поезд пришел рано, но метро уже открылось. Перейдя площадь Восстания, Андрей несколько минут решал, каким маршрутом ему ехать. Поскольку было уже холодно, его выбор пал все-таки на метро. Перед тем как войти в двери станции, Андрей долго смотрел на еще не заполненный спешащими по своим делам пешеходами Невский и вспоминал, как год назад он прощался с главной улицей города… Ему казалось, что с того дня прошел не год, а целая жизнь… Да так оно, наверное, на самом деле и было.
До дома он добрался к половине восьмого утра – родители еще не ушли на работу, дверь открыла мама, и Обнорскому стало больно от того, как она постарела за прошедший год… Мама подслеповато прищурилась, пытаясь разглядеть в полутемном коридоре раннего гостя, потом ее губы задрожали, и она поднесла ладонь ко рту, словно боясь поверить…
– Это я, мама, – сказал Андрей, делая шаг навстречу и подхватывая упавшую ему на грудь легкую, сухонькую фигурку. Он целовал мать, а она топила в его куртке рвущиеся из горла рыдания… – Ну что ты, мама, – бормотал Обнорский, гладя ее по голове и ловя взглядом отца, выскочившего на шум из комнаты. – Ну что ты… Все хорошо, мам. Я вернулся…
…На самом деле Андрей вернулся лишь, если так можно выразиться, в физическом смысле. Мыслями он все еще был в Йемене, который снился ему каждую ночь, – так же как в Адене ему снилась Россия. Обнорский ходил по улицам родного города и не чувствовал радости – здесь он был чужим и никому не нужным.
На следующий день после своего приезда он отправился в университет. Дворцовый мост Андрей решил перейти пешком, чтобы подольше можно было смотреть в свинцовые невские волны. Был как раз полдень, и с Петропавловской крепости ударила пушка – Обнорский инстинктивно пригнулся и чуть было не залег на асфальтовое покрытие моста. Прохожие шарахнулись от него, как от психа, а Андрей трясущимися руками с трудом достал из пачки сигарету, которую в три затяжки спалил…
…На факультет он в тот день не попал – перейдя Дворцовый мост, сел в автобус сорок седьмого маршрута и добрался до пивбара «Петрополь», располагавшегося недалеко от станции метро «Василеостровская». «Петрополь» считался «придворным» заведением востфака, впрочем, в нем любили сиживать и студенты всех остальных факультетов универа, располагавшихся на Васильевском острове. До отъезда в Йемен Андрей частенько захаживал в эту пивную и знал многих ее завсегдатаев.
Первым, с кем столкнулся в «Петрополе» Обнорский, оказался его однокурсник Зураб Енукишвили – они с Зурабом уехали из Союза практически одновременно, только поскольку Енукишвили был афганистом, то он и попал, как говорится, в страну изучаемого языка. Они никогда не были особыми приятелями, но тут бросились друг к другу словно братья.
– Андрюха! Ты давно вернулся? – спросил Зураб. Он говорил по-русски без всякого акцента, потому что родился и вырос в Ленинграде.
– В Питер – вчера, а в Союз – с неделю назад… А ты когда? – Обнорский оглядел пивную, ища свободные места.
– Я еще в сентябре, двадцатого… Пойдем, брат, у нашего стола место для тебя всегда найдется…
Под пиво Зураб рассказывал Андрею последние факультетские новости и многое из своих афганских приключений, потом говорил Обнорский. Постепенно от легкого напитка ребята перешли сначала на «Монтану» (так в «Петрополе» называли аперитив «Степной» – за изображенного на этикетке орла), а потом и на водочку. Часы летели незаметно, Андрей все больше пьянел, и одновременно с этим словно разжималась тугая пружина в его груди – из глаз исчезала нехорошая угрюмость, да и на душе становилось как-то легче…
Домой Обнорский вернулся на «автопилоте» и сразу лег спать, не обращая внимания на растерянные взгляды отца и матери, которые пытались его о чем-то расспросить… На все их вопросы с первого же дня Андрей и в трезвом-то состоянии отвечал невнятно, а пьяный – тем более. Что он мог им рассказать? Правду? Она была слишком страшной и грязной, да и к тому же совсем непонятной – в мирном Союзе люди жили абсолютно другими мерками и понятиями… Не хотел Обнорский травмировать родителей, жалел их, а они обижались на него за то, что он ничего не рассказывал, молчал и только смотрел все время куда-то с затаенной болью. А что ему оставалось? Врать он не хотел, а говорить честно…
Курсом старше Обнорского учился на кафедре иранской филологии один паренек из нормальной интеллигентной ленинградской семьи. В 1983 году этого ираниста отправили в Афганистан (язык дари распространен как в Иране, так и в Афганистане), родителям паренек присылал нормальные, совсем не страшные письма, но через полгода в гости к его отцу и матери заехал советник из полка, в который попал студент на практику. Советник ехал к своей семье в Новгород и в Ленинграде остановился всего на несколько часов специально, чтобы передать родителям парня привет и письма. Его, конечно, усадили за стол, и после третьей рюмки мушавер[79] выдал:
– Хорошего вы хлопца воспитали, уважаемые… Головастый такой… У нас однажды «духи» в катакомбы подземные ушли вместе со своими бабами и детишками, засели там, никто и не знал, что делать… А тарджуман[80] наш сообразил – «бэтээры» подогнать и выхлопными газами, значит, в подземелье… это… поработать – там выход-то только один был. Молодец! «Духи» попередохли – а у нас ни одного раненого.
Советник хотел сделать родителям искренний комплимент, а вышло так, что той ночью мать «головастого хлопца» попала в больницу с инфарктом – слишком глубоким оказался шок, не могла она поверить, что ее замечательный, тихий, интеллигентный мальчик стал таким душегубом…
Так с тех пор и пошло – каждый вечер Андрей являлся домой пьяным и сразу уходил в свою комнату, ложился на диван одетым и еще «догонялся» из заныканной за тумбочкой бутылочки – тогда была хоть какая-то гарантия того, что не будет опять сниться Йемен и все с ним связанное… Странные вещи творились с Обнорским – уже дома, в Ленинграде, в полной безопасности стал приходить к нему запоздалый страх, он словно заново переживал все случившееся с ним в Йемене, и его буквально колотило от липкого ужаса, перераставшего в настоящий психоз. Андрей, например, уже просто физически не мог заснуть раздетым, ему непременно нужно было улечься полностью экипированным (видимо, чтобы в случае чего сразу вскочить и бежать), не мог он также садиться затылком к дверям, и его просто трясло, если кто-то заходил ему за спину. При всем при этом его страшно тянуло обратно в Йемен… Обнорский готов был отдать что угодно, лишь бы снова оказаться там, где он был нужен, где его уважали и знали, где, ему казалось, прошли бы мигом все его ночные кошмары…
Его родители не понимали, что творится с сыном, вернувшимся словно чужим, мама часто плакала и проклинала Министерство обороны и восточный факультет, отец несколько раз пытался поговорить с Андреем по-мужски, но все было без толку…
Любимым времяпрепровождением Обнорского стали поездки по кольцевой в ленинградских автобусах, он забивался куда-нибудь в угол, отворачивался от пассажиров и рассматривал из окна улицы, дома, прохожих… Время от времени на него накатывали приступы немотивированной агрессии, злобы к случайным людям, и ему приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы сдержаться и не начать драку или скандал, – в нем словно одновременно жили два человека. Один понимал, что люди не виноваты в том, что с ним случилось, не они его, в конце концов, в Йемен посылали, у них шла своя, мирная жизнь. Но второй человек скользил по лицам прохожих безумным злым взглядом и шептал: «Суки тыловые… Жрали тут сытно, пили, баб трахали, веселились, пока мы там…» Ко всему этому еще примешивалась обида за то, что никто в Союзе ничего про Йемен даже не слышал. Про ребят, вернувшихся из Афгана, хоть знали, их уважали (по крайней мере, в первые годы перестройки), как-то благодарили и давали какие-то льготы.
Все, что происходило с ним, было закономерно: в Йемене Обнорский словно заморозился – чтобы не свихнуться, психика включила там своеобразные тормоза, притупившие остроту восприятия окружавшего его кошмара. Дома эти тормоза отключались. Получился эффект замороженной руки – если ее сунуть в сугроб, она сначала болит, а потом боль перестает чувствоваться. Но если потом зайти в теплый дом, рука, оттаивая, начинает болеть еще сильнее, чем сначала, и ее снова хочется засунуть обратно в сугроб, чтобы унять эту боль… Лишь немногие способны в этот момент перетерпеть и понять, что, засовывая руку обратно в сугроб, можно навсегда ее лишиться, – наступят полное обморожение, гангрена и, возможно, смерть.
В середине ноября Обнорский получил повестку из Ленинградского управления КГБ, он встрепенулся и решил было, что это как-то связано с историей о пропавшем оружии и гибелью Царькова, но оказалось, что с ним просто хотели поговорить на предмет «дальнейшего трудоустройства». Андрей отказываться не стал, но сразу рассказал, что ближе к Новому году должен состояться его официальный развод с женой. Как ни странно, это обстоятельство было товарищам из Большого дома на Литейном неизвестно, и они, казалось, даже растерялись: КГБ не нужны были люди с «сомнительным моральным обликом», а именно так в те годы относились к разведенным. Обнорский это, конечно, знал и даже обрадовался, что ситуация сложилась именно таким образом, – работать в Комитете он не хотел (хотя ни диссидентом, ни антисоветчиком не был), а отвечать на высокое доверие этой организации отказом было чревато. А так – они сами отказались от «морально неустойчивого» кандидата, наверняка даже кто-нибудь там по шапке получил за недостаточно глубокое изучение обстоятельств биографии Обнорского… Собеседование было скомкано, и Андрей от души потом повеселился, вспоминая чугунно-скорбные лица вербовщиков-нанимателей…
На факультете он поначалу появлялся редко и шарахался даже от своих, но в декабре случайно попал в веселую компанию своих новых однокурсников (Обнорский доучивался с курсом, поступившим на год позже него) и завяз в ней. Так сложилось, что никто из этих ребят в командировки по «войне» не ездил, поэтому с психикой у них было все более-менее в порядке – просто компания молодых шалопаев весело прожигала жизнь. Андрей, измученный одиночеством и непрекращавшимися воспоминаниями, инстинктивно уловил возможность погреться у чужого костра.
В компании новых приятелей ему искренне обрадовались – у Обнорского были деньги, позволявшие «завить жизнь веревочкой». Начались просто бешеные загулы – рестораны, пивные, общаги, какие-то хаты вертелись в непросыхающем сознании Андрея угарным карнавалом, в котором он пытался утопить свою тоску и боль. Несколько раз Обнорский ввязывался в жестокие кабацкие драки, в которых становился настоящим зверем. В результате пару раз его забирали в ментовку, и последствия могли бы быть самыми печальными, если бы не помощь двух его старых приятелей. Один раз из отделения его забрал Женька Кондрашов, бывший однокурсник Андрея, почему-то ушедший после окончания восточного факультета работать в специальную службу уголовного розыска, занимавшуюся раскрытием преступлений, совершенных иностранцами и против иностранцев. Во втором случае разбираться приехал Серега Челищев, окончивший юрфак и работавший следователем в горпрокуратуре, – с ним Обнорский когда-то тренировался вместе в университетской сборной по дзюдо. Обоим после освобождения из КПЗ Андрей обещал образумиться, но в эти обещания не верил и сам…
У него появился круг довольно сомнительных кабацко-ресторанных знакомств – какие-то вышибалы, халдеи, бывшие спортсмены, картежники и просто люди с темным прошлым и настоящим. Все это вполне могло закончиться совсем печально, если бы не два обстоятельства – появление в его жизни женщины и прочная финансовая мель.
С деньгами получилось так. Однажды ночью Андрей заявился домой совсем пьяным, идиотски улыбаясь, схватился за занавеску из вьетнамской соломки в прихожей и вместе с ней рухнул на пол, исчерпав запас сил. Отец, пользуясь его бесчувствием, ошмонал Андрея и забрал у него остатки внешпосылторговских чеков (их оставалось около половины от той суммы, с которой он вернулся в Союз). Утром Обнорский обнаружил записку, в которой отец уведомлял, что деньги лежат у него на работе в сейфе и Андрей их не получит до тех пор, пока не очнется от своего затянувшегося запоя. К записке прилагались три рубля на опохмелку – садистом Обнорский-старший не был.
Что же касается вошедшей в жизнь Андрея женщины, то ею стала Виолетта из группы истории Индии с его нового курса. Виолетта несколько раз присутствовала на вечеринках в компании новых однокурсников-собутыльников Обнорского и, что называется, запала на него. Что двигало этой красивой и умной девушкой из приличной семьи, сказать было трудно, видно, правду говорит пословица, что любовь, мол, зла, – факт оставался фактом: капризная, рафинированная и избалованная мужским вниманием Виолетта намертво вцепилась в Андрея и самоотверженно вытаскивала его из самых разных кабаков и притонов. Обнорский сначала несколько тяготился такой опекой, но в конце концов цинично трахнул Виолетту на квартире одного однокурсника, где благодаря отъезду на зимний курорт родителей шла очередная гульба пятикурсников. Виолетта, не смущаясь идущей в соседней комнате пьянкой однокашников, отдалась Андрею с такой страстью и самозабвением, что на него тоже, как говорится, накатило, и в нем, может быть, медленно и неуверенно, но начали пробуждаться, казалось, замерзшие напрочь светлые человеческие чувства… Правда, просыпались они неохотно и болезненно, и Обнорский постоянно норовил снова сорваться в пьяные куражи, но постепенно загулы становились не такими тотальными…
Зимнюю сессию он сдал легко – преподаватели востфака, прошедшие в большинстве своем сложный жизненный путь, понимали, что творится с парнем, и не особенно придирались к нему. Заминка вышла только с экзаменом по разговорному арабскому – на него Обнорский явился пьяным, и замечательный мудрый татарин Юнус Кемалевич не стал Андрея даже слушать, велел прийти на следующий день. На следующий день Обнорского мучило похмелье, и он отвечал не так хорошо, как мог бы, Юнус Кемалевич сказал, что на четверку Андрей сдал, но оценку ставить не стал, перенес третью попытку еще на сутки, когда Обнорский окончательно пришел в себя и сдал язык на отлично. Зимние каникулы ознаменовались новой вспышкой пьянства и уходом Андрея из дому (родители окончательно запилили его) к Виолетте – больше, собственно говоря, идти было некуда.
Родители Виолетты отнеслись к приходу Обнорского в их дом как к несчастному случаю и стихийному бедствию, но в конце концов, повздыхав, смирились – в дочке они души не чаяли, что же делать, если нашла она себе вместо нормального человека полусвихнувшегося урода, с которым страшновато было в одной комнате сидеть, авось образумится, поймет со временем свою ошибку, все и устроится, если только до тех пор этот черномазый «интернационалист» всю семью однажды не перережет…
И ведь отогрела Виола Обнорского, оттащила его от самого края канавы, где подобрала, растопила безудержными ночными ласками ледяную корку, сковывавшую сердце Андрея. Впрочем, наверное, не до конца…
К весне 1986 года Обнорский начал постепенно возвращаться в человеческое обличье, ночные кошмары полностью не прошли, но он уже постепенно к ним притерпелся, да и Виолетта мгновенно просыпалась от его стонов и зубовного скрежета, начинала целовать его, гладить, а потом обхватывала длинными полными ногами и втискивала в себя до полуобморочного состояния…
В мае, сразу после того как Обнорский защитил на отлично дипломную работу, пришло из Москвы приглашение на свадьбу от Илюхи – они изредка перезванивались, и Андрей знал, что у Новоселова с той самой Ириной с журфака вышло все серьезно, – вот и говори потом про легковесность случайных связей…
На свадьбу Обнорский, конечно, поехал – через слезы Виолетты, подозревавшей, что у него в Москве кто-то есть, и явное неодобрение собственных родителей, справедливо предполагавших, что в столице, встретившись с «боевыми друзьями», Андрей снова запьет…
Илюхина свадьба прошла весело и шумно. Народу было много, в основном однокурсники Новоселова, пришли и Гридич с Цыгановым, а из Армении прилетел Армен Петросов. Была на свадьбе и Светлана. Обнорский хотел было подойти к ней и извиниться за все, но Света с трогательным упорством делала вид, что не замечает его, и Андрей принял предложенную модель поведения, решив не ворошить прошлое…
Ирина весьма ревниво относилась к попыткам мужа пуститься с друзьями в совсем еще свежие воспоминания и не оставляла Илью ни на минуту…
В Ленинград Обнорский возвращался, естественно, пьяным и угрюмым. К нахлынувшим на него невеселым, пронзительно-ностальгическим мыслям примешивалось странное предчувствие, что судьба окончательно разводит их с Ильей и увидеться им уже не суждено…
Распределение Андрей получил единственно возможное, учитывая его развод с Машей, отсутствие блата и репутацию, – в родную Советскую Армию. В конце июля лейтенант Обнорский прибыл в Краснодар, где находился большой учебный центр для курсантов и офицеров из «дружеских развивающихся стран». Виолетта осталась в Ленинграде – ее родители легли костьми, но не отпустили дочку, тем более что она с Андреем еще не была официально расписана. В Краснодаре Андрей снова окунулся в родную и знакомую среду военных переводчиков – они здесь в основном переводили лекции и практические занятия для курсантов и офицеров из Сирии, Ирака, Ливии, Йемена и других арабских стран, ориентировавшихся на Советский Союз.
Краснодарский учебный центр в среде кадровых военных переводяг именовали отстойником – туда ссылали в основном невыездных офицеров, – но невыездных не окончательно, а имеющих еще шанс искупить свою вину перед родиной. «Вина» эта заключалась либо в разводах (процентов восемьдесят офицеров краснодарского отделения переводов расстались по разным причинам с супругами – у переводяг, надолго оставлявших свои семьи на период командировок, это было нормальной, закономерной практикой), либо в залетах средней степени глубины – чаще всего по пьянке. Окончательно невыездные ехали южнее – в учебные центры союзных республик, находившиеся на самом краю необъятной советской империи. Про те места слухи ходили совсем жуткие, рассказывали, что из тех «точек» в нормальную жизнь уже точно нет никакого возврата…
Поскольку компашка в Краснодаре подобралась еще та, два года пронеслись пьяно и если не весело, то, во всяком случае, куражливо.
На втором году службы начальник отделения переводов подполковник Селезнев намекнул Обнорскому после присвоения ему очередного звания – старший лейтенант, что у него, в принципе, есть все шансы остаться в кадрах (то есть служить не два года, а двадцать пять – до пенсии) и вновь поехать в загранкомандировку, но все это будет возможным только после изменения семейного положения Андрея – с «разведен» на «женат». Оставаться в кадрах Обнорский не хотел, а вот съездить куда-нибудь на заработки совсем не отказался бы – безденежье советского офицера его угнетало, учитывая то, что в Краснодаре переводяги мыкались по съемным углам и квартирам, остатков его старлейской зарплаты с трудом хватало на еду. Ну и пили опять-таки… Те же деньги, что были спасены в свое время Обнорским-старшим от пропоя, пошли на приобретение в Ленинграде кооперативной однокомнатной квартиры в точечном доме – из мебели там были лишь подоконники и газовая плита… Других же способов заработать хоть какие-то деньги, кроме поездки в Арабию, Андрей не видел – не с кистенем же по ночам на дорогу выходить, право слово… В общем, в очередной приезд Виолетты в Краснодар (она время от времени наезжала к нему на несколько дней, видимо продолжая на что-то надеяться) Обнорский сделал ей официальное предложение…
Свадьбу сыграли в Ленинграде (Андрей как раз ушел в отпуск), невеста сияла и щеголяла французским подвенечным нарядом, а на Обнорском вместо положенного жениху темного костюма был парадный офицерский мундир. Смутно было на душе у Андрея, чувствовал он, что опять делает что-то не то, но утешал себя тем, что, во-первых, с Виолой ему очень хорошо в постели, а во-вторых, штамп о женитьбе делал его выездным. А любовь… Ну что любовь?.. Есть ли она вообще?.. Да и опять же – говорят, стерпится – слюбится…
С тех пор как Обнорский вернулся из Йемена, прошло два года, он, конечно, немного «отогрелся», но полностью так и не отошел – страшные воспоминания он научился от себя отгонять, но все равно что-то мешало ему жить, угнетало и давило его… Он словно в какой-то момент потерял себя, погас… Когда это случилось? Боялся Андрей сам себе отвечать на этот вопрос, гнал его от себя, а все же казалось иногда: плюнь он тогда в госпитале в морду Грицалюку – не точила бы его такая тоска. Если бы, конечно, после этого он остался жив.
Женитьба мало что изменила в краснодарской жизни Обнорского: Виолетта даже в статусе законной жены переезжать к нему не стала – у нее была хорошая работа, она преподавала иностранцам русский язык в Ленинградском педагогическом институте, глупо было бы терять такое место…
Андрей оформился в «одну из развивающихся», съездил на собеседование в ГУК, но вызов в «десятку» долго не приходил, видимо, в Генштабе все никак не могли решить – выездной он уже или все-таки пока еще нет…
В середине августа 1988 года старший лейтенант Обнорский был уволен в запас, а «десятка» все молчала. Андрей вернулся в Ленинград и начал думать, как жить дальше. Перспективы были не очень радужными – найти хорошую работу по специальности для арабиста в Ленинграде было делом сложным, родители-инженеры ничем Обнорскому помочь не могли… Отношения с Виолеттой пошли на постепенное охлаждение, казалось, что она, получив штамп в паспорте, удовлетворила свои амбиции, добилась, так сказать, своего и проявляла к Андрею все меньше интереса – и по жизни, и в постели, кстати, тоже… Женщины не любят неудачников – это правило сурово, но в чем-то, наверное, справедливо…
Положенный после увольнения в запас отпуск Андрей провел дома, размышляя о смысле жизни. Чтобы занять себя хоть чем-то, он попробовал писать – начал записывать какие-то переводческие байки, случаи из собственной службы в Краснодаре. Запретной для изложения на бумаге оставалась только одна тема – Йемен. Обнорскому казалось, что писать об этом у него не было права…
Писать его тянуло давно, была когда-то даже мечта стать журналистом, но Андрей думал, что эта профессия особенная, только для избранных, талантливых и очень-очень образованных людей. Таковым он себя не считал, но все же, когда его отпуск уже подходил к концу, решил набраться наглости и попытать счастья в ленинградской молодежной газете. В день, когда это решение окончательно оформилось, он обнаружил у себя в почтовом ящике повестку. На сером военкоматовском бланке старшему лейтенанту Обнорскому предписывалось через три дня явиться в Москву в распоряжение командира войсковой части номер… Андрей несколько раз перечитал повестку, пока до него дошло, что его наконец вызвали в «десятку». Сказать, что он обрадовался, – все равно что не сказать ничего. Обнорский снова был при деле, снова возвращался в привычную среду.
На этот раз его посылали в Ливию. Виолетта, конечно, обрадовалась предстоящей Андрею командировке, но совсем не бурно – Обнорский должен был ехать на три года, и если она ехала с ним, то ей, конечно, предстояло увольнение с работы. Время для размышлений у нее было – обычно жены приезжали к мужьям не раньше чем через полгода после их прибытия к новому месту службы…
В октябре 1988 года Андрей прибыл в Триполи и явился в Аппарат Главного военного специалиста: в Ливии у советских военных был несколько другой статус, не такой, как в Йемене или, скажем, в Сирии, – советников не было, были только специалисты. Формально это означало, что советские офицеры не имели права принимать никакого участия в боевых действиях, которые, предположим, открывала против кого-нибудь Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия. Фактически же ливийцы считали русских самыми настоящими наемниками – на битаке каждого хабира или переводчика были отпечатаны слова из «Зеленой книги» лидера ливийской революции Муамара Каддафи: «Труд любого наемника, как бы высоко он ни оплачивался, всегда остается лишь трудом раба». Местная сторона позволяла себе такие эскапады, потому что платила за каждого военного или гражданского специалиста реальными нефтедолларами, правда, сами «наемники» получали на руки лишь десятую часть от той валютной суммы, что перечислялась за голову Советскому Союзу. В отличие от Йемена Ливия была богатой страной, она стояла на огромных нефтяных запасах, и это позволяло ливийцам презрительно относиться ко всем иностранцам вообще и к советским – в частности.
Ни о какой «великой дружбе» между Ливией и Союзом не было и речи. Было сотрудничество за деньги, как в борделе: заплатил – пользуйся… Великая Джамахирия, находившаяся в международной блокаде за финансирование и поддержку терроризма на государственном уровне, платила Советскому Союзу исправно.
Референтом Главного военного специалиста генерал-лейтенанта Федора Андреевича Плахова в ту пору был подполковник Павел Сергеевич Петров, человек умный и волевой, мягко державший в кулаке всю переводческую вольницу по старому принципу «разделяй и властвуй». Петров знал, кого из переводяг оставить в столице, кого направить в «курортные» точки на побережье, кого – в глубь Сахары, поближе к неспокойной границе с Чадом. С ним можно было, в принципе, решить любой вопрос – и о переводе в другой город, и о дополнительном отпуске…
Со всех концов Ливии от переводяг шли Петрову подношения – дефицитные чай и кофе, американские военные куртки, десантные кожаные ботинки, камуфлированные пустынные комбинезоны… Справедливости ради нужно отметить, что всеми этими «борзыми щенками» Петров распоряжался умно – себе практически ничего не оставлял, а затыкал ими прорву голодных ртов в Генштабе. Ну а за это «десятка» не вмешивалась в кое-какие ливийские дела референта. Был Павел Сергеевич всегда подтянут, наглажен-наутюжен до хруста, выбрит до синего отлива на щеках и благоухал модным одеколоном «One man Show»[81], название которого какой-то давно, еще в школе учивший английский язык хабир перевел как «Один мужик показал».
Обнорского Петров встретил приветливо, около часа вводил его в обстановку, протестировал на знание арабского и наконец спросил:
– В Бенгази поедешь? В Триполи сейчас свободных вакансий нет, а Бенгази – вторая столица Ливии, такой ливийский Питер – как раз для тебя. Там и цены ниже, и море, говорят, лучше… Будешь старшим переводчиком группы наших специалистов от ВВС – на военной авиабазе «Бенина». Под тобой четверо молодых переводяг – работы никакой, только салаг почаще нагибать, чтоб службу тянули, и все. Курорт… По сравнению с Южным Йеменом – просто отдых на море. Для семейных там квартиры трех-четырехкомнатные, в советском городке условия шикарные, дома французы строили. Короче, не жизнь, а малина, знай только успевай валюту скирдовать. Согласен?
– Согласен, – кивнул Обнорский, в душе обрадованный, что окажется подальше от начальства.
На деле все оказалось не таким голубым и розовым, как нарисовал ему референт. Когда через пару дней транспортный борт забросил Андрея на авиабазу «Бенина», выяснилось, что вместо четырех обещанных Обнорскому переводчиков реально в группе ВВС присутствовали только трое – два выпускника МГИМО и один из Ереванского университета. И если Ашот Карапетян еще хоть как-то мог писать и объясняться по-арабски, то с мгимошниками была просто беда. Два Александра – Бубенцов и Колокольчиков – походили друг на друга не только именами и фамилиями, но и некой значительной вальяжностью, приобретенной ими в стенах своего престижного вуза. Арабского не знали оба – Колокольчиков вообще был индонезистом и попал в Ливию как переводчик английского языка, которым он, впрочем, тоже владел весьма посредственно. Зато его папа занимал должность заместителя министра какой-то там промышленности, вот и устроил сына на хлебное место, где можно было с чистой совестью валять дурака, – на английском в Ливии, бывшей итальянской колонии, не говорил почти никто. Что касается Бубенцова, то он в своем институте арабский учил, но, видимо, так же, как Обнорский на востфаке иврит. (Это был второй восточный язык у Андрея, вся группа называла его в шутку «родной речью» и относилась к занятиям крайне несерьезно. Израиль был тогда абсолютно закрытой для советских неевреев страной, поэтому иврит мог вызывать лишь весьма узкий интерес, как язык потенциального противника. Дальше зазубривания наизусть нескольких ключевых фраз типа «Не бейте меня – я переводчик» познания Обнорского в иврите практически не продвинулись.)
Оценив обстановку, Андрей понял, что попал, и под конец первого знакомства со своими новыми подчиненными угрюмо спросил у обоих мгимошников:
– Братки, откройте мне страшную тайну… Если вы ни черта не знаете, чему же вас тогда учили в вашем сраном МГИМО?
– Образу жизни, командир! – хором отрапортовали Бубенцов с Колокольчиковым, преданно глядя на своего начальника очкастыми глазами.
Обнорский в ответ только крякнул и выругался.
Между тем работы на базе было полно. Во-первых, старший группы советских специалистов ВВС почти каждый день встречался с командиром базы или его заместителями для обсуждения различных вопросов – эти переговоры нужно было переводить в режиме полусинхрона. Во-вторых, на базе существовала школа повышения квалификации ливийских летчиков и техников, где советские военные преподаватели читали лекции по разным дисциплинам, на лекциях шел последовательный перевод, лишь слегка уступавший по сложности синхрону. В-третьих, когда в небо поднимались советские летчики, кто-то из переводяг обязательно должен был присутствовать в диспетчерской и переводить радиообмен. В-четвертых, помощь переводчиков периодически требовалась в ТЭЧ[82]. В-пятых, на базе скопилась гора писем, заявок и рекомендаций, которые лежали без движения, ожидая письменного перевода. В-шестых… Список можно было бы продолжать до бесконечности. Андрей сначала запаниковал, но потом подумал и понял, что до его приезда база ведь как-то функционировала – и ничего…
Тем не менее поначалу он выматывался так, что после ужина мгновенно засыпал, с трудом продирая глаза утром. Каждый день после возвращения с базы в гостиницу на набережной в центре Бенгази, недалеко от старого маяка (в ней жили советские офицеры-холостяки и те, к кому жены еще только должны были приехать, потому что квартира предоставлялась лишь за неделю до прибытия супруги), Обнорский до кругов в глазах занимался языком с Карапетяном и Бубенцовым. На Колокольчикова ввиду бесперспективности его обучения была возложена функция «прислуги за все»: Андрей считал это справедливым, потому что министерский сынок, не делая ровным счетом ничего на базе, получал каждый месяц точно такие же деньги, что и Обнорский. Рафинированный мгимошник сначала было взбрыкнул – Колокольчикова коробило от сознания того, что его превращают в прачку, кухарку и уборщицу одновременно, – но после того как Андрей однажды вечером в гостинице, зло посверкивая черными глазами, слегка (чтоб синяков не оставлять) набил ему морду, все сладилось, более того – вскоре Александр по собственной уже инициативе освоил парикмахерское искусство…
Внутреннюю обстановку в Ливии, как и в любой другой арабской стране, назвать по-настоящему стабильной было нельзя – в январе 1989 года в Бенгази, например, вспыхнуло восстание братьев-мусульман, упрекавших Каддафи в недостаточной, с их точки зрения, приверженности исламу и в сотрудничестве с безбожным Советским Союзом. Это восстание было довольно быстро подавлено, но еще в течение недели по ночам в Бенгази слышались выстрелы, крики и даже иногда взрывы. Правда, по сравнению с аденской резней все это казалось детскими шалостями. Говорят, с захваченными в плен повстанцами поступили без затей – погрузили их связанными в транспортные самолеты, где-то над Сахарой пооткрывали люки и крутились в воздухе, пока не повыпадали все до единого братья-мусульмане…
Весной 1989 года бенгазийский Истихбарат захватил группу экстремистов-фундаменталистов, планировавших взорвать гостиницу, в которой жили советские специалисты. Все захваченные через несколько дней были публично повешены на бенгазийском стадионе. Обнорский присутствовал на казни – нескольких советских офицеров специально пригласили посмотреть, как беспощадно карают врагов сотрудничества Союза и Джамахирии. Больше всего в сцене казни Андрея поразило то обстоятельство, что, когда один из фундаменталистов – самый легкий и маленький – начал биться в петле, какая-то девчонка лет десяти выбежала из толпы, прыгнула повешенному на ноги и начала раскачиваться, как на качелях, ускоряя его смерть тяжестью своего тела…
Виолетта приехала в Бенгази только в апреле – и ничего хорошего из этого не получилось. До того Обнорский никогда подолгу не жил в одной квартире со своей женой самостоятельной жизнью, в Бенгази такой случай выпал впервые, и за пять месяцев, что они прожили до первого отпуска в Союз, Андрей сделал массу неприятных открытий.
Оказалось, что его жена – белоручка, которая мало того что не умела толком ни готовить, ни стирать, ни гладить, ни прибраться в квартире, – она еще и не хотела ничему этому учиться. Часто Обнорский, почерневший от усталости, возвращался с базы в квартиру и сам себе готовил ужин, в то время как Виолетта занималась «литературным творчеством»: чтобы не терять в Ливии зря времени, она решила попробовать себя в драматургии и начала писать пьесу. Скрипя зубами, Андрей терпел эти закидоны, хуже было другое – Виола совершенно не могла, не хотела и не собиралась нормально общаться, да даже не общаться, просто считаться с окружавшими их людьми – советскими офицерами и их женами. На них она смотрела как на пустое место, презрительно оттопырив нижнюю губу. Обнорский пробовал ее увещевать – все было без толку.
– Почему я должна обращать внимание на это быдло, на эту казарму, на этих скобарей и хамок?! – как базарная торговка, орала она Андрею в ответ.
– Ну пойми, Виолочка, может, они не так образованны, не так воспитанны, как ты, но они же в этом не виноваты… Да и не только воспитанием и образованием определяется сущность человека. Откуда в тебе этот снобизм? – пытался объяснить ей что-то Обнорский, но Виола кричала, что он сам хам, пьяница и грубое животное.
Начались затяжные скандалы, Виолетта бесилась от скуки и безделья (из советского городка без автомашины было даже в город не выбраться), но ничего делать по дому упорно не хотела. Обнорский с тоски снова запил (в Ливии, кстати, несмотря на сухой закон, пили много и круто – сливали спирт с советских военных самолетов, гнали самогон, ставили самодельное вино) и все чаще по вечерам засиживался то у одного, то у другого хабира, оттягивая миг возвращения домой, где его ждал очередной скандал.
Кончилось все тем, чем и должно было, – за неделю до отъезда в Союз в отпуск, которого оба ждали как выхода из тюрьмы на волю, Андрей во время очередной семейной сцены не сдержался и залепил Виоле крепкую затрещину, от которой ее снесло на диван, где она и забилась в полуторачасовой истерике. Кстати, когда-то, когда Обнорский только вернулся из Йемена, а Виола завоевывала его, Андрей пару раз тоже распускал руки по пьянке, тогда она сносила это абсолютно безропотно и даже сексуально возбуждалась от полученных оплеух, – но это все было давно, когда она была влюблена в него как кошка…
Дни, оставшиеся до отпуска, они не разговаривали, а в Ленинграде Виолетта заявила, что не вернется в Бенгази ни за какие коврижки. Официально супруги расторгать брак не стали – иначе Обнорского просто не выпустили бы из Союза как уже дважды аморального типа. Андрей и Виолетта договорились по-хорошему – дождаться конца трехгодичной командировки, а там уж решить, как жить дальше. У Обнорского не было никаких иллюзий насчет верности, которую его жена хранила бы во время его службы в Ливии: зная ее темперамент, он понимал, что год сексуального поста – это не для Виолы. С другой стороны, и ее упрекать во всем было бы просто нечестно: когда у мужчины и женщины не складывается жизнь – никогда не бывает виноват только один, всегда виноваты оба… Ну не получилось из нее декабристки… Не преступление ведь это, в конце-то концов… Тем более что Обнорский сам понимал – жить с ним тяжело, слишком уж он стал угрюмым и неласковым…
В общем, свой второй год в Бенгази Андрей начал мотать, считая себя по полному праву женатым холостяком.
Между тем внутренняя обстановка в Ливии хоть и не доходила до памятного Обнорскому южнойеменского накала, но все же заметно обострилась. Осенью 1989 года прошли слухи о нескольких неудачных покушениях на Муамара Каддафи, поговаривали, что за этим стояли американцы, которые, видимо, считали Ливию недостаточно наказанной за терроризм памятными бомбардировками весной 1986 года. Американские военные корабли постоянно курсировали вблизи берегов Джамахирии, а самолеты периодически залетали в ее воздушное пространство. Советских специалистов это очень сильно нервировало, хоть и говорили, что в случае чего, мол, американцы бить по местам проживания русских не будут, – у них якобы эти районы на картах особыми кружочками помечены… Андрей еще застал в своей группе ВВС ребят, переживших налет американской авиации на Бенгази в восемьдесят шестом. Один из них, летчик-истребитель Генка Иващенко, рассказывал об этом так:
– Мы, значит, сидим в гостинице, ждем. Нас о налете где-то за двое суток предупредили – мол, будьте повнимательнее… Нормально, да? Повнимательнее, значит, будьте, не провороньте, когда вас бомбить начнут. Козлы дырявые… Мы на крышу гостиницы наблюдателей выставили, а сами сидим, «Массандру»[83] употребляем для спокойствия нервной системы. И, главное, бежать-то некуда… Тут, значит, уже под вечер, с крыши кричат: «Летят! Летят!» Мы всей толпой на крышу и поперли – интересно все-таки посмотреть. Они красиво заходили, аккуратно на маяк, который ни один мудак не догадался вырубить. Первыми же пусками разъебали электростанцию, и в отеле погас свет, а в лифте двое наших застряли – они, как самые умные, на нем вверх ехали, ножки утруждать не хотели… Взрывы пошли, все трясется, а эти в железной коробке стучат, плачут: «Братки, выпустите нас отсюда, мы же свои, советские…» Смех и слезы, ей-богу. Ну вот, вылезли мы наверх, а «F-111» – на второй заход пошли – и пуски ракет прямо над нами делают красиво так, спокойно… Город уже горит, над нашей базой зарево малиновое – там живого места не осталось… Ну а мы что? Выпили прямо на крыше за мастерство американских пилотов – спасибо, что работали аккуратно, ни гостиницу, ни городок для семейных не накрыли.
В этой напряженной ситуации Ливия еще больше потянулась к великому и могучему Советскому Союзу. В феврале 1990 года министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе встретился с джамахирийским министром нефти и, по образному выражению преподавателя школы ВВС подполковника Володи Веселаго, «похлопали друг друга по голяшкам», подтверждая дальнейшие перспективы сотрудничества. Американцы намек поняли, но, видимо, не до конца, потому что в марте 1990 года какие-то злые люди взорвали, к чертовой бабушке, фармацевтический завод под Триполи. Поговаривали, что это предприятие ливийцы не без помощи каких-то «специалистов» пытались переоборудовать для выпуска химического оружия, которым собирались бороться с международным империализмом и сионизмом.
В ответ на эту акцию, за которой, по мнению ливийского руководства, стоял не только американский конгресс, но и израильский кнессет, в мае 1990 года из Бенгази вышел укомплектованный палестинцами диверсионный корабль – в территориальных водах Израиля корабль-матка сбросил с себя пять легких катеров, которые должны были расстрелять мирный пляж у промышленного комплекса Гаиш, к северу от Тель-Авива. Правда, береговая охрана Израиля успела уничтожить все катера еще до того, как палестинцы открыли огонь, но, видимо, евреям все равно было очень обидно, и они заявили, что нанесут «по центру исламистского терроризма Бенгази упреждающий удар возмездия». После этого заявления жизнь на авиабазе «Бенина» наступила совсем веселая – налета ждали каждый день в течение полутора месяцев, и Обнорский в который раз смог убедиться, что ожидание опасности всегда страшнее самой опасности…
Единственным большим светлым пятном для Андрея стало известие, что в мае 1990 года в Триполи прилетел Илюха Новоселов – его оставили в столице, тоже в ВВС, Илья стал старшим переводчиком группы советских военных специалистов авиабазы «Майтига».
С тех пор как Обнорский побывал у Новоселова на свадьбе, судьба надолго развела их. После окончания ВИИЯ Илья попал служить в придворный подмосковный учебный центр, официально именуемый курсами «Выстрел» (переводчики называли этот центр по-своему: «Высрал»), и сидел там вплоть до командировки в Ливию. Он, по идее, мог оформиться и уехать куда-нибудь в Арабию намного раньше, но в 1988 году ему предложили вступить в партию – отказаться от этого для кадрового офицера означало поставить крест на карьере, – Илья написал заявление, его приняли кандидатом в члены КПСС, а кандидатов, по инструкции ГУКа, не оформляли и никуда не посылали – ждали, пока станут полноправными членами или, наоборот, покажут, что не оправдали доверия партии и правительства. (Смех смехом, а бывало всякое: в Краснодаре, например, одного сослуживца Обнорского, как раз когда у него заканчивался кандидатский стаж, обварила кипятком из ревности страстная кубанская казачка. Парню круто не повезло, он едва не лишился глаз, с рожи облезла вся кожа, за вспыхнувший скандал его не утвердили действительным членом КПСС, а вдобавок еще выяснилось, что эта бешеная любовница беременна, и обваренному невыездному переводяге после родов припаяли алименты…)
Все эти годы ребята получали друг от друга приветы с оказиями (мир военных переводчиков тесен), но писем не писали – как-то не до того было, да и что скажешь в письме? Всего не скажешь, а если учесть специфику системы, в которой служили друзья, то удивляться тому, что особых охотников писать длинные письма не было, не приходилось…
Между «Бениной» и «Майтигой», естественно, существовала телефонная связь, которой, правда, советским разрешали пользоваться с ограничениями. Но все равно – хоть раз в неделю Илья и Андрей могли перезваниваться, рассказывать потихоньку и очень осторожно свои новости (связь, ясное дело, контролировалась Истихбаратом, поэтому они часто переходили на эзопов язык). Конечно, все это не могло заменить подлинного живого человеческого общения, и Обнорский с двойным нетерпением ожидал своего второго отпуска, чтобы в Триполи, откуда уходили самолеты на Союз, обнять наконец Илью.
К тому же появились у Андрея и мысли о том, чтобы на третий год перебраться служить в ливийскую столицу. И не только мысли, но и насущная необходимость.
Летом 1990 года Советский Союз поставил на авиабазу «Бенина» эскадрилью самолетов «МиГ-23» модификации БН. По условиям контракта на поставку ливийцы не имели права передавать или перепродавать эти «МиГи» «третьей стороне», однако самолеты с базы исчезли, их якобы на период ожидания «налета возмездия» израильской авиации (который, кстати, так и не состоялся) перегнали в специально оборудованные в пустыне убежища. Однако у резидента КГБ в Бенгази, работавшего под прикрытием статуса военного специалиста в одной из советских групп, на этот счет возникли серьезные сомнения. Поскольку сам резидент доступа на авиабазу не имел, развеять или подтвердить его сомнения было поручено Обнорскому, который, как старший переводчик группы ВВС, естественно, довольно часто с комитетчиком встречался.
Андрей, проклиная все на свете, вынужден был плотно заняться этой проблемой и через две недели сумел получить достоверные данные о том, что эскадрилья «МиГ-23» БН ушла в Судан, то есть как раз самой что ни на есть «третьей стороне». Все шло прекрасно, но как-то так сложилось, что комитетский резидент и шеф бенгазийского Истихбарата кардинально разошлись в оценке деятельности Обнорского, – кагэбэшник был Андреем очень доволен, а вот ливийский контрразведчик почему-то совсем даже наоборот.
Надо сказать, что с главой местного Истихбарата подполковником Исой, который по совместительству был председателем бенгазийского революционного трибунала и большой сволочью, у Обнорского с самого начала отношения не заладились. Иса подозревал Андрея в шпионаже, только доказать ничего не мог. Но ему, в принципе, и доказывать-то ничего не требовалось, поскольку в Бенгази подполковник был, что называется, и бог, и царь, и воинский начальник. Рассказывали, что карьеру свою Иса начал еще в 1969 году совсем сопливым пацаном: когда в присутствии Каддафи казнили однажды публично «врагов сентябрьской революции», будущий глава бенгазийского Истихбарата выскочил из толпы, вырвал у одного из охранников Муамара автомат и лично расстрелял нескольких контриков, чем доказал лидеру Ливии свою безусловную преданность.
Естественно, такой добрый и веселый дядя мог при желании раздавить Обнорского как клопа и безо всяких доказательств, а Андрею очень не хотелось, чтобы однажды где-нибудь на набережной у гостиницы нашли его труп и появление трупа списали бы на нападение тунисских уголовников, наводнивших страну после открытия границ Ливии на западе и востоке. А такая перспектива начинала становиться очень реальной, тем более что Обнорский знал – чуть ли не треть хабиров и их жен из группы ВВС регулярно постукивали Исе или его людям о разных разностях, составлявших небогатую событиями жизнь советских специалистов. Поэтому Андрей, почувствовав, что дело начинает «пахнуть бертолетом», не стал дожидаться, пока история с переданной Судану эскадрильей найдет подтверждение для советской разведки через другие источники и Союз выставит Ливии миллионные штрафные санкции.
Обнорский заблаговременно послал в Триполи с оказией Новоселову письмо, в котором просил Илью «порешать» с референтом вопрос о его переводе из Бенгази в Триполи, – на столицу власть Исы не распространялась. Более того, поскольку между двумя городами существовала старинная вражда, берущая начало в родо-племенной розни, столичные чиновники часто поступали просто назло бенгазийским – даже вопреки элементарной логике. Ну и опять-таки, находясь поближе к большому советскому начальству, можно было себя чувствовать хоть на капельку более уверенным и защищенным, чем в Бенгази, где с Аппаратом Главного даже не было регулярной связи. Илья, умница, все быстро понял, с Петровым переговорил и вскоре во время очередного телефонного разговора заметил невзначай:
– Слышь, старый, привет тебе от Пал Сергеича, он спрашивает, нет ли там у тебя возможности добыть три летных американских комбинезона, четыре комплекта летней светлой формы и коробку «Рияди»?[84] Все понял, Палестинец? В сентябре поедешь в отпуск – захвати с собой…
– Понял, – вздохнул Обнорский, потому что цена за перевод в столицу была высока. – Спасибо… Только я теперь не Палестинец, меня тут по-другому кличут – Журналистом.
– Да? – удивился Илья. – А за что это так тебя? Стенгазету местную организовал?
– Нет, – засмеялся Андрей. – За другое. Долго рассказывать, встретимся – объясню…
Новое прозвище действительно прилипло к Обнорскому. От скуки он иногда по вечерам кропал небольшие заметки о ливийских традициях, о быте и укладе, о том, как проходят мусульманские свадьбы и похороны, и о разной другой африканской экзотике. Однажды он набрался смелости и послал с оказией свои опусы в ту самую ленинградскую «молодежку», в которую чуть было не пошел просить работы перед самой командировкой. Надежда на то, что эти зарисовки кого-нибудь там заинтересуют, была очень слабой, однако месяца через два, когда Андрей уже и думать забыл об отправленных заметках, родители прислали ему в письме вырезку из газеты с его статьей о ливийских свадьбах. Подписана статья была псевдонимом Серегин – свою фамилию Обнорский поставить не решился и, недолго думая, использовал девичью фамилию мамы… Увидев свои строки напечатанными в настоящей газете, Обнорский чуть не свихнулся от счастья и на радостях похвастался вырезкой перед парой хабиров, с которыми поддерживал хорошие отношения. Хабиры, естественно, раззвонили эту новость по всему советскому контингенту, где от скуки радовались любой новой сплетне, даже самой незначительной. Небольшую заметку зачитали чуть ли не до дыр, а Андрея начали величать в шутку не иначе как Журналистом.
Дань для референта Обнорский собрал довольно быстро, проклиная догадливость Петрова, явно смекнувшего, что раз Андрею перевод в Триполи понадобился позарез, то можно требовать много… Найдет, если приперло, никуда не денется…
Обнорскому оставалось до отпуска ровно четыре недели, когда душной августовской ночью привиделся ему полузабытый аденский кошмар: мертвый Назрулло, усеянный блестящими гильзами пятачок у Нади Дуббат, Кука, стреляющий ему в голову… Сон повторялся, словно заезженная пластинка. Андрей просыпался несколько раз, а под утро не выдержал, вышел из гостиницы и окунулся в море, пытаясь унять теплой и невероятно чистой соленой водой непонятно с чего расходившиеся нервы. Весь день он был подавлен и мрачен, его терзало смутное предчувствие беды… На базе он наорал с утра на Бубенцова с Колокольчиковым, досталось под горячую руку и Ашоту (ему вообще ни за что), но, даже выпустив пар, Обнорский успокоиться не смог. Как на грех, не было связи с «Майтигой» – даже с Ильей было не поговорить, душу отвести…
Предчувствие его не обмануло – на следующее утро, после второй бессонной ночи, Андрей все же дозвонился до «Майтиги», но поговорить с Ильей уже не смог. Лейтенант Кирилл Выродин – переводчик, работавший в одной группе с Ильей, – сообщил, запинаясь и путая слова, что Илья Новоселов сутки назад покончил с собой – отравился газом из кухонного баллона, оставив предсмертную записку… Обнорский, слушая Выродина, разом взмок и, не веря своим ушам, заорал на него так, что находившиеся в кабинете старшего группы хабиров даже вздрогнули:
– Киря, ты что несешь?!! Как отравился? Ты что плетешь, карась ебаный?
Выродин на «Майтиге» обижаться на «карася» не стал, ответил с участием:
– Не плету я… Мы тут сами все охуели от таких раскладов… У него вчера как раз жена прилетела, а Илья уже мертвый… Капитана ему только-только присвоили… Он последние дни ходил немного странный… Ладно, Андрей, ты извини, пора разговор заканчивать, меня шеф дергает, я же теперь тут за старшего кручусь… К вам сегодня транспорт пойдет, ваших хабиров-отпускников захватит… Они все расскажут…
Трубка выпала из руки Обнорского, уставившегося невидящим взглядом в стену. Илья покончил с собой? Ерунда какая-то… Последний раз Андрей говорил с ним неделю назад и никаких отклонений в речи Новоселова не заметил. Может быть, только некоторая раздражительность… Что-то он такое сказал про каких-то козлов… Андрей напрягся и вспомнил фразу дословно – под конец их последнего разговора Обнорский спросил его: «Ты что, братишка, вроде как не в настроении? Злой какой-то? Сперма к горлу подступила? Так у тебя же Ирка на днях приезжает… Рашпиль-то есть? Пора уже ракушки с члена стачивать». Илья рассмеялся старой шуточке насчет рашпиля и ракушек (иногда к приезду супруги коллеги-холостяки даже вручали счастливцу рашпиль или напильник в торжественной обстановке, сопровождая подарок грубоватыми, но веселыми напутствиями) и ответил: «Да не в этом дело, с членом порядок… Тут у нас несколько козлов такую хуйню отмочили, расскажу потом. Хоть стой – хоть падай, хоть плачь – хоть смейся… В отпуск поедешь – поведаю…»
Фраза Ильи о каких-то козлах ничего не объясняла – мало ли дураков в Триполи, постоянно кто-нибудь что-нибудь выкидывает этакое… И тревоги в голосе Новоселова не было…
Андрей еле дождался транспорта с «Майтиги», привезшего трех возвращавшихся из отпуска техников, но их рассказы ничего не прояснили – мужики сказали только, что Илья действительно отравился в своей квартире, оставив прощальное письмо, что весь советский контингент в Триполи, естественно, на ушах и никто ничего не понимает… Из Джамахирии порой отправляли в Союз покойников – то у кого-нибудь сердце жары не выдержит, то несчастный случай на море. В 1988 году на границе с Чадом местные племена вырезали целую ливийскую воинскую часть, там как раз находились в командировке двое хабиров с переводчиком – их кончили вместе со всеми и похоронили в братской могиле. Трупы смогли вырыть и переправить в Триполи только через две недели, когда ребят уже было почти не опознать… Разное случалось в Ливии, но вот самоубийств на памяти Обнорского не было…
Оставшиеся до отпуска недели он дотянул только благодаря «самолетовке» и самодельному вину – алкоголь ненадолго давал расслабление пошедшей совсем вразнос нервной системе…
В Триполи Андрей попал лишь за день до рейса в Москву и ничего особо нового не узнал. Версия была одна: внезапное помутнение рассудка на почве жары и переутомления; кое-кто, правда, предполагал, что дикий поступок Ильи был как-то связан с его молодой женой – мол, ревновал он ее, то да се…
Пьяная карусель отпуска отвертела положенные круги очень быстро – Обнорскому казалось, что и дома-то почти не был, когда подошла пора возвращаться. Уезжая в Москву, Андрей долго смотрел, высунувшись из вагона «Красной стрелы», на оставшихся на перроне мать, отца и незаметно выросшего братишку – увидит ли он их снова, вернется ли? Учитывая то, что он собирался сделать в Триполи, на эти вопросы мог рискнуть ответить положительно только Господь Бог, если он, конечно, не отвернулся еще от Обнорского окончательно…
В салоне аэрофлотского «Ту-154», взявшего курс на столицу Ливии, Андрей смог сосредоточиться и четко сформулировать самому себе задачу: в Триполи он попытается разгадать тайну ухода из жизни Ильи Новоселова. Обнорский почему-то был убежден, что ключи к разгадке нужно искать именно там, а не в Союзе. Понимал он и то, что шансов на успех у него очень мало, практически нет, но если есть хотя бы один – есть и надежда…
После принятого наконец окончательного решения пролился в душу Андрею, как ни странно, некий покой – весьма, впрочем, кратковременный. Совсем некстати у него вдруг дико разболелась голова.
Морщась и массируя то место, где скользнула когда-то по черепу пуля Куки, Андрей нажал кнопку вызова стюардессы, чтобы попросить стакан воды – запить лекарство.
Показавшаяся в конце салона фигура бортпроводницы вдруг кого-то ему напомнила. Обнорский прищурил затуманенные болью и алкоголем глаза и пригляделся – да, действительно, женщина в синей аэрофлотской униформе была очень похожа на Лену, только чуть-чуть пополневшую. А вот волосы и посадка головы – совсем как у нее… Странно, что при посадке в самолет он не обратил на это никакого внимания, – впрочем, тогда ему было не до того: похмельно-пьяного Обнорского едва доволок до таможни в Шереметьеве-2 Серега Вихренко, переводчик из Триполи, прилетевший в отпуск в Москву четырьмя неделями позже Андрея. Таможенники и пограничники, впрочем, не особо удивились – и не такое видывали… Во фри-шопе перед посадкой Обнорский успел еще купить бутылку французского вина и выхлебал ее прямо из горла на глазах у каких-то совершенно обалдевших от такого шоу американцев. Естественно, при посадке на борт «Ту-154» Андрею было уже не до стюардесс.
Женщина в синей униформе подходила ближе, и Обнорского вдруг всего заколотило. Боясь поверить самому себе, он смотрел не мигая на ее лицо: по тому, как оно дрогнуло, как расширились ее глаза и задрожали губы, Андрей понял, что Лена его тоже узнала…
– Господи ты Боже мой… Это ты, Лена?! Лена!..
– Это я… Андрюшенька…
Поговорить толком в самолете им, конечно, не удалось, – чтобы не привлекать лишнего внимания, Лена, принеся стакан воды Обнорскому, быстро ушла, оставив короткую записку: «Вечером с 20.00 буду ждать тебя на аэрофлотской вилле – она находится недалеко от посольства, – спросишь, где представительство Аэрофлота, тебе покажут. Обязательно приходи». Больше она к креслу Андрея не подходила.
В Триполи после таможни всех прибывших из Москвы военных специалистов и переводчиков отвезли в район Хай аль-Аквах[85], где располагался Аппарат ГВС, клуб, столовая и библиотека. Напротив высотного здания Аппарата стояла гостиница для холостяков, работавших в Триполи, – несколько этажей этой многоэтажки были отданы под транзитников, то есть для тех, кто ждал в Триполи оказии, чтобы убыть в другие города на постоянное место работы, и для тех, кто прибывал из этих городов в столицу перед отпуском или окончательным отъездом в Союз.
Когда Андрей уезжал в отпуск, вопрос о его переводе в Триполи был принципиально уже решен, однако официального приказа Главный еще не подписал, поэтому Обнорского для начала поселили в транзитный номер – в нем не было ничего, кроме большого шкафа и трех пружинных кроватей. Андрей быстро принял душ (повезло, что была вода, потому что утром и вечером ее периодически отключали – холостяки умывались, поливая друг другу воду на руки из пластиковых канистр), переоделся, причесался, тщательно почистил зубы и, бросив в рот несколько мятных лепешек, чтобы заглушить запах еще не выветрившегося перегара, отправился в Аппарат. Удивительное дело – он чувствовал себя почти сносно, и настроение не было таким подавленным, каким бывает обычно после выхода из многодневного крутого штопора.
Заслуга в этом, безусловно, принадлежала Лене – ее неожиданное появление тряхнуло Обнорского не хуже электрошока. Он ведь думал о ней все эти годы, запрещал себе вспоминать, спал с другими женщинами, – а все равно думал… Какая она стала… Собственно, и была ничего, но годы превратили ее в настоящую, налившуюся уверенной женской силой красавицу – хоть на обложку западного журнала фотографируй… Андрею вспомнились слова его коллеги по краснодарскому учебному центру, умудренного тремя разводами сорокалетнего майора Доманова: «Малыш, когда-нибудь ты поймешь, что настоящая женщина начинается лет в двадцать восемь, не раньше. Только к этому возрасту она начинает кое-что понимать и в постели, и в жизни, и тогда с ней становится не просто приятно потрахаться – с ней становится интересно… Помнишь, как О. Генри сказал: «Любовь такой женщины равняется гуманитарному образованию»? А с девятнадцатилетними свиристелками – с ними же просто скучно, даже с самыми что ни на есть раскрасавицами. Они могут только брать, отдавать им еще нечего. Трахнешь такую дуру и лежишь в тоске, думаешь, как бы смыться поскорее…»
Входя в здание Аппарата ГВС и поднимаясь по лестнице в референтуру, Обнорский, как заклинание, повторял про себя слова из записки стюардессы: «Вечером… буду ждать тебя… Обязательно приходи…» Конечно, он придет. Андрей пробился бы к аэрофлотской вилле, даже если бы весь Триполи горел и стрелял, как Аден тогда, в сентябре восемьдесят пятого…
Референт встретил его широкой улыбкой и крепким рукопожатием:
– Вернулся? А чего такой трезвый?
Но потом Павел Сергеевич пошевелил своим благородным длинным носом и удовлетворенно кивнул:
– Пардон, ошибся… Кстати, пока полностью не проветришься – крутись здесь поменьше, шеф недавно начал очередной виток борьбы с пьянством. Между нами: у его супруги климакс начался, ее товарищ генерал раком поставить не может – вот и перешел на нас. А нам что – нас ебут, а мы крепчаем, собираем материал для диссертации по теме «Влияние половых отношений на служебные». Да ты садись, садись, как там Союз-то – помнишь хоть что-нибудь?
– Разве же такое забудешь? – принимая шутливую форму беседы, ответил вопросом на вопрос Обнорский. Балагурство Петрова его не подкупало и не расслабляло – Андрей был уже не сопливым практикантом, и кое-чему жизнь его научила. Бывало, что на голову уже бочка с говном летит, – а тот, кто ее запустил, все шуточки с прибауточками разбрасывает…
Но, похоже, в данном конкретном случае Петров никакого камня за пазухой не держал и сюрприза типа того, что, мол, с переводом в столицу ничего не вышло, не готовил. Референт закурил и перешел на деловой тон:
– Значит, с тобой вопрос решен, завтра шеф приказ подпишет, осталось нам разобраться, в какую группу тебя засунуть… У самого пожелания какие-нибудь есть?
Андрей кашлянул и пожал плечами:
– Может быть, не меняя профиль, – в ВВС? На место Новоселова уже назначили кого-нибудь?
Эта мысль пришла в голову спонтанно – он вовсе не рассчитывал, что референт начнет предлагать ему места на выбор. Попасть в ту группу, где работал Илья, было бы просто идеально, это сразу решило бы многие проблемы. Однако Петров, услышав фамилию Новоселова, досадливо сморщился, как от крайне неприятного воспоминания:
– Да, Илья… Натворил он делов, царствие ему небесное… Вы же вроде с ним друзья были – еще по Йемену? А?
– Да как сказать, Пал Сергеич, скорее, просто приятелями. – Инстинктивно Андрей почувствовал, что для успеха задуманного им дела афишировать истинное отношение к Новоселову не стоит. – Виделись с ним в последний раз весной восемьдесят шестого…
Референт испытующе посмотрел на Обнорского (Андрей этот взгляд выдержал), пожевал губами и сказал со вздохом:
– Боюсь, что в ВВС у тебя песня не сложится… После того как зам Главного по ВВС узнал о твоем решении сдристнуть с «Бенины», обиделся он на тебя очень сильно, кричал даже, руками размахивал… Генералы – они же как дети, ей-богу… Мы, конечно, его малость подуспокоили своими методами, он стих, как ветер в долине, но идти на «Майтигу» тебе все же не стоит – выберет момент и поднасрет. Тем более ты с Новоселовым приятельствовал… Савельева, между прочим, после этого самоубийства чуть было на родину досрочно не отправили – как это, мол, в его группе такая хуйня творится…
Заместителя главного военного специалиста по ВВС генерал-майора авиации Александра Антоновича Савельева Андрей видел всего дважды, но и этого хватило для определения крайней степени самодурства, которым природа и служба в Советской Армии наделили генерала. Если он действительно затаил зуб на Обнорского, совершившего через его голову маневр с переводом из Бенгази в Триполи, тогда Петров прав, делать на «Майтиге» нечего. Савельев найдет способ устроить Андрею «кудрявую жизнь с бубенчиками». Поэтому Обнорский тут же отработал назад:
– Пал Сергеич, да мне, если честно, до фонаря, в какой группе толмачить. Просто в Бенгази сидеть осточертело за два года – скучно, народу мало… Не то что у вас тут…
– Да, – согласился референт. – У нас тут, конечно, веселее. Просто карнавал какой-то… Ладно, пехотная школа тебя устроит? Там все хорошо, только шестерики[86] часто.
– Без проблем, – кивнул Обнорский. – Шестерики так шестерики. Лишь бы после работы не доставали. А так еще и лучше, когда пашешь – время быстрее летит.
– Насчет того, чтобы достать тебя после работы, это для твоего нового шефа будет проблематично. Вся группа пехотной школы живет в Гурджи[87], а ты поселишься у нас под боком. Так что видеться будете в основном на службе, а вся вторая половина дня – твое личное дело. Ну иногда, естественно, буду тебя к дежурству по Аппарату привлекать, сам понимаешь – это всех переводяг касается… Ну так как – по рукам?
– Естественно, Пал Сергеич, спасибо вам, – прижал по-арабски ладонь к сердцу Андрей.
– Да ерунда, сочтемся… – ответил референт. – Ты два года в Бенгази честно проишачил – надо тебе под дембель немного халявки подбросить.
Обнорский про себя усмехнулся – намечавшиеся шестерики были халявкой очень даже относительной, – но изобразил на лице глубокую благодарность «благодетелю». Петров между тем продолжал вводить Андрея в курс дела:
– Значит, переходишь ты у нас теперь из авиации в пехоту. Зам Главного по сухопутным войскам – генерал-майор Кипарисов, он будет как бы твоим старшим начальником[88]. Между нами – гандон редкостный, жаден до безобразия, поорать любит… В последнее время, правда, стал потише – тут кое-какие его делишки всплыли: он, падла, несколько квартир в советском городке в Гурджи арабам передал – якобы по ошибке… У нас семейных селить некуда, думают уже в одну квартиру по две семьи впихивать, а он – ошибся… Рассеянный такой генерал. А в Джамахирии, как ты знаешь, закон: если ливийская семья успела вселиться в квартиру, никто не имеет права ее оттуда выселить. Смекаешь? Квартиры-то комфортабельные.
Андрей понимающе кивнул:
– «Вместо чая утром рано выпил водки два стакана. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной…»
Референт заржал и одобрительно кивнул Обнорскому:
– Хорошая хохмочка, надо будет шефа повеселить… С Кипарисом тебе реально сталкиваться вообще, скорее всего, не придется. А в пехотной школе старшим группы у тебя будет товарищ полковник Сектрис.
– Как-как? – переспросил Андрей, думая, что не расслышал фамилию.
– Сектрис, по кличке Биссектрис, – засмеялся Петров.
– Это какой же он национальности? – удивился Обнорский – фамилия полковника была, что называется, редкой.
Референт поскреб за ухом и задумчиво посмотрел в потолок:
– По национальности он чистокровный хабир с легкой примесью мудаковатости. Но дедушка, в принципе, тихий и добрый – его сюда перед пенсией отправили, чтоб подзаработал немного. Ребята на него не жалуются, они его с самого начала запугали всякими шпионскими страстями, так что полковник практически ручной, никуда не лезет, никого не трогает. Я думаю, вы поладите… О'кей?
Петров поднялся из-за стола, показывая, что аудиенция окончена. Встал, естественно, и Андрей, но перед уходом попросил референта помочь побыстрее решить вопрос с его размещением:
– Пал Сергеич, меня пока в транзитник засунули – говорят, приказа на перевод еще не было… Вы бы посодействовали, а? А то там тоска, даже вещи ни развесить, ни разложить.
– Нет проблем, – кивнул Петров и набрал по внутреннему телефону двузначный номер. – Алло, Игорь Николаевич? Петров беспокоит… Да, спасибо, все путем. У меня просьба небольшая – к нам в Триполи из Бенгази шеф решил паренька одного перевести… Да, переводчик… Ах, знаете уже? Ну так похлопотали бы перед супругой, чтобы она его из клоповника в нормальный номер подняла… Да вопрос-то уже решенный… А?.. Ну конечно, свои же люди, ясное дело – сочтемся… Все, спасибо.
Петров положил трубку и подмигнул Обнорскому:
– Все, можешь идти прямо сейчас переселяться, старший администратор гостиницы Алла Генриховна – жена нашего начфина. Не сталкивался еще?
– Да нет, вроде не приходилось, – пожал плечами Обнорский.
– Придется – держись ближе к стеночке, чтоб не раздавила.
Она баба энергичная, как самосвал, конь с яйцами, а не баба. Мужиков по гостинице как мышей гоняет – дисциплину держит не хуже ротного старшины. Так что – потише там, без особых загулов. Я думаю, тебя на седьмой этаж определят – к Вихренко и Выродину, у них как раз одна комната свободна. Все – устраивайся, обживайся, завтра днем представим тебя Сектрису с Кипарисовым, послезавтра – на службу… Баги?[89]
– Хадир, йасиди мукаддам![90] – щелкнул каблуками Обнорский и пошел обратно в гостиницу.
Номера для постоянно проживающих в Триполи холостяков из контингента специалистов и переводчиков представляли собой на самом деле отдельные четырехкомнатные квартиры – в трех комнатах жило по одному человеку, а четвертая – холл – была общей. В блоке была отдельная кухня с холодильником, ванная и прихожая. В общем, по сравнению с йеменской казармой условия казались просто райскими: полы покрывали паласы, в комнатах стояла слегка обшарпанная, но вполне комфортная мебель – кровати, шкафы, кресла, тумбочки. В общем, все, что нужно, чтобы, как говорил Абдулла из кинофильма «Белое солнце пустыни», спокойно встретить старость. Правда, басмач из советского вестерна упоминал, кроме «хорошего дома», еще и «хорошую жену», но тут уж, как говорится, кому как повезло в жизни…
Супруга начфина полковника Веденеева Алла Генриховна и впрямь оказалась женщиной знойной, налитой, лет сорока пяти, не больше. Ростом она переплюнула своего мужа, и разного женского богатства у Аллы Генриховны было хоть отбавляй. Впервые увидевший ее Обнорский подивился, как не трескается у нее на крупе юбка и почему не отлетают пуговицы от блузки. Резкий контраст с рвущимися на сексуальную свободу частями тела представляло лицо Веденеевой – оно было строгим, официальным и холодным; Андрей даже слегка оробел под ее пристальным серьезным взглядом, чему сам удивился.
Алла Генриховна, видимо, уже успела получить указания от мужа насчет Обнорского, потому что без долгих разговоров определила его действительно на седьмой этаж в квартиру, где жили лейтенант Кирилл Выродин, работавший переводчиком на «Майтиге», и старший лейтенант Сергей Вихренко (тот самый, который провожал Андрея в Шереметьево-2), приписанный к группе специалистов ПВО.
Поскольку Вихренко находился в отпуске в Союзе, а Кирилл где-то шлялся, переселяться в выделенную ему комнату Обнорскому пришлось самостоятельно. Комната, доставшаяся Андрею, оказалась чистой, светлой и уютной, пожалуй, она была самым комфортабельным жилищем за все годы мыканий Обнорского по казармам, гостиницам, офицерским общагам и съемным комнатам. Андрей быстро разложил свои вещи, посмотрел на часы и заторопился – время подходило к семи вечера, через час ему надо быть у виллы Аэрофлота. Обнорский, подумав, почистил еще раз зубы, выпил найденную в холодильнике на кухне бутылку пепси-колы, побрызгался одеколоном и отправился на улицу ловить такси.
В принципе, в Ливии, так же как и в Йемене, советским офицерам запрещалось выходить в город поодиночке, нужно было собрать группу не менее трех человек и записаться в журнал дежурного по Аппарату. Но все, естественно, клали с прибором на это правило. Однако на всякий случай Андрей решил не наглеть с первого же дня на новом месте и не стал ловить такси прямо перед гостиницей, он отошел пару кварталов в сторону Тарик аль-Матара[91] и только там начал голосовать.
Вилла Аэрофлота располагалась действительно совсем недалеко от советского посольства – сразу за морским портом, в квартале Мадинат аль-Хадаик[92].
Таксист вез Обнорского через вечерний Триполи и что-то бубнил себе под нос о растущих ценах и «разных тунисцах, которые скупают все товары», но Андрей его не слушал. Он смотрел на огни шумного города и думал о Лене. Неужели их встреча в самолете была на самом деле? Обнорский даже поежился – раньше он думал, что такие удивительные совпадения бывают только в кино. Но не привиделась же ему стюардесса с пьяных глаз? Или все-таки привиделась?
Когда машина проезжала уже мимо Зеленой площади[93], именуемой советскими специалистами по-простому Зеленкой, Андрей задергался, его начали мучить неуверенность и полное отсутствие всякого представления о том, как строить предстоящий разговор с Леной – что ей рассказывать, о чем молчать. Если она ему, конечно, все-таки не пригрезилась.
Сомнения Обнорского относительно того, была ли Лена миражем, разрешились довольно быстро. Не доехав до виллы Аэрофлота метров сто, Андрей расплатился с таксистом и торопливо выбрался из машины. До восьми еще было минут десять, Обнорский закурил и, заставляя себя идти медленно, направился к двухэтажной вилле. Еще издали он увидел женщину, стоявшую перед воротами. У Андрея перехватило дыхание, и он подавился сигаретным дымом, – это была Лена, она вышла его встречать, сменив униформу на расклешенную джинсовую юбку и свободный серо-голубой хлопковый свитер. В этом наряде она показалась Обнорскому еще прекраснее, чем в стюардессовской спецодежде. Его ноги внезапно стали ватными, и он еле преодолел разделявшие их метры.
– Лена… Я… – Андрей запутался, не зная, что говорить дальше, вспомнил вдруг, что у него в руке недокуренная сигарета, и с жадностью затянулся.
– Здравствуй, Андрюша. – Ее громадные глаза смотрели на него с таким выражением, что у Обнорского начала кружиться голова.
– Здравствуй, Лена. Мы… как? Куда…
Он снова запнулся, она не дала ему договорить, взяла за руку и повела за собой на виллу.
На первом этаже особняка располагался аэрофлотский офис, который был уже закрыт. Над офисом было несколько жилых комнат, в них отдыхали члены экипажей советских самолетов, у которых в Триполи проходили пересменки, – в город самолет прилетал с одним экипажем, а возвращался с другим, оставшиеся в ливийской столице ждали очередного советского борта либо в Москву, либо в другие страны и города Африки. Экипаж мог задержаться в Триполи от трех дней по полутора недель – в зависимости от направления дальнейшего полета.
Лена, не отпуская горячей руки Обнорского, провела его по лестнице на второй этаж – вилла казалась тихой и абсолютно безлюдной, видимо, остальные члены экипажа либо уже спали, либо, что было более вероятно, отправились гулять по вечернему городу.
Они зашли в небольшую комнату, где Андрей снова начал мычать что-то невнятное, не зная, куда деть руки. Лена еле заметно улыбнулась и приложила указательный палец к его губам. Обнорский замер. Она приблизила к нему свое лицо так, что он начал тонуть в ее глазах, и спросила шепотом:
– Скажи мне… Тогда, в Адене, в сентябре… Это был ты?
Андрей с усилием сглотнул вставший в горле ком, глубоко вздохнул и кивнул:
– Я… Понимаешь, я тебе сейчас все объясню…
Она снова не дала ему договорить, только на этот раз рот Обнорскому закрыл не палец, а ее губы – мягкие, влажные, какие-то необыкновенно вкусные. Обнорский обомлел и понял, что его целуют, лишь тогда, когда язык Лены раздвинул ему зубы, а ее руки охватили его шею, – только после этого он прижал Лену к себе и почувствовал, как она дрожит…
Их поцелуй был долгим и нежным, точнее, это был не один поцелуй, а великое множество – Андрей и Лена, казалось, просто боялись разомкнуть губы и пили, пили, пили друг друга…
Постепенно Обнорский начал поглаживать ее грудь под свитером – Лена не сопротивлялась, не била его по рукам, наоборот, она стала отвечать на его поцелуи еще более страстно, а потом сама начала расстегивать пуговицы на рубашке Обнорского… До кровати они дойти не успели… как только Лена осталась в одних туфлях, Андрей вошел в нее прямо посреди комнаты, не чувствуя, как скользят по его бедрам на пол брюки… Он вообще перестал что-либо ощущать, кроме влажной теплоты внутри ее тела. Он словно вылетел за грань времени и пространства…
Спотыкаясь и путаясь в разбросанной на полу одежде, они, так и не размыкая объятий, добрели наконец до узкой кровати и упали на нее… Перед глазами Обнорского плыли какие-то звездочки и круги, откуда-то из подсознания выплыла фраза «небо в алмазах», смысла которой он раньше не понимал…
Чуть отдышавшись, они начали благодарить друг друга поцелуями, губы Лены перешли на его грудь, потом на живот, а потом «небо в алмазах» снова обрушилось на Андрея…
Они лежали абсолютно неподвижно, мокрые от пота и обессиленные. Но в этой обессиленности не было опустошенности – наоборот, они словно заряжали друг друга энергией и жаждой жизни. Окна комнаты, в которой они лежали, выходили в сад, там в теплой темноте еле слышно шелестели, словно переговаривались между собой, бугенвиллеи, агавы, пальмы и апельсиновые деревья. Сказочно хорошо было Обнорскому, пожалуй, ему никогда еще не доводилось так «уехать» с женщиной, и тем более с женщиной, которую он еще не успел толком узнать и изучить.
Внезапно Андрей нахмурился: ему вдруг подумалось, что вот он балдеет в жаркой постели с прекрасной, удивительной, до одури желанной женщиной, а Илья лежит один в холодной земле на Домодедовском кладбище… Обнорский закусил губу и потянулся за сигаретами к валявшейся на полу рубашке.
Закурив, он отошел к приоткрытому окну и оглянулся – Лена разметалась на кровати поверх простыней, ни капли не стесняясь своей наготы, и пристально смотрела на Андрея. Он кашлянул и, снова отвернувшись к окну, глухо сказал:
– Тогда, в Адене… Понимаешь, мы не могли…
Легко встав с кровати и подойдя к Обнорскому, Лена вынула у него из руки сигарету и затянулась. Положив голову ему на плечо, она вздохнула и прошептала:
– Не объясняй ничего. Я потом все поняла… У вас было специальное задание?
Андрей осторожно пожал плечами и погладил ладонью ее волосы:
– Можно, наверное, сказать и так… Хорошо, что мы на вас тогда натолкнулись…
– Судьба, наверное, – кивнула Лена. – Там, на этой площади, все так быстро случилось, что я даже испугаться толком не успела… А второй парень, который с тобой тогда был, он тоже – наш?
– Был наш, – вздохнул Обнорский. – Назрулло его звали, он в Йемен из Душанбе приехал, как и я, – на стажировку… Убили его в тот же день, вечером… Мы на засаду нарвались, он меня успел на землю толкнуть, а сам… Хорошо хоть, не мучился – пуля ему точно между глаз вошла…
Андрей почувствовал, как Лена начала мелко дрожать – то ли от прохладного ночного воздуха, вливавшегося из приоткрытого окна в комнату, то ли от воспоминаний…
– Слушай, – спросил Андрей, – с тобой тогда еще одна девушка была, кажется, ее Тамарой звали… Как она?
– Уволилась из авиаотряда, как только добрались до Москвы. Долго в клинике неврозов лежала… Сейчас замужем, сынишке два года… Мы редко перезваниваемся…
Обнорский кашлянул и искоса глянул в полузакрытые глаза Лены:
– А ты… Ты не замужем? Я ведь даже фамилии твоей не знаю…
Она улыбнулась и подняла голову с его плеча.
– Ратникова моя фамилия. Насчет мужа… – Она немного запнулась, но быстро продолжила: – Я не замужем.
– Официально или по жизни? – Обнорский, естественно, заметил ее заминку и с удивлением ощутил легкий укол ревности. Для него это было нехарактерно – и Виола, и разные его любовницы просто бесились от того, что Андрей ни капли их не ревновал, они считали, что это показатель того, насколько ему было наплевать на них. Когда-то он, кажется, ревновал Машу… Но это было очень давно.
– В обоих смыслах, – ответила Лена и взглянула на Обнорского с легким прищуром. – А как твоя супруга поживает? Ее, кажется, Виолеттой зовут?