Три источника (сборник) Саканский Сергей
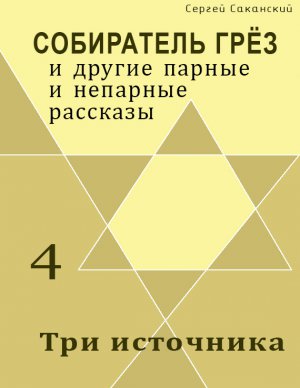
Пионеры
– А мы с дядей Женей в лес на машине поедем, будем в пионера играть.
– В пионеров?
– Нет, в пионера.
– Одного?
– Ну да. Я пионером буду.
– А дядя Женя кем будет?
– А дядя Женя фашистом будет.
Жирмудский очнулся тяжело, с болью. Речь о пионере и фашисте явно была каким-то еще не просохшим остатком сна. Жирмудский лежал под некой крышей – низкой, дырявой, гадкой: ржавый лист железа, обрывки полиэтиленовой пленки, чьи-то седые сальные волосы… Нет, это просто мокрые клочья белого мха: старуха-процентщица тут не при чем… И жалкие хлопья похмельных сновидений.
Откуда он здесь? Почему всё у него болит? Долго он тут пролежал?
Это было только начало большого вопросника, чьи полупрозрачные листы также болтались перед глазами.
Утро сейчас или вечер? С кем он вчера пил? Или сегодня? Что он пил, что ему такого сыпанули в стакан, если он ничего не помнит? Или это водка опять оказалась фальшивой? Ведь кому он нужен, чтобы тратить на него какие-то специальные вещества? Что с него взять – с нищего поэта-песенника? Разве что, только – player?
И Жирмудский вспомнил. Вовсе он ничего не пил, а просто шел весенним лесом и сочинял песню… Шел, с ловкостью фокусника меняя кассеты, и вдруг очнулся здесь, в какой-то сомнительной…
Жирмудский повернул голову круговым движением, как бы выполняя фигуру утренней гимнастики, и медленной панорамой запечатлел умопомрачительный интерьер.
– Сегодня ты умрешь! – вдруг явственно прозвучал чей-то надтреснутый голос, и не успел он с шипением стихнуть, как Жирмудский понял, что это был всего лишь его жалкий похмельный шептун.
Он лежал в хижине. Пол был земляной, стены – из тонких еловых жердей: молодые елки, уложенные горизонтально, и щели, неплотно забитые мхом… И в этих щелях, в отдалении, двигалось что-то живое.
Крыша состояла из ржавых складчатых листов железа, фанеры и полиэтилена, взрослый человек вряд ли смог бы встать тут во весь рост, впрочем, как и вытянуться в длину: Жирмудский лежал по диагонали хижины, головой и ногами упираясь в ее углы… Углов, в сущности, не было: не углы, а живые стволы сосен – хижина представляла собой неправильный четырехугольник, основанный на растущих деревьях…
– А какая у дяди Жени машина?
– Запорожец. Последняя модель. Дядя Женя будет меня на камеру снимать.
– То-то и оно. Ты думаешь, что дядя Женя будет с тобой в пионера играть, на самом деле он…
Жирмудский и вправду слышал эти голоса.
– …на самом деле он будет тебя на камеру снимать, а потом тебя в рекламе покажут.
Жирмудский и вправду лежал в пионерской хижине, построенной детьми в лесу, и эти дети возились снаружи у костра, как бы собираясь изжарить его на обед. Они добыли его, ранили, связали и приволокли в хижину…
– Дядя Женя бабки срубит, а тебе хуй отвалит.
– Отвалит, братишка, будь спок. А нет, так я пацанам скажу, и ему паяльник в жопу поставят.
Нет, Жирмудский не был связан. Наверное, он сам и заполз сюда, как черепашонок, спасаясь от чего-то страшного. Всё его тело болело, значит, опять били сегодня. Покалывало сердце, чего раньше с ним никогда не случалось. Он был в одной рубашке, значит – раздели его. Сняли куртку и свитер, вязанный зеленый свитер, память о жене, ее внимательных белых руках… Сняли ботинки: Жирмудский пошевелил пальцами в дырявых носках, почувствовал острую боль в левой голени, но не придал этому значения… Отобрали player…
Господи! Player, в котором была рыба… Жирмудский вдруг осознал всю глубину постигшего его несчастья.
Теперь-то он уж точно не сможет дописать песню к завтрашнему дню. Более того: он никогда не напишет эту песню. Эту мучительную песню о любви и разлуке, о звездах…
Он представил лицо лидера рок-группы, случайного музыканта, который творил с трудом, заказывал ему песню не чаще, чем раз в квартал, платил за нее не больше сотни, торговался, задерживал выплаты, снижал гонорар, если ему в голову приходила идея изменить что-то в словах, Жирмудским с таким трудом придуманных…
И вот, скажет, шмыгая носом и утирая нос рукавом:
– Не нуждаемся мы, сударь, больше в ваших песнях.
И пойдет Жирмудский, пойдет лесом, дивными солнечными тропами, петляющими вправо-влево, вверх-вниз, через лесные овраги, где матовым серебром светятся ручьи и звенят крупные комары, серые и длинноногие, словно менты… Пойдет в монастырь, и там наконец попросит убежища, но хрен возьмут его монахи, им тоже надо бабки за вход давать…
– Слушай, а тут мужик какой-то. Лежит.
– Мертвый?
– Не знаю. Дышит.
– Значит, бухой.
Жирмудский сфокусировал зрение. Теперь пионеры припали глазами к щелям между жердей и смотрели на него, хлопая этими своими глазами в щелях: один – карими, другой – голубыми.
– Может быть, бомж?
– Тогда давай замочим его.
– А если не бомж?
– Что ж тогда он здесь лежит, если не бомж?
Нет, этому надо положить конец. Жирмудский приподнял голову и поставил ее на локоть, поглядев на детей угрюмо и пристально, словно удав.
– А ну, кыш отсюда, пионеры! – злобным, как ему казалось, уголовным голосом произнес он, но никто не двинулся с места.
– Пионеры, дядечка, давно были, – сказал один.
– А теперь никаких пионеров нет, – подтвердил другой.
Жирмудский приподнялся на четвереньки. Закололо сердце, опять стрельнуло в ногу, он не обратил внимания… Сейчас вся его ненависть была сконцентрирована против этих существ. Племя младое, незнакомое…
– Вот, выйду и покажу вам, как это пионеров нет, – сказал Жирмудский.
В узком месте четырехугольника, меж двух стволов была дыра, ведущая наружу. Жирмудский прополз через эту дыру и оказался в лесу. Пока он полз, пионеры лениво отбежали на несколько шагов и остановились. Жирмудского заела злоба, что они совсем не боятся его.
– Не парься, мужик, – сказал один.
– Расслабься, – поддакнул другой.
– Вот, я сейчас встану и покажу вам не парься и расслабься, – взвизгнул Жирмудский, испытав жгучую обиду за русский язык.
Он и вправду попытался встать, но вдруг резкая боль пронзила левую ногу снизу доверху, взорвалась в колене и ринулась обратно, к стопе… Жирмудский повалился на землю, чуть не угодив в вяло дымящий костер.
Пионеры, кинувшись было наутек, вновь остановились у ствола сосны, исподлобья глядя на него.
Жирмудский тяжело дышал, капля пота проехала по лбу. Сломана нога, вот что. И в такой ситуации надо помощи у пионеров просить, а не ругаться с ними. Пусть как-нибудь до дома доведут.
– Короче, ребята! – бодрым голосом начал он, но вдруг кашлянул от дыма. – Застрял я тут. Мне б палку какую-нибудь сломать, до дома добраться…
Пионеры переглянулись. Молчание длилось.
– Я говорю, – каким-то неожиданно тонким, неприятным голосом повторил Жирмудский, – мне бы палку какую-нибудь.
– Палку, слышь, хочет? Палку ему…
– Палку ты жене своей будешь кидать. В жопу.
И Жирмудский понял, что сейчас с ним будет, а будет нечто такое, чего никогда раньше не было, нечто такое, о чем тот, с кем это происходит, никогда уже не сможет рассказать другим.
Один из пионеров, тот, что был покрупнее, нагнулся и подобрал что-то с земли. Это и вправду оказалась палка, вернее – длинная узкая жердь.
Как же так? Ведь была, работала защита… И Жирмудский, словно Колобок, катился по этой жизни, легко ускользая от врагов. Он был твердо уверен, что до тех пор, пока он не выполнит свое высокое предназначение, не напишет отпущенное ему количество строчек, с ним ничего такого не произойдет.
Что же это получается? Выходит, что он уже всё написал, и вездесущий Собиратель Стихов готов выбросить его, словно отработанный материал, словно горелый шлак, словно говняную бумажку.
Пионер, тот что покрупнее, приблизился и осторожно потыкал Жирмудского жердью. Оглянулся на своего товарища, широко улыбаясь.
– Ты понял? Он встать не может.
– Наш! – радостно воскликнул маленький пионер.
Он недолго поискал на поляне и тоже вооружился. Это был сухой ствол елки, целое маленькое деревце, с корнем. Именно этим корнем и получил Жирмудский первый удар по голове. Он заслонился локтем и тут же почувствовал болезненный тычок в подмышку, жердью.
– Ребята, вы чего? – глупо спросил он, слыша в своем голосе мерзкие заискивающие нотки.
– Зачистка, – объявил крупный пионер.
– Мы это… От ублюдков нашу русскую землю чистим, – поддакнул мелкий.
И тут же серия ударов обрушилась на него. Жирмудский то защищался, то цеплялся за орудия, превозмогая боль. Всё замелькало, словно понесло кинопленку, и в звуках также заскрежетала зловещая тарабарщина… Наконец, ему удалось ухватить обеими руками и елку, и жердь. Жирмудский был гораздо сильнее этих детей, и он смог утянуть к себе орудия своего убийства. Теперь он сидел, подмяв под себя жердь и размахивая над головой елкой с корнем. Не смогут подойти.
– Ничего, – сказал крупный пионер. – Давай его кирпичами забросаем.
На земле, вокруг костра валялось несколько кирпичных половинок, принесенных сюда для жаровни. Крупный пионер подобрал одну и, покачав в воздухе, оценив, значит, массу, перекинул с ладони на ладонь. Его пальцы сразу сделались черными от сажи.
– Надо точно в голову попасть, – заметил мелкий.
– Ничего, мы потренируемся сейчас.
Крупный отошел на несколько шагов и метнул кирпич в ствол сосны. Промазал, и кирпич улетел прочь, покатился, шелестя, по траве.
– Вот видишь? – укорил его мелкий и быстро засеменил за кирпичом: было ясно, что ему нравится шестерить перед другом.
– Давай ближе подойдем. Как в картошку играть, – сказал крупный.
– Точно! А картошка – это вот он будет, урод.
– Не подходи! – взвизгнул Жирмудский.
– Ага, послушались, – беззлобно сказал мелкий.
Пионеры, каждый с двумя кирпичами в руках, остановились ровно у того рубежа, куда Жирмудский мог достать своей елкой с корнем. Он крутил елку над головой, холодея от ужаса. Корень описывал в дымном пространстве косматый круг диаметром метра три, и сразу у его края стояли пионеры.
– Можно еще чуть-чуть, – заметил крупный.
Они переместились на полшага ближе. Похоже, им доставляло большое удовольствие так рисковать: теперь корень проносился в нескольких сантиметрах от их лиц.
– Не достанешь, не достанешь! – пропел мелкий пионер и широко размахнулся кирпичом.
– Стой! – приказал крупный. – Так не пойдет. Надо с разных сторон зайти. И разом ударить. Как в картошку.
Мелкий зашел Жирмудскому в тыл. Жирмудский перестал махать елкой, засунул ее под себя. Он бешено вертел головой, чувствуя, что его голова трясется от предсмертного ужаса.
– Смотри как дрейфит, сикун! – сказал крупный. – Счас обоссытся еще.
– И обосрется, ништяк! – поддакнул мелкий.
– Не делайте этого! – залепетал Жирмудский, лихорадочно соображая, какой тут может быть аргумент.
Никакого не было. Кирпичи. Один в затылок, другой в лоб, третий…
– Я поэт! – вдруг нашелся Жирмудский. – Вы не должны этого делать. Я песни пишу.
– Чего? – протянул мелкий.
– Я очень нужен людям. России самой, земле русской. Если вы меня убьете, то и песен не будет.
– Каких еще песен? – спросил мелкий, и голос его был серьезным.
– Про эту, как ее… – залепетал Жирмудский. – Про любовь.
– Ага, понятно. Это как ты жену в жопу ебешь.
– Да как вы смеете! Моя жена умерла.
– А ты что – правда ее в жопу ебал, – поинтересовался мелкий.
– Заебал он ее просто до смерти, – сказал крупный и засмеялся своей доброй шутке.
Жирмудский понял, что плачет. Щеки тянуло вытереть, но он боялся, что как только он опустит руки, так они сразу и кинут оба. А руки свои он держал над головой, чтобы попытаться отбить кирпич.
– А ну, бля! А ну, что это тут? А ну-ка, бросить кирпичи, быстро!
Это был чей-то звонкий голос: ни Жирмудский, ни пионеры не заметили, как на поляну вышла женщина.
– Тетенька, мы играем! – заканючил большой пионер.
– Честное слово! – подтвердил маленький. – Вот вам крест! – и он поднес кирпич ко лбу, собираясь перекреститься, но, увидев, что в руке кирпич, передумал и бросил кирпич на землю.
– И ты брось, дурак! – сказала женщина. – И валите отсюда, пока я милицию не позвала.
– Да какую милицию, – пробурчал крупный пионер. – Нет никакой милиции.
Неужели, знают? – с опаской подумал Жирмудский. – Неужели и они тоже доперли, жалкими мозгами, что милиции больше нет?
Впрочем, пионер был не совсем уверен в своем утверждении. Он нехотя отшвырнул кирпич.
– Пойдем, Святик, – сказал он другу. – Это крезанутая пизда.
– Что? – взревела женщина? – А ну, повтори, сопляк несчастный!
– Пизда, пизда! Ссаная дыра! – с визгливой обидой наперебой прокричали пионеры, впрочем, уже пятясь от наступающей на них маленькой женщины.
Маленькой она, конечно, казалась Жирмудскому, а пионера, даже крупного, была выше на голову. Женщина топнула ногой. Пионеры сорвались с места, как испуганные воробьи. Через несколько секунд их и след простыл. Только бурчание грязных ругательств, смысл которых они знали пока лишь понаслышке, донеслось из кустов, откуда вдруг разом вылетело несколько серых птиц.
Жирмудский шумно выдохнул воздух, опустил плечи, как бы сдувшись. Ему стало стыдно, что он плачет. Женщина подошла к нему вплотную, закинув белую сумочку на плечо.
– Я и сама сначала подумала, что тут какая-то игра, – сказала она, ладошкой разгоняя уже едва вьющийся дым костра. – Специально смотрела из-за дерева. Хотела даже мимо уйти.
В фоновом режиме, несмотря на только что пережитый стресс – вот ведь подлец-человек – Жирмудский отметил, что она довольно мила: почти пенсионного возраста, но хорошо сохранилась, и вообще, ему такой тип нравился…
– Простите, – зачем-то извинился Жирмудский.
– За что? За то, что на работу опоздала, и теперь уж совсем не пойду?
Женщина смерила его оценивающим взглядом, прямо посмотрев ему в глаза. Если бы не ужас ситуации, Жирмудский мог бы поклясться, что с этого взгляда между ними начинается роман.
Впрочем, он не ошибся. Женщина доволокла его до опушки, они постоянно соприкасались, он чувствовал упругость и жар ее тела, и то же самое, как потом выяснилось, в эти минуты чувствовала и думала она. На аллее, ведущей вдоль края леса, прогуливался важный человек с собакой, у него был мобильный телефон, и он вызвал «скорую». Перелом оказался растяжением, ногу Жирмудского перетянули, вкололи обезболивающее, и через час он уже уютно обедал на квартире Валечки, а ночью, когда всё было кончено, они лежали рядышком, уже отдышавшись и покурив. И нога почти совсем не болела.






