Из Рима в Иерусалим. Сочинения графа Николая Адлерберга Адлерберг Николай
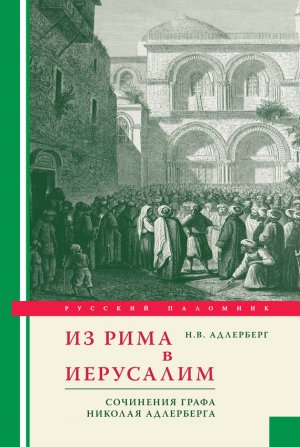
© Издательство «Индрик», 2008
© Е. Румановская, 2008
Предисловие
Так решился я назвать заметки на пути моем от начала до главной его цели. Эти беззаветные строки были написаны мною без претензии на литературную известность, без всякого авторского тщеславия, единственно для освежения в памяти того, что я видел, и притом в то время, когда писались они, я не имел и мысли пустить их когда-нибудь в свет. Между тем некоторые снисходительные приятели, прочитав, одобрили этот рассказ о моем странствовании и уговорили меня напечатать мои впечатления, которые имеют лишь одно достоинство: они чужды всяких вымышленных прикрас. По-моему лучше многое даже не досказать, нежели пустыми, ложными добавлениями искажать истину.
Очерки путешествий не должны быть [ни] плодом фантазии, ни вымышленной болтовней. Глубокие, ученые исследования принадлежат историческим сочинениям, а потому здесь они столь же неуместны, как философские и политические рассуждения. Путевые заметки должны быть зеркалом того, что действительно было в путешествии, ибо путешествие не сказка, а быль.
Д. С.
Глава I
РИМ – КАТОЛИЧЕСКАЯ ПАСХА В РИМЕ – БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПАПЫ – ОТЪЕЗД – АНКОНА – ПАРОХОД «ЛОДОВИКО» – АНЕКДОТ НА МОРЕ – КОРФУ – ПАТРАС – ИНТЕРЕСНАЯ НЕЗНАКОМКА – ВОСТИЦА – ЛУТРАКИ – КАЛАМАКИ – ПИРЕЙ – ПРИЕЗД В АФИНЫ
Проведя зиму 1845 г. в Италии, в марте я спешил из Неаполя на несколько дней в Рим к празднованию католической Пасхи.
Рим мне уже прежде был знаком, а потому, при этом новом посещении, я не заботился осматривать все его достопримечательности, но имел в виду лишь одно – провести в столице Церковной Области святые для всякого христианина дни и получить верное понятие о всех обрядах и о препровождении жителями вечного города времени на страстной неделе и в великолепно празднуемый день светлого Христова Воскресения. Между тем, желая встретить нашу православную Пасху там, где она получила свое святое начало, я предполагал, оставив 17/29 марта Рим, поспешить в Анкону, а оттуда морем предпринять дальнейшее путешествие к святым местам.
Я коснулся Рима лишь мимоходом, как основания, или исходного пункта моего рассказа, но не стану описывать всех обрядов римского богослужения в последовательном порядке: это давно уже сделано пером более опытным и красноречивым. А. Н. М. в 1846 г. подарил нашу духовную литературу своими «Римскими Письмами», изложив в них так же занимательно и поучительно свои впечатления, как верно и подробно переданы им описания замечательных церковных обрядов и богослужения, совершаемого Папою в первый день Пасхи.
Посланник наш в Риме пригласил меня присутствовать на пасхальной литургии. При покровительстве г. Титова я получил место в алтаре главного придела и таким образом был свидетелем всех подробностей церемонии, совершавшейся у меня перед глазами. Но – здесь я должен сознаться – церемония эта показалась мне не столько благоговейной и искренней, сколько великолепной и пышной. Пение и молитвы пролетали мимо ушей моих без отголоска в сердце. Если вас интересует весь ход этого празднества, прочтите в «Римских Письмах» систематическое его описание: там все изложено и беспристрастно и верно; а я перейду к тому, что меня наиболее тронуло и поразило – к тому величественному зрелищу, когда царственный первосвященник, с балкона исполинского храма св. Петра, в минуту всеобщего молчания, осеняет крестным знамением коленопреклоненную толпу народа, и когда эта толпа мгновенно, единодушно отвечает ему громовым, торжественным приветствием.
В то время тиара церковного владычества лежала еще на главе Папы Григория XVI. Убеленный сединами первосвященник доживал последние годы своей жизни. Глубокая, ничем невозмутимая старость его вселяла к себе доверие и почтительную любовь.
Рим, в котором и без того много собственных коренных жителей, был еще вдобавок, как говорится, битком набит съехавшимися туда на Пасху путешественниками со всех концов Европы.
Над древним городом взошел один из тех прелестных весенних дней, в которые южное солнце так ясно светит и так отрадно оживляет всю природу и согревает все чувства.
Уже с самого раннего утра все улицы кипели экипажами и толпами пешеходов; все, что только могло двигаться, стремилось по одному направленно: все бежали на площадь Св. Петра. Толпа шумными потоками стекалась со всех точек обширного города к общему центру движения и торжества.
По окончании литургии Папа воссел на подвижной трон. Свита, состоявшая из высших сановников духовенства, кардиналов и монсиньоров, сопровождала его в торжественном шествии. К трону приклеплены были роскошные носилки, на которых толпа низших служителей вознесла своего властелина, по высокой лестнице, на средний балкон храма. Народ и все присутствовавшие ожидали наместника св. Петра в благоговейном безмолвии. Лишь только он показался на балконе, все пало ниц и еще более стихло. Прошло несколько минут невыразимой, мертвой тишины. Лучезарное солнце пылало, спокойствие воздуха было необыкновенное; казалось, сама природа сообразовалась с благоговейным ожиданием народа – самой торжественной минутой этого дня. До восьмидесяти тысяч поникших голов в смирении, на коленях, испрашивало себе осенения крестным знамением от руки верховного главы католического христианства.
Лишь только Папа, воздев руки к небу, начал благословение, мгновенно неумолчный звон всех колоколов Рима, звуки громкой военной музыки, гром пушечной пальбы, громогласные рукоплескания и радостные клики толпы загремели единодушным приветствием от лица всего народа в ответ первосвященнику за благословение во имя Божие.
Все слилось в один торжественный, потрясающий душу вопль. Мало того, что эта картина действительно великолепна, – она вместе с тем и умилительна: невольно, но глубоко затрагивает она сердце каждого и поражает его священным, благоговейным трепетом.
Двадцать девятого марта, мы[1] оставили Рим. Итальянский веттурино, нечто в роде наших извощиков надолгих, взялся доставить нас в Анкону на третьи сутки. Переезд этот мы совершили удобно и без хлопот. На другой день нашего приезда австрийский пароход «Архидука Лодовико» отходил из Анконы в Грецию. Мы поспешно занялись всеми окончательными приготовлениями, сделали надлежащие распоряжения относительно писем, которые могли быть присланы на наше имя в Анкону и, отправив экипаж со всеми почти вещами морем в Триест, а оттуда в Вену, сами на другой день с легким дорожным багажом взошли на пароход, который, разводя пары, готовился поднять якорь.
В четыре часа пополудни мы отплыли. День был прекрасный. В числе пассажиров находилось несколько американцев, англичан и общество молодых венгерцев, предпринявших, подобно нам, путешествие на Восток. Но так как план их путешествия был расположен совершенно в обратном порядке, нежели наш, то мы доехали с ними только до Афин и потом нигде уже более не встречались.
Постоянными спутниками нашими были англичане, бывавшие в России. Они с восторгом вспоминали о южном береге Крыма и, распространившись о гостеприимстве русских, с особенной благодарностью отзывались о жителях Москвы.
Но что за народ эти англичане! Судя по наружности, они ездят только для удовольствия, а между тем какие дельные и какие обширные приобретают они познания о промышленных силах нашего отечества: они не только знают всю подноготную о великолепных мануфактурах Москвы и Московской и Владимирской губерний, но изучили все, чем только может быть грозна для них Россия в далеких странах Средней Азии. Они так искусно проникают во все тайны нашего коммерческого мира, что лучше самих нас, русских, умеют пользоваться обстоятельствами, клонящимися, казалось бы, только в одну нашу пользу. Говоря с вами гласно, например, о дорогах и провозных ценах, они вам по пальцам рассчитают во что обойдется в Хиве, Бухаре или Кабуле пуд такого-то сорта железа и во что обойдется аршин ситца или мезерицкого сукна, и, уверяя в лицо, что они обладатели всего Востока, вплоть до самого Инда, – сами между тем через Индию отправляют свои товары к Аральскому морю и, что всего лучше, продают киргизам свои ситцы гораздо дешевле нашего.
Я не завистлив от природы, но этому уменью проникать в сущность всего и из всего извлекать пользу поистине завидую. Русское сердце невольно заговорит там, где интересы русской национальной промышленности, а следовательно и народного благосостояния, сойдутся с интересами английских промышленников и купцов.
Поднявшийся к вечеру ветерок несколько встревожил поверхность моря. Каюты были так тесны и нечисты, что я готов был провести ночь лучше на палубе, чем в этом каземате, несмотря на то, что теплый день сменился необыкновенно холодной ночью. К утру море опять стихло; яркое солнышко, точно кружок расплавленного золота, горело над лазурной поверхностью воды. Было около восьми часов утра, когда мы проходили остров Лиссу. После полудня свежий попутный ветер снова разбудил спящую стихию. Мы подняли паруса и плыли по девяти с половиной узлов в час.
Солнце село в густых облаках, обещая нам на другой день бурную погоду. Действительно с самого утра подул противный ветер; час от часу он усиливал свои порывы; море значительно расколыхалось, но мы тем не менее дружно подавались вперед. На высоте Албании два парусные судна, в недальнем от нас расстоянии, также пробивались сквозь клокотавшие густые волны. К вечеру погода начала стихать. Наконец в семь часов пополудни мы бросили якорь у берегов Корфу, главного города республики Ионических Островов. Английское правительство давно уже покровительствует этой республике на общепринятых им основаниях…
Нас доставили в опрятную гостиницу, которую содержали, разумеется, англичане. За 2 шиллинга в день (80 коп. серебром) нам отвели маленькую комнатку, в которой едва можно было повернуться, но зато накормили хорошим ужином, напоили английским пивом и дали для отдыха покойные кровати. На другой день мы отслужили православный молебен в старинной греческой церкви, где на стенах видны еще изображенья российского двуглавого орла – остатки благодетельного нашего покровительства Корфу до заключения Тильзитского мира в 1807 г.
Корфу весьма живописно раскинулся по скату горы к морскому берегу; внутреннее расположение его не обращает на себя особенного внимания. Гостиница «Htel du Club» содержится прилично; магазинов вообще мало, да и те бедны. Главное богатство всего острова состоит в оливковом масле. Я слышал, что в предшествовавшем моему пребыванию году здешние жители продали его на 40 000 колонат. Город наполнен английскими войсками; вообще везде заметен порядок и признаки мирного благоденствия. Отправляясь на пароход, я встретил шедшие на смотр войска; выправка их довольно воинственна, но с гордостью сознаюсь, что это далеко не то, что наши русские солдаты: в них нет того грозного, молниеносного величия, которым каждого поражает русское войско, обладающее какой-то особенного рода пылкой, прямодушной энергий, насылающей на врага страх и трепет, и как бы громко свидетельствующей о привычке к бранным подвигам и победам.
В одиннадцать часов пополудни «Архидука Лодовико» приготовился к отплытию. Едва только мы снялись с якоря, как к пароходу подъехала небольшая лодка об одном гребце. В лодке сидел человек с чрезвычайно странной и исторгавшей улыбку физиономией. Это был приземистый толстяк с длинными, обстриженными в кружок и светлыми, точно лен, волосами, которые мохнатыми прядями распадались около его жирного лица с маленьким лбом, и с чертами, чрезвычайно живо напоминавшими барана. Этим бараньим обликом он выделывал разные штуки, а большим мутным, оловянным глазом своим силился придать грозное выражение. Приблизившись к полуподнятому трапу, он прискакнул, ухватился руками за нижнюю часть трапа и, цепляясь ногами и руками за что попало, мгновенно взлез на пароход. Как безумный бегал он по палубе, бормотал что-то непонятное на всех европейских языках и, между прочими несвязными речами, повторял несколько раз чистым великорусским наречием: «пошел работать!». Горячась более и более, он наконец пришел в исступление, вскочил, при ужасе находившихся на палубе женщин, на борт продолжавшего путь судна и, простояв несколько минут в этом положении, вдруг бросился с размаха в море и исчез в пене ярых волн. Сердце у каждого из нас облилось кровью, ужас овладел всеми присутствовавшими при этой страшной картине. Но спасти несчастного мы были не в силах; бывшие в состоянии это сделать только посмеивались, глядя на нас. Пароход полным ходом продолжал удаляться от берегов Корфу, оставляя за собою взволнованную седую борозду, которая, как влажная лента, змеей вилась за кормой судна.
Прошло около четверти часа; вдруг перед изумленными взорами пассажиров, собравшихся на палубе, неожиданно предстал все тот же отчаянный незнакомец, которого мы все считали погибшим. Промокший до костей, он тем же неистово сверкающим взором смотрел на всех и каждому протягивал шапку, прося милостыни. Обойдя всех и получив от пассажиров, в доказательство их сострадания, по нескольку мелких монет, этот чудак вздумал опять повторить свой прежний отважный salto mortale и снова бросился, как утка, в море. Мы опять потеряли его из виду и, уже спустя некоторое время, приметили его далеко позади нас. Он храбро боролся против напора громадных валов и плыл навстречу тому самому ялику, который сначала подвез его к нашему пароходу и который теперь, находясь в довольно далеком от пловца расстоянии, спешил на веслах, чтобы подоспеть к нему на помощь.
Некоторые из матросов считали его полоумным, другие утверждали, что он был не что иное, как здоровый бедняк, которому пришла в голову блажь пооригинальничать даже в попрошайстве, обратившемся у него в ремесло. В самом деле, это преоригинальный способ возбуждать чувствительность и располагать ее к милостыни. Здесь тунеядство искусно соединено с трудом и с бесстрашием. Но тем не менее грустно видеть человека, поставленного в необходимость питаться мирским подаяньем. Любопытно бы знать, какие нравственные причины довели его до такого самоунижения?
Около пятого часа пополудни подул свежий морской ветер, поднялась сильная качка, промучила нас целый вечер и только к ночи стала мало-помалу стихать. В это время мы, приближаясь к Патрасу, вошли в Коринфский залив и плыли мимо берегов поэтической и когда-то, очень давно, самой счастливой страны – страны настоящих аркадских пастушков и таковых же пастушек.
Между прочими пассажирами познакомился я с прусским посланником графом Бассие-де-Сен-Симон, который провел несколько лет в Афинах в качестве полномочного министра своего короля при греческом дворе; ныне же, получив назначение быть посланником в Швеции, [он] отправлялся в Афины, чтобы откланяться королю Оттону.
В пять часов утра мы бросили якорь перед ничтожным городком Патрасом. Пароход остановился на короткое время; мы вышли на берег, обежали весь город, осмотрели церковь и, по случаю воскресения, отслушали в ней литургию. Служба производилась, конечно, на греческом языке. Мы остановились в небольшой гостинице, содержимой совершенно в итальянском вкусе и весьма порядочной для такого малого и ничтожного городка; даже завтрак, за исключением плохого вина, был не слишком дурен.
В полдень мы опять подняли якорь. Между пассажирами показались новые лица. Минут за десять до отплытия парохода подъехал к нему катер, щегольски убранный восточными коврами. Из него вышел красивый мужчина средних лет, хорошо одетый и не лишенный аристократических замашек. Он нес на руках хорошенькую девочку лет шести. По лицу его видно было, что он чистый грек.
За ним шли две женщины: меньшая из них с веселым видом вскочила на палубу, другая всходила на нее медленно, поддерживаемая служанкой и негром. Эта последняя закрывала лицо платком и, казалось, горько плакала. Она была одета с большим вкусом: и роскошно и просто. Высокий рост, величественная поступь и грациозные манеры – все обозначало в ней женщину образованного круга и давало повод предполагать в ней красавицу. На указательном пальце левой ее руки сидел красивый попугай на золотой цепочке; при каждом дижении своей госпожи взмахивал он крыльями и щетинил хохолок. Все пассажиры толпились с любопытством около новых приезжих. Главным руководителем этого общества, натурально, был красивый грек, о котором я упомянул. Он много хозяйничал, суетился везде и помыкал негром и служанкой, которые, исполняя беспрестанные и многоразличные его поручения, со всех ног кидались с палубы в каюту и из каюты опять на палубу.
Молоденькая, вертлявая особа, madame S… (мы это узнали потому, что ее поминутно называли по имени), мало заботилась о печали своей подруги. Она не обращала на нее никакого внимания и без умолка тарантила и пересмеивалась с общим им обеим кавалером.
Попугая сняли с руки задумчивой красавицы и посадили на шест. Ребенок, бывший на руках у грека, расположился на разостланном для него турецком ковре и стал играть в куклы; негр разносил кофе и ликеры, а интересная незнакомка все сидела с поникшей головой и с прижатым к лицу платком. В этом положении оставалась она несколько часов и представляла собой олицетворенную статую скорби.
Между тем звон колокола скликал нас к обеду. В это время море было беспокойно, и пароход раскачивало довольно сильно. Я предпочел не сходить с палубы, чувствуя непреодолимое отвращение сидеть во время качки за обедом в смрадном и душном чулане против вытянутых, позеленелых и пожелтелых лиц: вид этих несчастных жертв морской болезни мутит душу хуже всякой качки и морской непогоды. Незнакомка тоже приказала принести себе обед на палубу и, улегшись, велела придвинуть себя к тому же столу, где и я расположился обедать. Она не видала меня и была уверена, что осталась одна на палубе.
Пролежав еще несколько времени в раздумье, она дрожащим голосом сказала негру по-английски:
– Фриман, принеси мне обедать.
Чопорный негр, затянутый в лондонский фрак, гордо высовывал курчавую свою голову из-за огромных белых брызжей и с неподражаемой улыбкой, при которой белые, как перлы, его зубы явились во всем блеске между толстых-претолстых губ широкого до ушей рта, почтительно отвечал:
– Я уже три раза осмеливался докладывать миледи, что суп давно подан и стынет на ветру.
Миледи машинально отвела от глаз руку, не воображая встретить моего взгляда, – но я сидел подле нее! Она вся вспыхнула, хотела было опять закрыться, выскочить из-за стола, как вдруг стоявший на нем графин с водой опрокинулся и от качки покатился прямо ей на платье.
Незнакомка вскочила, но я предложил ей свои услуги, успокоил ее, обтер замокшую ткань ее одежды салфеткой – и таким образом судьбе угодно было сблизить нас самым неожиданным образом.
Против всех ожиданий, она не была хороша собой, глубокая горесть, врезавшаяся в черты ее лица и просвечивавшая в больших карих глазах, внушала мне невольное сочувствие к этой женщине. И можно ли не быть тронутым печалью и слезами нежных существ, особенно когда не знаешь причины их скорби? Воображение всегда преувеличивает чужие страдания.
Не стану описывать нашего разговора, который, в сущности, был очень пуст. Замечу только, что в каждом слове моей страдалицы звучала грусть и слышался ропот на раннюю утрату счастья.
Все это было для меня странной загадкой, которой тайна мгновенно и неожиданно разыгралась под блеском молнии, в ту минуту, когда пароход, подходя к Пирею, бросал якорь.
Афины в расстоянии получаса от главного порта, носящего название Пирей, или Пиреос; там окончательно выгружают пассажиров, которые сухим путем продолжают путешествие до Афинъ, этот переезд совершается в полчаса времени, в экипажах, приготовленных заранее обществом пароходства австрийской компании Ллойд (Lloyd Austriaco).
Но прежде, чем доберется до Пирея, пароход на пути своем бросает якорь на полчаса около местечка Вострицы, для принятия пассажиров из окрестных жителей, собирающихся в Афины. Место это замечательно лишь по значительной торговле жителей изюмом и коринкой: говорят, что отсюда вывозится в год до четырех миллионов пудов этого продукта. Близь взморья издали указали мне на платановое дерево необыкновенного размера: меня уверяли, что оно в окружности почти сорока фут. Это, если хотите, очень похоже на римский огурец Ивана Андреевича Крылова; да и я того же мнения: я сам дерева не мерил, хотя толщина его и показалась мне действительно гигантской. Влево от Вострицы видны были берега города Лепанта. Я не сумею описать восхитительную в этот день прозрачность воды небесно лазурного цвета; не спуская с нее глаз, я при этом случае увидел так называемого морского полипа необыкновенной величины – странное явление подводного царства животных! Это отвратительное существо, белое, полупрозрачное, вовсе непохоже на животное; не имея никакой постоянной формы, оно изменяется беспрестанно: то, свертываясь в полужидкий комок, походит оно на какую-то лепешку, то, распуская множество продолговатых оконечностей, принимает вид огромного паука; нельзя распознать ни головы, ни других частей тела, а потому с первого взгляда я принял это чудовище за кусок плавающего в воде сала или жира, выброшенного за борт. Говорят, опасно дотрагиваться до морского полипа, ибо наружная слизь его причиняет зловредную сыпь на руках.
После шестичасового хода мы остановились у берегов местечка Лутраки. В весьма близком расстоянии отсюда находятся развалины древнего Коринфа. Город выстроен у подошвы горы, на которой, по рассказам, умер Диоген. На вершине горы видны еще развалины древнего укрепления. Здесь мы распростились со своим пароходом «Архидука Лодовико» и в шарабанах, в сообществе англичан и американцев (я был сам-двенадцать), стрелой помчались через Коринфский перешеек до местечка Каламаки, где ожидал нас пришедший из Афин другой, австрийский же, пароход «Граф Коловрат». Погода была превосходная, местоположение очаровательное, и мы совершили этот переезд весело, скоро, без забот и без всяких приключений. Езда греческих почтарей в этом месте очень напоминает обыкновенный способ езды по Финляндии и по северовосточным нашим губерниям: лошади лихо несутся во всю прыть, с размаху взбираются в гору и как бешенные скачут под гору. Тормозить колеса считают здесь излишним.
В Каламаки несколько утомительна проволочка, причиняемая нагрузкой пассажирского багажа на новый пароход; это тем неприятнее, что на берегу моря, посреди чистого поля, под знойным небом, вся проделка происходит в одиноком деревянном доме, удаленном от всякого другого жилья и более похожем на сарай, нежели на дом.
«Граф Коловрат» принял нас на свою палубу, запыхтел, завертел колесами и, выбрасывая грязные облака дыма, направился к столице юного королевства.
Появление новых лиц на пароходе повлекло за собой новые знакомства. Серьезные разговоры сменялись пустой болтовней. Там толковали о волнении в целой Греции и об открытом накануне заговоре в Патрасе; здесь спорили о том, какой цвет более к лицу рыжей блондинке, зеленый или лиловый; в третьем месте какой-то француз нес напыщенный вздор о египетском типе коптов и о коренных обитателях Нубии, из которой он только что возвратился; а тут, рядом со мной, madame S… вступила с маркизом де-Буа-Гильбером, изучавшим Грецию, в ученый диспут о том, на основании каких нравственных, политических и географических данных нынешние греки не могут походить на древних, доблестных и поэтических греков, между тем, как настоящий нынешний грек, кавалер madame S…, стоял тут же и, слушая этот разговор, только похлопывал глазами.
Все были заняты жаркими разговорами, и мы не заметили, как очутились в Пирее. Часовая стрелка показывала восемь часов, когда пароход остановился. В ту же минуту его окружили мелкие суда для перевозки пассажиров на берег. Все засуетились, все торопились скорее съехать с парохода, всякому хотелось быть первым – и первым никто не был, потому что из-за темноты никто не мог ни отыскать, ни распознать своих вещей. Произошла страшная суматоха; поднялся невыразимый шум и гам, и беспорядок сделался общим.
Я стоял посреди палубы, за рядом более хладнокровных пассажиров, облокотившихся на перила борта, и ждал окончания этого хаоса.
Вся даль погружена была в полумрак. В воздухе носилась духота и предвещала грозу; над нами, действительно, нависли грозные тучи и разостлались по небу черными, как смоль, покровами.
Почти рядом со мной стояла моя новая знакомка-страдалица со своим преданным негром, а там, подальше – madame S… с красивым греком, который, как я теперь только узнал, был законным супругом отчаянно влюбившейся в него и теперь так сильно горюющей женщины. Яркая молния неожиданно блеснула сквозь черные тучи и озарила общую картину в ту самую минуту, когда неверный муж поцелуем объяснялся в любви ветренной madame S…, которую держал в своих объятиях. Несчастная, так бессовестно оскорбленная жена залилась слезами.
После этого происшествия, я встречал супругов раза два в Афинах. Ловкий грек по-прежнему разгуливал с madame S…, а покинутая жена по-прежнему безутешно горевала.
Разумеется, семейное горе отразилось и на маленькой дочери охладевших друг к другу родителей: ни отец, ни мать не ласкали ее, даже вовсе не занимались ею; вчуже больно было глядеть на это несчастное дитя, когда оно играло в кухне гостиницы с поваренками – и больно было не оттого, что ребенок окружен был простолюдинами, ибо теплое сердце и христианские чувства можно найти во всех сословиях, а оттого, что, не зная ласк родительской любви, не состоя под попечительным надзором родного отца и родной матери, он был предоставлен совершенно произволу судьбы. Какую же участь готовила слепая судьба этой забытой и забитой девочке?
В Пирее мы выгрузились, разместились по экипажам, заранее бывшим уже наготове, благодаря распорядительности общества пароходства австрийской компании Ллойд (Lloyd Austriaco), полчаса провели в дороге и часов в девять вечера прискакали в Афины.
По необыкновенному стечению путешественников, мы не нашли уже ни одного места в лучшей тамошней гостинице «Htel d’Orient» и принуждены были остановиться в «Htel d’Europe», содержимой хоть и хорошенькой неаполитанкой, однако же довольно дурно.
Глава II
АФИНЫ – СРАВНЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО С НАСТОЯЩИМ – ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ – ВЗГЛЯД НА ДРЕВНИЙ ГОРОД – АКРОПОЛИС – ПАРФЕНОН – ПРОПИЛЕИ – ПАНТЕОН – ГЛАВНЕЙШИЕ ПАМЯТНИКИ ДРЕВНОСТИ – ХРАМ ЮПИТЕРА ОЛИМПИЙСКОГО. – АРЕОПАГ – ДРЕВНИЕ И НОВЫЕ АФИНЫ – КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ – КОРОЛЬ И КОРОЛЕВА – ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ
С малых лет знакомое нам громкое имя Афин в воображении нашем неразлучно с понятием о чем-то обширном и величественном, и как бы мы ни были предупреждены касательно ничтожности нынешнего города, однако трудно совершенно покориться этой мысли. Разбросанные без всякой связи остатки древней славы кое-где частями возвышаются вдали от обитаемого города; отдельные памятники эти восхитительны чистотой архитектуры и колоссальностью своих размеров. Величественно увенчанные славою тридцати четырех веков, они действительно единственны в своем роде, но в сущности это не более, как по частям разбросанные мертвые остатки некоторых главнейших строений; собственно следов города, общей связи между строениями нет. Столетия предоставляют воображению путешественника дополнить пустые, голые поля на печальном пространстве между Акрополисом, Ареопагом, Пниксом, остатками храма Юпитера Олимпийского и другими памятниками древности, пощаженными временем.
Новые Афины, можно сказать, существуют в той же степени, как и древняя столица, с той лишь разницей, что там, где была последняя, кое-где возвышаются уцелевшие от времени свидетели древней славы, между тем, как там, где путешественнику указывают новые Афины, удивленный взор его тщетно ищет города и лишь встречает безобразные, ничтожные строения, без всякой связи, без архитектуры, без общей физиономии города.
Итак, тот знаменитый город, та столица древней Аттики, а впоследствии столица республики – город, из среды которого возникло светило высшей образованности, наук и художеств, прошедший сквозь ряды веков до наших времен, – теперь не что иное, как мертвый след прошедшего и попытка стремления к будущему!
В цветущее время Афин одних свободных граждан было в них более 21000 душ, что дает право предполагать всего-навсего более 200000 жителей. Кекропсу приписывают основание Афин в 1550 г. до Р. X. и полагают, что город сначала назывался Кекропией – именем, присвоенным впоследствии лишь центральной его части, или самой цитадели; самый же город, в честь богини Минервы, или Афины, получил наименование Афин.
Чудная судьба была этого города, этого небольшого клочка земли, который время, в продолженье 3400 лет, щадило от забвенья!
Сначала Афинами управляли цари; но со смертью Кодра, пожертвовавшего жизнью для спасенья отечества, правление царей прекратилось, вследствие той мысли, что некому уже было занять место великодушного Кодра – и затем власть перешла в руки архонтов.
Первоначально архонты эти избирались из потомков Кодра пожизненно; потом стали их избирать на десять лет, а впоследствии и ежегодно. Верховная власть сосредоточилась, наконец, в руках ограниченного числа людей, носивших звание граждан и состоявших первоначально из эвпатридов, «благорожденных»; масса же остальных афинян называлась «дэмотами» и была лишена участия в делах государственных.
Скоро дэмоты стали домогаться звания граждан: завязалась борьба между ними и эвпатридами, между началами демократическим и аристократическим. Люди из класса эвпатридов, льстя народным страстям, примыкали к противникам прежней своей партии и делались демагогами, но не из убеждения, а из личных целей, чтобы выиграть расположение толпы. Сражаясь вместе с демократами и ослепляя их своей ложной привязанностью, они достигали важного влияния на дела и, пользуясь обстоятельствами, исторгали всю власть управления, делаясь так называемыми «тиранами».
Таким тираном был Гиппий: народ восстал на него, изгнал его, разрушил Пелазгийский замок, который Гиппий укрепил было для себя, и обратил его в площадь для народных собраний и рассуждения о делах государственных. Афины сделались государством демократическим. Другие государства греческие, управлявшиеся началом аристократическим, как-то: Спарта, Беотия, Фивы, Колхида, Эретрия, – естественно, старались не допустить Афины до демократизма, но Аттика вышла победительницей.
Вслед за тем Греция вступает в войну с персидским государством – и битва при Марафоне возвышает ее над Персами, а афинян ставит во главу остальных греческих государств, передавая отдаленнейшему потомству имена Аристида, Фемистокла, Кимона и Мильтиада, а вместе с ними и Фидия, создавшего несколько статуй в честь богини, покровительницы Афин.
В Афинах, успокоенных от военной тревоги и наслаждающихся миром, является Перикл; науки и преимущественно искусства достигают высшей степени развития; воздвигаются здания, сохранившиеся от разрушительного действия тысячелетий до наших дней, – настает золотой век Афин.
Афиняне стали вводить демократическое начало и в другие греческие государства. Но где в этих началах не было народной потребности, где демократизм не оказался необходимым следствием прожитого прошедшего, там насильственное привитие постороннего элемента не могло не встретить сильного отпора – и вот является долголетняя Пелопоннесская война… Тяжки были для Афин последствия этой войны: стены города были разрушены, флот сожжен, демократия пала, и в Афинах укоренилась олигархия, которой представителями были тридцать тиранов.
Крепкие внутренней силой своих сограждан, Афины скоро сбросили с себя иго тиранов. Демократизм, развившийся уже в крови афинян, не мог быть в столь короткое время подавлен окончательно: он снова является основным началом правления республики. Афины мало-помалу стараются приобрести прежнее значение, но попытка упрочить за собой прежнее величие оказывается тщетной, и город Минервы, а вместе с ним и вся Греция, теряют свою политическую независимость: бедственная битва при Херонее подчиняет Грецию могуществу македонского государя Филиппа.
Война Рима с Македонией возвратила Греции политическую независимость, но Афины потеряли уже свое место в ряду других единоплеменных им государств. В делах Ахейского и Этолийского Союзов город этот принимает только второстепенное участие, и скоо имя Афинской Республики совсем исчезает, когда целая Греция, под именем Ахаии, обращается в римскую провинцию.
Старинной славе Афин сочувствовали правители Рима. Октавий Август щадил Афины и не хотел помнить, что они приняли сперва сторону Помпея, а потом сторону Антония. Императоры времен золотого века Рима принимали на себя титул афинских граждан, а Адриан старался быть новым Периклом: он изучал Афины и украшал их новыми великолепными зданиями, стараясь вместе с тем развить древнегреческую жизнь во всей своей империи.
После Юстиниана память об Афинах пропадает. Юстиниан уничтожил школы, в которых образовались великие проповедники нашей православной церкви: св. Григорий, Кирилл, Василий Великий и Иоанн Златоуст. Со страниц истории исчезло имя города, в котором, задолго до явления Спасителя, Сократ и Платон прозревали душой и умом того неведомого Бога, поклонение которому впоследствии проповедовал, в Афинах же, св. апостол Павел.
В половине двенадцатого столетия снова встречается имя Афин: они были взяты норманнами, вышедшими из Сицилии; часть афинян колонизируется в Палермо.
По завоевании крестоносцами Восточной Империи является в первый раз титул «герцога афинского»: Афины живут до половины пятнадцатого столетия жизнью ленного владения, а с этого времени подпадают владычеству турок и обращаются в рабов поклонников Мухаммеда.
В 1821 г. восстали греки открыто, сознавая в себе порывы к независимости. Жесткие притеснения турок вымучили у греков стремление к самобытности – и, на нашей памяти, в тысяча восемьсот тридцать третьем году в Европе огласилось имя Оттона, первого греческого короля, вместе со знаменитым своей древностью общеизвестным именем Афин, столицы нового Греческого Королевства.
Первоначальный город лежал на возвышенных скалах, посреди окружающих его полей, и лишь мало-помалу, с увеличением числа жителей, распространял свои ветви во все стороны около этого первого, основного обиталища на берегу Сароникского залива; от этой разности местоположения город разделился на две отдельные части, из которых первая получила название Акрополиса, или верхнего города, а вторая – Катополиса, или нижнего [города]. Напротив восточного пелопонесского берега две речки омывали город с двух противоположных сторон: Кефиса с северной и Иллиса с южной.
Пространство около 80 верст удаляло главную часть от морского берега, вдоль которого теснилось множество великолепных зданий; красота их соперничала с внутренними строениями столицы.
Предание говорит, что выстроенные из каменной плиты стены, которыми соединялись морские гавани с удаленными от берега городскими оградами, были такого значительного размера, что катившиеся по их вершинам колесницы могли удобно разъезжаться при встрече.
Акрополь, или Акрополис, вмещал в себя все, что только древняя столица имела превосходнейшего в роскоши своих художественных произведений. Этот холм, застроенный величественными зданиями, свидетельствующими о вкусе и зодческом гении древних греков, стоя посреди голых полей, представляет как бы незыблемый пьедестал, приуготовленный самой природой для поддержания этой связи гениальных памятников в одно общее целое. Главнейшая и замечательнейшая часть Акрополиса – Парфенон, или храм Минервы. Величественные размеры этого несравненного памятника, соединенные с отчетливой простотой украшений, составляют главное его достоинство. Там не встретите вы этого неуместного смешения колонн различных орденов, ни тяжелых украшений у их подножий: там все обдумано, все плавно, просто и величественно; везде один вкус, одна архитектура; можно сказать: повсюду проявляется одно и то же чувство высокого и прекрасного. Необыкновенно восхитителен ярко золотистый цвет, лежащий на афинских памятниках. В других странах, под переменным и дождливым небом, даже чистейшая белизна мрамора от сырости, туманов и других посторонних причин вскоре чернеет или, зарастая мхом, покрывается зеленой, сырой одеждой; но под чистым, знойным небом Греции белый мрамор Паросса и Пентеликии лишь позлащается яркой желтизной от блестящих лучей афинского солнца.
Парфенон, которого остатки и поныне слу жат предметом удивления, имел 217 футов в длину, 98 в ширину и 65 в вышину. Разоренное персами, это необыкновенное здание вновь возросло и еще более украсилось при Перикле, в 444 г. до Р. X. Во внутренности Парфенона стояла некогда статуя Афины, или Минервы, – гениальное творение Фидия, вырезанное из слоновой кости, в 16 футов вышиной, и роскошно убранное золотыми украшениями, оцененными до 44 талантов (около 800 тысяч рублей серебром).
Так называемые Пропилеи служили входом к Парфенону; широкая мраморная лестница вела сквозь Пропилеи к цитадели, или Кекропии. Вокруг было множество других зданий из белого же мрамора, как то: храмы Паллады и Нептуна и так называемый Пандразион; южнее – храм Аполлона; перед главной стороной Акрополиса – театр Бахуса и Одеон; первый предназначался вообще для народных зрелищ, второй – для музыкальных собраний.
На площади, за юго-восточным углом цитадели, возвышался сооруженный императором Адрианом Пантеон, в честь всех языческих богов, и им же заложенный водопровод, оконченный в царствование Антония.
Вне города стояли два из великолепнейших афинских зданий: к северу – храм Тезея, выстроенный наподобие Пантеона, в дорическом вкусе, с изображением подвигов этого полководца; а к югу – ионической архитектуры храм Юпитера Олимпийского, превосходящий почти все здания Афин своей величественной красотой; неисчислимые сокровища были жертвуемы на сооружение и украшение этого памятника, окруженного 120 колоннами, в 60 футов вышиной и имеющими 6 футов в диаметре.
Хорошо сохранился древний Ареопаг, огромное пространство, полукружием врытое в землю, обложенное мраморными плитами, с тщательно высеченными из камня креслами для членов этого знаменитого народного судилища, основание которого иные писатели приписывают также самому Кекропсу, другие же – законодателю древней Греции Солону; но вероятнее, Солон только усовершенствовал состав Ареопага и, присвоив ему более прав, возвел его на высшую степень могущества и славы судебного места. Исторические предания не оставили положительных данных о числе членов Ареопага; известно только, что они избирались пожизненно и состояли из достойнейших архонтов, которые непоколебимой правотой души и любовью к правосудию достигали столь высокой степени доверия граждан; Аристотель называл Ареопаг священным судом Греции.
Умышленное смертоубийство, отравление, грабеж, измена отечеству, безнравственность и своевольные нововведения в образе правления и в религии – были преступления, подлежавшие суду Ареопага, которому в то же время вверялось попечение над сиротами. В опасные и смутные времена Ареопаг владел даже жезлом правления, как например, во время войны греков с персами, когда власть и слава Ареопага достигли высшей степени. Не только Афины, но и все остальные части Греции повергали свои споры и тяжбы на обсуждение Ареопага. Совещания производились ночью под чистым небом; по изложении судьям сущности дела, оно решалось большинством голосов. Перикл первым нарушил беспристрастную совестливость этого верховного судилища: не будучи вовсе архонтом, он успел попасть в число членов его и неоднократно действовал против основных правил совести и чести; впрочем, Ареопаг еще долгое время после Перикла держался в прежней силе и власти, и окончательно пал только с падением Афин.
Кроме этих памятников, остались еще некоторые следы других замечательных зданий, как, например, знаменитая Академия, где преподавал Платон, здание Сената, или Притансион, Пникс, или место народных совещаний, и т. п. Но не стану распространяться в описании каждого из этих замечательных в историческом отношении следов древнего города; описания мои были бы излишним повторением того, что уже многими подробно и удачно изложено в путевых записках, исторических очерках Греции и в описаниях древнего города.
Афины нынешнего времени похожи на наш уездный городок. Центр греческого мира, рассадник европейской образованности, колыбель многих начал политической жизни новейших народов – узнает ли теперь кто вас, Афины, в этой путанице домишек, завладевших вашим славным именем?
Грустные мысли толпятся в душе путника, останавливающегося посреди этой груды обломков прежнего, когда-то бывшего величия, посреди этого хлама, посреди ничтожества и ничтожности всего окружающего, при сравнении мелкого, тщедушного настоящего с великим прошедшим, надолго для Греции утраченным!
Впрочем, вспомнив недавнее начало новой жизни, всякая критика должна остановиться и отдать справедливость тому, что сделано, как бы оно ни было незначительно; положите на весы средства, время, обстоятельства – и вы будете снисходительны. Тем не менее, я продолжаю свой обзор с точки зрения беспристрастного наблюдателя.
В главной части города, на полуизрытой площади, стоит довольно некрасивый дворец короля Оттона. Длинный, низкий дом упирает громоздкую крышу переднего своего фасада на толстых столбах.
Не могу допустить мысли, чтобы дворец этот был выстроен по собственному вкусу короля. Отец его, художник в душе, воздвиг в своем отечестве множество великолепных зданий превосходнейшей архитектуры: при содействии любимого им архитектора, Кленце, он почти всем великолепным строениям в Баварии усвоил вкус, красоту и размеры именно древних афинских памятников. Так, например, известная Валгалла, возвышающаяся на берегу Дуная близ Регенсбурга, – верный снимок с афинского Парфенона. Дворец короля Оттона притом, как будто для большего усиления и без того уже неприятного впечатления, поставлен в виду чудных произведений древней греческой архитектуры и на таком открытом месте, что нет возможности избежать невольного сравнения некрасивых колонн нового дворца с уцелевшими девятью исполинскими столбами древнего храма Юпитера. Будь королевский дворец выстроен в отдалении от Парфенона и храма Юпитера и вне всего того, что бессознательно наводит на сличение, наружность дворца не так была бы поразительна и даже кое-что выиграла бы.
На другой день по приезде в Афины мы с самого раннего утра посетили величественные остатки древнего города и удивлялись им. Несмотря на нестерпимый жар (28 ° Реомюра в тени), мы, не чувствуя усталости, переезжали с места на место, все рассматривали со всех сторон, любовались и восхищались единственным величием этих колоссальных остатков. Парфенон, храмы Бахуса и Победы, и особенно храмы Минервы и Юпитера – образцы человеческого творчества и трудов, образцы по чистоте стиля.
Было около четырех часов пополудни, когда я, прогуливаясь по городу, проходил мимо королевского дворца. Толпа народа около его подъезда остановила мое внимание. Я примкнул к этой толпе и увидел, как молодая королева поехала кататься. В то же время сошел со ступеней крыльца и король, ему подвели коня, толпы просителей окружили его у подъезда. Сев на лошадь, король принимал просьбы из рук просителей, всем ласково кланялся и потом, в сопровождении нескольких адъютантов, выехал за город. Он был одет в богатый национальный костюм, который привык носить совершенно как коренной житель Аттики. Говорят, будто он владеет языком новоэллинским как природный грек; это тем удивительнее, что германские уроженцы вообще редко говорят на иностранном языке без сильного природного акцента.
Имея в виду цель поспеть в Иерусалим непременно к заутрени Светлого Воскресения, я должен был по возможности сократить пребывание свое в Афинах, а потому и не искал случая быть представленным ко Двору, опасаясь, чтобы для королевской аудиенции мне не назначили дня позже того срока, какой я себе предположил для выезда. Ежедневно во время пребывания своего в Афинах я посещал развалины древнего города.
Неподалеку от знаменитого Ареопага указали нам небольшой пригорок, покрытый мраморной плитой; искони существовавший предрассудок в народе приводил к этому месту бесплодных жен, которые, ложась на плиту обнаженным чревом, скатывались с нее вниз в этом положении, твердо убежденные, что это средство вылечит их от бесплодия. Если верить рассказам, так и поныне еще обычай этот ведется, и катанье с волшебной плиты иногда повторяется женщинами из простонародья. Мраморная плита от частого употребления так отполировалась, что стала гладка и блестяща как зеркало.
Я имел случай осмотреть внутренность королевского дворца; она меня несколько примирила с первым впечатлением, невольно произведенным наружностью здания, но и там я встретил много некрасивого. В особенности неприятно поразили меня весьма слабые художественные произведения – картины и фрески на стенах.
На неровной, ухабистой площади перед дворцом учились войска, приготовляясь к смене королевского почетного караула; греческий батальон, в национальной живописной одежде, в красных скуфейках, в белых пышных юбках (фустанеллах) и роскошно вышитых камзолах, – должен был в тот день сменять батальон баварского войска.
Против левого фасада дворца, за небольшим двором, находится сад королевы; так как он разведен недавно, то деревья еще так малы и ничтожны, что нет ни одного тенистого уголка; стоящие под знойным небом, посреди степи, как сиротки, коротенькие одиночные растения не придают этому месту ни красы, ни запаха, ни тени; не менее прискорбен недостаток дерев и растений в так называемом ботаническом саду, более похожем на огород, чем на сад.
В день отъезда я посетил Палату Депутатов; небольшой дом этого собрания, столь же мало внутри, как и снаружи, соответствует главной его цели – вмещать в себе многочисленное собрание людей, приходящих сюда обсуждать важнейшие вопросы народного благосостояния. Главная зала устройством своим напоминает любой из наших провинциальных театров: такие же ложи, скамейки и стулья.
Я был в Палате во время обыкновенного заседания; комната была наполнена национальными депутатами, из них многие очень горячо толковали, возбуждая всеобщее одобрение слушателей.






