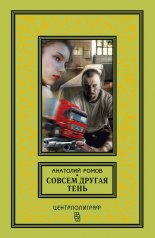Моховая, 9-11. Судьбы, события, память Сборник статей

Спонсоры издания – участники проекта и однокурсники, особый вклад сделан семьей ЛИ. и Т.Н. Скворцовых.
Благодарим за поддержку детей наших однокурсников – А.А. Балихину и В.В. Фатющенко, а также декана факультета иностранных языков и регионоведения МГУ профессора С.Г. Тер-Минасову.
Редакционная коллегия:
С.С. Ангелина, И.В. Матвеева, С.А. Митрохина, В.А. Недзвецкий, Т.Н. Скворцова, Т.Н. Скорбилина, А.П. Филатов
Составитель Т.Н. Скорбилина
От авторов
Перед вами вторая книга воспоминаний выпускников филологического факультета МГУ 1953 – 1958 годов. Первая («Время, оставшееся с нами») была издана нашим факультетом в 2004 году. В ней мы рассказывали о пяти годах студенческой юности. И вот решили снова отправиться в плавание по волнам памяти, продолжить повествование о времени и о себе, поразмышлять о прожитом и пережитом. На этот раз не стали ограничивать себя хронологическими рамками и предоставили каждому свободу выбора, о чем и как писать. События, встречи, раздумья, творчество… Все интересно и ценно в каждой судьбе.
По-разному складывались судьбы однокурсников. Но как бы ни поворачивали их жизненные обстоятельства или собственные устремления, мы всегда чувствовали: университет дал нам и надежную основу, и значительную высоту, университетский уровень подготовки востребован и оценен.
Многое вместило промчавшееся, но не утраченное время. Познание и поиск, разочарования и открытия, неудачи и озарения, боль потери и минуты яркой радости… Об этом хочется вспомнить. Об этом надо помнить.
Как и в первой книге, сохранена авторская редакция текстов. Некоторые исправления и сокращения обусловлены технической необходимостью.
Листая страницы жизни
Из военного детства
Валентин Недзвецкий.
В 1953 году, когда вместе с тремя сотнями моих сверстников со всех пределов СССР я стал студентом филологического факультета МГУ, нас от начала самой страшной в российской истории войны отделяло всего двенадцать лет. Да и пролегла она для нашего поколения между хрупкими дошкольными годами и только преддверием отрочества, голодом и болезнями, постоянными опасениями за надрывающихся матерей и фронтовыми «похоронками» на отцов, подрывая и без того слабые детские организмы. Так было, конечно, по всей России: в Заволжье и на Урале, в Сибири, на Алтае или в Приморье. Но наибольшие лишения и испытания выпали на долю детей и взрослых, в течение двух, трех, а то и почти четырех военных лет выживавших в условиях немецкой оккупации. Если война калечила здоровье россиян везде, то на оккупированных территориях она ежедневно угрожала и их существованию. И вспоминая свое поступление в первый университет нашей страны, предопределившее для меня, как и для большинства его питомцев, по меньшей мере счастливое профессиональное будущее, я с годами все чаще возвращаюсь памятью и к тем событиям военного детства, от исхода которых зависела сама возможность стать или не стать когда-то студентом, а спустя годы даже преподавателем МГУ. И прежде других – к тому из них, что произошло ровно десятилетием ранее начала моего студенчества.
Бегство деревни и лесная встреча 1943 года
Белорусская деревня, вернее, деревенька Однополье – в одну улицу и двадцать пять-тридцать дворов, расположившаяся в полукилометре от голого правого берега Сожа, верстах в сорока от Гомеля, летом третьего военного года решилась бежать в лес, что называется, в одночасье. Из ближайшего села Присно пришел слух, что немцы угоняют на работы в Германию парней и девушек, начиная с четырнадцати лет. Думаю, до однопольцев докатились и жуткие известия о деревнях, сожженных карателями партизан, порой – прямо с жителями…
Всю ночь перед назначенным к уходу днем деревня не спала: во дворах и сараях закапывали оставшееся зерно, одежду, прятали сельхо-зинвентарь, утварь и резали, что у кого было, – гусей, уток, кур или поросенка, свинью. Все это торопливо, со слезами и переговариваясь только шепотом, с постоянным «Тише!», «Тише!».
В Однополье немецкого поста не было. Его заменяли пара молодых полицаев, по-видимому, из родственников «раскулаченных», и староста по прозвищу Ховхан, то ли освободившийся до войны, то ли бежавший с приходом немцев из тюрьмы местный уголовник. Это был угловатый здоровенный мужик лет под пятьдесят, как казалось мне, огромного роста. Полицаи наши давеча отправились на рыбу – не ловить, а глушить взрывчаткой – и возвращались, как сообщил кто-то из их родни, лишь через сутки. Но Ховхан оставался в деревне, и его требовалось обезопасить. Дело это взяли на себя давние жители Однополья – мои дед и бабка по отцу Фрол Николаевич и Люцина Иосифовна Недзвецкие, к тому времени уже шестидесятилетние старики. Поступили они древним российским способом – собрали по деревне весь наличный самогон, соорудили обильную, но не жирную закусочную снедь и пригласили, уж не помню под каким предлогом, Ховхана, хорошо зная, что от водки тот никогда не отказывался. Ховхан надежду угощавших его оправдал, так как с крыльца дедовой избы не сошел, а рухнул, после чего силами наших ближайших соседей был перетащен в его хату, где заснул как будто бы мертвецким сном.
На следующий день мама разбудила меня и моего брата-близнеца Женю с восходом солнца; девятью годами старше нас брат Аркадий, выполняя мамины порученья, не спал вовсе; на ногах была и вся деревня, так как дороги были не часы – минуты. Ведь предстояло, уложив всего на двух подводах – больше лошадей не было – только жизненно необходимое, что имела каждая семья из еды и одежды, отвезти это, безжалостно бросая все остальное, на берег Сожа, выпрячь лошадей, переправить их, а также несколько коров вплавь через весьма в этом месте быструю и далеко не узкую реку, потом на одноместных лодках-«душегубках» доставить на левый берег почти шестьдесят детей, женщин, подростков и всю общую поклажу, вновь уложить ее в телеги, предварительно переправленные на единственной большой лодке, снова запрячь лошадей и, преодолев без дороги широкую речную пойму, проехать – ночью! – стоящую на пути большую деревню с тамошними полицаями, чтобы наконец-то достигнуть спасительного леса…
И все это при неминуемой в таких переполохах сутолоке и страхах то за неловкого ребенка, то за корову, что, испугавшись быстрого течения, упиралась изо всех сил, грозя перевернуть лодчонку своего поводыря, то от неотвязной мысли: «А если не успеем, если свои полицаи, передумав рыбачить, вдруг вернутся или, что еще хуже, Ховхан проспится раньше времени?».
Увы, Ховхан и в самом деле очнулся в тот момент, когда, несмотря на двенадцатичасовые усилия, на правом берегу Сожа еще оставалось со своим скарбом едва ли не двадцать женщин и детей Однополья. Томимый потребностью опохмелиться, он босиком выбрался на улицу, заглянул в пару обезлюдевших домов и быстро сообразил, что происходит. После чего, натянув сапоги, бросился в Присно, до которого было четыре километра и где стоял пост немецкой жандармерии…
В деревню Однополье наша мама Ирина Даниловна, крестьянская дочь, ставшая сельской учительницей, перебралась с нами, тремя ее детьми, летом 1942 года из российского села Новый Ропск, где она родилась и где мы встретили войну и немцев. Крайне опасный путь наш длиною в сто сорок километров по такой же оккупированной земле, как и Белоруссия, был вынужденным. В предвоенные годы мои мать и отец, также сельский учитель из крестьян и одно время директор школы, не раз летом приезжали в Новый Ропск, где их встречали, как то бывает, не только с радостью, но и с завистью. При этом в числе завидующих оказывались и прямые мамины родственники: племянники и племянницы, не получившие образования, а с ним и какой-либо почитаемой профессии. А тут еще мои родители могли прикатить в село. собственным ходом – разумеется, не на машине, однако каждый на своем личном велосипеде, эдаком «Мерседесе» тех лет, – ну, как тут удержаться от недоброжелательства к ним. Впрочем, была причина и серьезней: отец в качестве директора школы стал членом ВКП(б), что в глазах «раскулаченных» и ненавидящих колхозы маминых односельчан делало его прямым участником антикрестьянской власти. До войны скрытая вражда к ней людей, от нее пострадавших, с приходом немцев уже не сдерживала себя. И вот Иван Шипков, двоюродный брат, ровесник и приятель моего четырнадцатилетнего брата Аркадия, в ноябре 1941 года вдруг заявил ему: «Ты раньше в гамаке качався, а вот немцы пришли, и мы вас в ямку закапывать будем!». Весной 1942 года староста Нового Ропска, живший по соседству с нами и знавший маму с младенчества, сообщил ей: «Твоя семья в полицейском списке. Хочешь уберечь детей – уходи из села как можно дальше». И сам выписал ей некую «подорожную» для немецких патрулей, с которой мы и добрались до глухого отцовского Однополья. Не буду рассказывать, каким долгим и тяжким оказалось для нас, вовсе не избалованных родителями братьев, это первое в нашей жизни «путешествие». Но что вынесла за те дни и ночи тридцатисемилетняя женщина-мать, принужденная в одиночку отважиться на него с тремя детьми, из которых старшему шел пятнадцатый, а двум младшим лишь шестой год!..
Ховхан немцев привез, даже на двух подводах, но особенно они, похоже, не торопились, потому что приехали в Однополье не раньше того, как последние его беглецы были уже на левом берегу Сожа, прячась там в густой лозе, все более окутываемой туманом и густеющим вечерним мраком. Он же укрывал и немцев, двигавшихся к реке по пологому песчаному спуску, пока их не заметили двое из мужских участников нашего бегства – парни лет двадцати, не попавшие под мобилизацию 1941 года, зато ныне выказавшие неплохие организаторские способности. Как большинство однопольских стариков, их родители со словами «Куда нам, немощным, скитаться по лесам – только вас, молодых, обременять. Здесь жизнь прожили, здесь и помрем!..» решили остаться в деревне на свой страх и риск. Сыновья переправились через Сож одни. Но спустя час-два не выдержали и, переплыв реку обратно, пошли в Однополье, надеясь переубедить упрямцев. И вдруг метрах в тридцати от себя рассмотрели телеги с неясными фигурами в каждой. В тот же момент их самих заметили немцы. Ничем не нарушаемая дотоле тишина июльского сельского вечера мгновенно разорвалась грохотом автоматных очередей, еще более усиленным резонансом от водной глади Сожа и как будто бесконечным.
Так во всяком случае показалось нам, детям и женщинам, сидевшим в лозе левого берега. Когда же немцы бросили несколько осветительных ракет, которые, дугой перешагнув реку, стали спускаться прямо на нас, я почувствовал себя на мгновенно оголившемся пространстве – отовсюду видимым и совершенно беззащитным…
В последний месяц жизни в Однополье мы не раз ночами выбегали из хаты подальше в поле, надеясь там уберечься от бомб, которые наши бомбардировщики, атаковавшие с лета 1943 года немецкие позиции в Гомеле, по ошибке или уходя от вражеских зениток, сбрасывали в окрестностях нашей деревни. Не однажды наблюдали мы и ниспадающие с неба огромные осветительные ракеты. И тогда был страх, но какой-то иной, вперемешку с долей любопытства. Сейчас же я не одним сознанием, а всеми частицами своего, вдруг комком сжавшегося, тела ощутил: меня и всех сидящих рядом – маму, братьев, односельчан – как будто в упор расстреливают.
Это был не страх, а ужас, искажающий реальность и повергающий людей в оцепенение. В самом деле – немцы стреляли с той стороны реки и даже не с берега, до которого они сотню метров не доехали. Но нам зримо представилось, что они уже на реке, почти рядом, и вот-вот ворвутся в нашу лозу. В женско-детском стане началась та паника, о которой я в свои семь лет что-то слышал, но которую воочию видел впервые и забыть с тех пор не могу. Вместо того чтобы немедленно действовать – разбегаться ли одиночками по ночному лугу или уходить вдоль реки в обе стороны от нашего лагеря, женщины, как прикованные, сидели на местах, где их застали автоматные очереди, и только повторяли одними губами: «Господи, помоги! Господи, спаси и помилуй!…». К счастью, не все. С запоздалой благодарностью воздаю должное своей матери – недаром учительнице, призванной владеть собой. Она первая опомнилась, приказала что-то Аркадию и, схватив меня и Женю, ползком бросилась с нами к стоявшим на лугу копнам сена, примеченным ею, должно быть, еще засветло. Там, быстро вырыв в обеих круглые норы, посадила отдельно в каждую меня и брата. Конечно, укрытия эти, бессильные перед пулей и огнем, едва ли спасли нас, переправься немцы через реку. Но мать спрятала своих детей по крайней мере от немедленной расправы: ведь, форсируй немцы Сож, и парализованные страхом женщины с их детьми были бы как «уходящие в партизаны» или их «пособники» расстреляны на месте.
Автоматы вдруг смолкли; потекли минуты мучительного ожидания – пять, десять… Наконец чуткий слух крестьянок уловил вроде бы удалявшееся на том берегу фырканье лошадей. Вскоре стало ясно: немцы, не рискнув ночью преодолевать реку (были, видно, уже не те, что летом 1941 года), возвращались в Однополье. Там, проспав в брошенных хатах до утра и позавтракав, выгнали на улицу оставшихся в деревне стариков (в их числе и деда Фрола с бабой Люциной) и под конвоем повели в направлении Присна; Однополье же в середине и с концов подожгли.
Все это станет известно нам, однако, намного позже, потому что прежде, чем Однополье превратилось в сплошное пламя, «табор» беглецов, постепенно отходящий от пережитого ужаса, был уже в лесу, двигаясь к востоку, а не западу от Сожа, т. е. туда, откуда, страстно надеялись мы, пусть и нескоро, но непременно должны прийти «наши». Но и вход в лес дался нам недаром.
Еще на пойменном лугу нас неожиданно окружил десяток верховых мужчин, в полушубках или ватниках, несмотря на теплую летнюю ночь, и, как помог рассмотреть забрезживший рассвет, больше или меньше обросших бородами. «Бабы, выпрягай лошадей!» – крикнул передний из них, снимая с плеча винтовку. Холодея сам, я почувствовал, как резко сжалась обнимавшая меня рука матери… Отдать наших саврасок – значило в лучшем случае остаться лишь с той частью еды и одежды – а она в войну была единственной «валютой», менявшейся на что-нибудь съестное, – какую мы смогли бы унести в руках. И какой хватило бы на неделю, после чего и быстро портящееся в жару мясо зарезанных коров не спасло бы нас от лютого голода.
Впоследствии, «проходя» в десятом классе историю войны СССР с фашистской Германией и слушая нашу учительницу-историчку, в особенности напиравшую на «десять великих сталинских ударов», якобы обеспечивших нашу победу, я невольно задумывался над тем, кем были те остановившие нас верховые. Ибо ясным оставалось только одно – не немцы. Но совсем не исключались «партизаны». Из тех, и таких было немало, кто прежде начальствовал на разных советских должностях, а с приходом немцев уходил в лес, чтобы там без риска для здоровья и жизни отсидеться. Что и делали, время от времени именем «защитников родины» собирая дань с прочих окрестных соотечественников. Как, надо сказать, и те полицаи, которые по мере поражений и отступления немцев все чаще дезертировали из своих «команд», не решаясь вместе с тем и оставить родные с детства места. Много позже, уже после встречи с нашей армией, совершая с матерью и братьями обратный путь из Белоруссии в село Новый Ропск, я видел таких полицаев или в деревенских хатах, где нам давали ночлег, а они ночами же навещали кормивших их хозяек, или на широких деревенских улицах, где они, сдавшиеся первым же нашим солдатам, проходили перекличку офицера-смершевца и, выстроенные в длиннющие шеренги по четыре, ужасали меня своим огромным количеством («Боже мой, сколько же у нас предателей!..»).
Полицаями-дезертирами, озабоченными своим выживанием вне своих семейств, были, по всей очевидности, и остановившие нас небритые конники. Это после начального испуга, видно, поняли и наши женщины. И тут надо было их видеть – куда девались недавнее оцепенение, паралич тела и духа. Уже не наша мать, а две пожилые крестьянки, ведшие, обходя топкие места, под уздцы наших саврасок, а за ними чуть не тридцать других односельчанок, бесстрашно бросились к верховому с винтовкой, крича в полный голос: «Побойтесь Бога! Вы же не нехристи!.. У нас дети, как, наверное, и у вас, чем они виноваты?.. А без лошадей мы все пропадем! Не берите грех на душу – вы тоже русские, может, даже чьи-то наши сродственники!…».
Что подействовало на потенциальных мародеров – последние или первые слова женщин, где-то таившееся и на мгновение пробудившееся участие к соплеменникам или опаска «А если все эти бабы, обезумев, бросятся на нас – чья еще возьмет?», – сказать трудно, но через минуту-другую главарь банды свистнул, повернул коня, и вся группа быстро растаяла в направлении деревни.
Той самой, которую мы не могли миновать, как добрый молодец в русских сказках последнее испытание на своем доблестном пути. Нам, однако, было не до сказочных подвигов. Левобережную деревню, состоящую также из одной, но десятикратно более долгой, чем в Однопо-лье, улицы-дороги мы проходили, показалось мне, целую вечность. Было три-четыре часа утра, когда, как сказала нам мама, человеческий сон особенно крепок. Но ведь в деревне – свои полицаи, и кто-то из них, наверное, на ночном дежурстве. А если он к тому же предупрежден немцами о нашем побеге и нас ждет засада?!..
Целая жизнь в шестьдесят пять лет прошла с часа того перехода, но, подумав о нем, я и сейчас невольно повторяю его шаг за шагом, метр за метром. Вот наши телеги и мы за ними поравнялись с первыми хатами и, боясь оглянуться, углубляемся в деревню… Вот скрипнула одна из телег, в ответ на ближайшем дворе тявкнула собака, к счастью, всего одна, но и того было достаточно: захотелось сделаться невесомым, невидимым, неслышимым и не идти с такой мучительной медлительностью, а вдруг полететь. Но вот уже полдеревни позади, пока никого – еще полкилометра крестного пути, идем мимо последних спящих хат, отдалились и они, мы впервые оглядываемся назад – нет, никто с криком «Стой! Стреляю!» не догоняет, впереди же нас – не лобное место, а спасительный лес.
Он встретил нас обильной росой и зябкой прохладой, но как же мы радовались ему. То был не источник дров или какой иной корысти, то был могучий и добрый Бог, вызывавший у нас, как у древних людей, чувство поклонения и живой любви. И мы безбоязненно отдались его покровительству, сразу же забираясь все дальше и дальше в лесную глубь. Подобно беде, радость не ходит в одиночку: к вечеру первого дня нас нагнали те молодые парни, что вчерашним вечером ходили в Однополье за своими родителями и наткнулись на немцев. При первой же автоматной очереди они кубарем разлетелись в разные стороны, перебежками достигли Сожа, где скрытно отсиделись до рассвета, потом, не раздеваясь, переплыли реку, задами прошли левобережную деревню и по свежим следам наших телег добрались до нашей стоянки. Счастливы были не одни их родственники, уже не чаявшие увидеть их живыми; воспрянул духом весь наш табор, у которого появились пусть всего двое, но смелых и «обстрелянных» защитников.
В белорусском лесу мы пробыли без малого три месяца: вошли туда в первых числах июля, вышли двадцать пятого сентября. Для меня, моего брата-ровесника и, думаю, других детей-сверстников это время стало огромным душевным опытом и жизненным периодом, бесподобным по нераздельности в нем мрака и света, постоянного страха и редкого, но тем более сильного восторга.
Страх и мрак питались неотвязной общей мыслью о немецко-полицейской облаве. Преследуемые ею, мы день за днем внедрялись в почти нехоженую лесную чащу, по три раза в течение суток меняли места стоянок, разводили костер, только построив над ним развевающий дым шалаш. И мгновенно разбегались по приготовленным земляным или ветвистым укрытиям, заслышав над лесом звук «рамы» – так оккупированные жители называли немецкий самолет-разведчик в форме трапеции (концы длинных передних и коротких задних крыльев у него соединялись дополнительными планками). Уродливый двойник нашего боевого «кукурузника», «рама» по своим данным, впрочем, едва ли уступала ему: летала очень низко, несла бомбы, порой сбрасывая их, как это однажды случилось с приснянскими рыбаками, прямо в костер.
У детей был и особенный страх – за матерей. Люди, родившиеся и выросшие после войны, иногда недоумевают: как, мол, могли вы чувствовать и понимать состояние взрослых в своем шести – семилетием возрасте? Верно, нормально развивающиеся дети и в самом деле крайне редко понимают, да и не должны понимать, глубину родительских переживаний. Но дети войны жили и взрослели не в нормальных, а в глубоко драматических условиях. Им были понятны страдания и их братьев и сестер, но прежде всего матерей. Читатели рассказа А. Платонова «Семья Иванова» (1946), наверное, запомнили изображенного в нем подростка, чуть ли не состарившегося под навалившимися на него преждевременными семейными заботами. Мы с братом-ровесником с шести лет помогали маме на огороде: пропалывали гряды, окучивали картошку. Но и по сей день я радуюсь своей выдумке, вызвавшей у нашей мамы улыбку в тот вечер, когда что-то особенно сильно угнетало ее. С братом Аркадием мы вернулись с реки, где он поймал несколько небольших окуней. «Если есть, – подумал я, – окуни, значит, должны быть и окуни-хи. И ходить, то бишь, плавать, они должны, как наши деревенские женщины, в платочках». Об этом я и спросил маму. Хитрость была немудреной, но на минуту матери стало легче.
Душевный свет и даже восторг порождался в первую очередь самим лесом, его тайной, независимой от нас жизнью и переменами от буйного летнего расцвета к осеннему увяданию. В июле в нем были ягоды – редкая земляника на полянах и густые заросли черники в высохших на время болотах. Та и другая были неимоверно вкусны с молоком, надоенным у наших буренок-«партизанок», как прозвали их коровьи хозяйки. С середины августа пошли грибы – подосиновики и подберезовики и масса белых. Нашим детским делом было собирать их, жарили на костре старшие.
Захватило нас и зрелище «боевой подготовки» трех наших мужчин – пары двадцатилетних жителей Однополья и моего, к тому моменту уже шестнадцатилетнего брата Аркадия. Помянутая подготовка началась где-то в конце августа, когда на очередную нашу стоянку пришел сорокалетний невысокий, но крепко сбитый уроженец то ли Присна, то ли какого-то иного из соседних сел. Это был хорошо известный в предвоенные годы однопольцам районный ответработник, а ныне – партизан-одиночка. Говорили, что он, хорошо зная всю округу, как бы специализировался в наказании особо услужливых к немцам старост и полицаев: ночью проникал в их дома и в первый раз предупреждал о неминуемом возмездии, а во второй – и вершил его.
Обучать наших мужчин он начал с метания гранаты, которую носил на поясе. Учеба проходила на большой поляне, окруженной детьми, взиравшими на нее во все глаза. Лучше, т. е. дальше других, бросал ее один из двадцатилетних жителей Однополья. Мы же с братом-близнецом были в восторге, когда его одногодку однажды едва не перебросил наш Аркадий. Формирование полноценных партизан, впрочем, на этом закончилось – наставник, должно быть, берег патроны своего нагана, а может быть, учитывая наши страхи, попросту не рискнул стрелять. И вскоре нас покинул.
Мы же продолжили движение на восток, все глубже залезая не просто в чащобный, а во все более болотистый лес, пока в середине сентября не уперлись в настоящее болото с редкими кочками и довольно чахлым сосняком. Отступив метров на пятьдесят, решили оборудовать замаскированный долговременный лагерь. Дело в том, что шли мы, по существу, наугад, так как никакой достоверной информацией о том, где «наши» и где немцы, не располагали. Радиоприемников в Однополье не имелось и до войны; иных способов добыть какие-то сведения о положении на фронте в лесной глухомани не было. Давящая неизвестность усугублялась начинающимся голодом. Ягоды отошли давно, грибы зачервивели; из коров накормить собранной пожухлой травой можно было одну-две, остальных зарезали, но до порчи мяса успели съесть лишь небольшую его часть. К тому же без соли и плохо прожаренную. В довершение всего кончились спички, искру выбивали единственным кресалом, так что зажечь лишний костер стало непросто. Зарядили дожди; грязную и обветшавшую одежду сушить было негде.
Что ждало нас, продлись это положение еще месяц, представить нетрудно. Возвращаться назад не было ни сил, ни смысла. Вперед – некуда. С первыми заморозками пошли бы болезни, при людской скученности неизбежно эпидемические…
В состоянии все большей безнадежности прошло несколько дней. Но на следующий, как нарочно какой-то и без солнца светлый день, мы вдруг услышали с юго-востока от нас необычный шум: иногда лязганье металла, глухие рывки моторов, а главное, голоса и отдельные слова, но русские или нет, разобрать не удавалось.
Все опять застыли на своих местах, как тогда в речной лозе в первый день бегства. Первая мысль: «Облава – немецкая или немецко-полицейская! Бежать, прятаться!». И снова наша мать, схватив за руки меня и Женю, бросилась от лагеря – теперь к болоту; там, по пояс в грязной студеной воде, перенесла сначала брата, потом меня на поросшие желтой осокой кочки, нарвала травы с других и, приказав сидеть неподвижно, с головами накрыла нас ею. Сама вернулась в лагерь, думая, видимо, при необходимости отвлечь карателей собою, подобно тому, как это делает степная птица, когда к гнезду с ее птенцами приближается человек.
Вновь прошли напряженнейшие пять, десять, двадцать минут, но «облава» не приближалась, хотя голоса и металлические звуки доносились в наш лагерь по-прежнему. Вдруг, как рассказывала позднее мама, кто-то из женщин радостно произнес: «Да это наши, я слышу – кому-то кричат по-русски!». Это походило на правду. Все же большинство беглецов, посовещавшись, решили послать одного из наших мужчин на разведку. Потянулись новые минуты ожидания – он не возвращался. «Схватили! Значит – все-таки немцы и полицаи!» – мелькнуло у многих. Но полицаи, тем более немцы не стали бы тянуть с расправой, а их, как и раньше, не было. Наконец десятки глаз, смотревших из нор в земле и под поваленными деревьями, из-за косогора и замаскированных телег, разглядели идущих в направлении к лагерю троих мужчин. Один был нашим «разведчиком», а двое других, в шинелях внакидку, должно быть, командирами Красной армии. Но вот странность: на плечах шинелей красовались золотистые погоны, которых – все отлично помнили это – до войны у офицеров «рабоче-крестьянской» советской армии не было и быть не могло…
Какой-то миг сомнений сменился всеобщим ликованием, как только измученные люди, так долго ожидавшие возврата своих, увидели физиономии подходящих к ним командиров – открытые, скуластые и курносые настолько, что ошибиться было немыслимо. Да, это были только они, только наши!!! Что тут началось! Оборванные, в земле и грязи, но плачущие от счастья женщины и дети, опережая друг друга, со всех сторон бросились к своим спасителям, так что на каждом оказалось чуть не по двадцать обнимающих и целующих его человек, в итоге вместе повалившихся на землю.
Со своих болотных кочек мы с братом увидели тех же офицеров еще метров за тридцать от лагеря. И почему-то сразу поверив в них, сползли в холодную воду (она оказалась нам по грудь) и, выбравшись из болота, прибежали к нашей стоянке в тот момент, когда пришедшие уже поднимались из образовавшейся людской кучи. Навсегда запомнилось выражение их почти юных лиц – смущенное и как бы виноватое. «Мы еще ничего толком не сделали для вас, – говорили взгляды этих, должно быть, только что призванных на фронт выпускников какого-то военного училища, – а вы так нас благодарите! Нам, право, совестно».
Как выяснилось спустя время, с каждым днем углубляясь в лесные недра, мы в конце концов остановились у непроходимого болотного массива в форме огромного треугольника, острым углом к нам, а далекими противоположными – к северо-западу и на северо-восток. Ни немцам, ни нашим войскам его территория нужна не была. Но, наступая в 1943 году по широкому белорусскому фронту, наша армия какой-то из своих частей все-таки сблизилась с той юго-восточной оконечностью, где располагался наш последний лагерь.
…За молодыми армейскими лейтенантами к нам вскоре пожаловали какие-то чины военной разведки и СМЕРШа. Первым мы фактически не пригодились, ибо, проведя три месяца в лесу, ничего важного о «противнике» сообщить не могли. Вторые заинтересовались лишь нашими парнями призывного возраста, вскоре мобилизованными и отправленными на госпроверку. Зато наших вопросов к ним было много: чем нам питаться, как добраться до родных мест и где там жить, если своя деревня немцами сожжена. Ответы тоже были разные. Питаться предлагалось за счет крестьян, в отличие от нас, «оставшихся в немецкой оккупации» и, следовательно, «предателей». До родных деревень следовало добираться, идя за Красной армией; вместо постройки новых изб там при необходимости отрыть землянки. Замечу попутно, что мои дед Фрол и баба Люцина, по какой-то случайности не расстрелянные немцами, вернувшись на однопольское попелище, действительно соорудили, как и прочие их старики-односельчане, землянку, в которой и жили до самой смерти Сталина.
Путь же нашей семьи, состоящей из мамы и трех ее детей, повзрослевших не годами, а пережитым, пролегал по фронтовым тылам в российское село Брянщины – Новый Ропск.
Мешок картошки
До Нового Ропска мы добрались лишь пятого ноября. Дожди, танки, артиллерийские тягачи превратили дороги в настоящее месиво, сверх того нередко обстреливаемое немцами из дальнобойных орудий. На третий день после встречи с нашими, двигаясь еще вдоль леса, мы попали и под невесть чью минометную атаку с душераздирающим визгом ее снарядов. К тому же наши древние зипуны и сапоги «на вырост», предусмотрительно в день бегства из Однополья взятые матерью у деда Фрола и бабы Люцины, прохудились настолько, что идти можно было только в сухие и не морозные дни, остальное время пережидая во всякой деревенской хате, куда нас не побоялись впустить. И где за любую еду мы «расплачивались» какой-то частью той одежды – маминой или детской, которую полтора года назад смогли в «рюкзаках» из большого старого мешка принести в Однополье.
На ту же «валюту» мама рассчитывала хотя бы первое время просуществовать и в Новом Ропске. Но надежда оказалась напрасной: небольшая яма в саду со спрятанными в ней весной 1942 года довоенными родительскими пальто и костюмами была найдена и опустошена то ли отступавшими немцами, то ли, скорее всего, соседями, в годы оккупации тоже, конечно, не роскошествовавшими. Нас встретила пустая холодная изба и пустой огород с таким же приусадебным участком. На смену октябрьскому полуголоду в белорусском лесу шел голод уже полный и ежедневный…
Сколько-нибудь долго защитить от него целую семью не могли и жившие в Ропске старшие мамины сестры. У Парани (Парасковьи) на руках были наша престарелая бабушка Маша, больной муж и с детства нетрудоспособная дочь, а помощницей – только девятнадцатилетняя племянница-сирота Алла; Фекла, до войны поднявшая на ноги пятерых сыновей и двух дочерей, все, что имела, отдавала многочисленным внукам, в первую очередь четверым постоянно голодным детям моей двоюродной сестры Татьяны. Самая красивая, способная и добросердечная из женской маминой родни, Татьяна в войну пострадала больше всех. «Похоронку» на мужа она, беременная последним ребенком – будущей дочкой Любой, получила еще в августе 1941 года, рожала уже при немцах, а в 1943-м, когда, уходя из Нового Ропска, они с одной стороны подожгли его, огонь вместе с десятью из общих трехсот уничтожил и ее хату…
Средства к нашему спасению надо было отыскивать самим и как можно быстрее. Узнав, что в средней школе Ропска нужны учителя, мама через день пошла преподавать русский язык и литературу ребятам, сидевшим в нетопленных классах, без тетрадей и с пустыми чернильницами. Но что можно было купить на зарплату учительницы в семьсот рублей, если один коробок спичек стоил сотню? И чем прожить целый месяц до будущей зарплаты?..
Первый из пришедших нам, детям, ответов на этот вопрос невольно подсказала опять же мама. «Эх, если бы, – вслух подумала она, – занять у кого-нибудь мешок картошки. Тут бы и супы, и каша, и драники, даже котлеты.»
«В самом деле! Картошка – это все!» И в Ропске, где ее издавна выращивали не только на приусадебных, но и дальних полях, она там непременно была. Ведь как бы тщательно ни собирали ее осенью, всегда на десяти-двадцати квадратных метрах можно было, покопавшись в земле, найти пару, а то и тройку незамеченных клубней. Правда, теперь, после освобождения села, и они считались собственностью колхоза, а не того, кто их нашел. И за них, как за десять колосков ржи, подобранных на сжатой колхозной ниве, не мы, так мама могла отправиться на десятилетие в какой-то из сибирских лагерей.
Но идея уже овладела мной и братом Женей, которому я сообщил ее в тот же вечер. Договорились лишь держать ее в тайне от мамы и Аркадия, в свои шестнадцать лет также, по одному из сталинских указов, подлежащего уголовной ответственности. А утром, только мама ушла в школу, мы, спрятав за пазухи свои мешковинные «рюкзачки», бегом устремились за деревню и через полчаса были на одном из картофельных полей. Сначала безрезультатно палками и ногами рыли уже затвердевшую холодную пашню, но первый клубень, видно, оголенный дождем, заметили почти на ее поверхности, через несколько минут – под земляными бугорками – второй, третий. Часа два спустя в наших «рюкзаках» было, наверное, килограмма по три картошки…
Домой возвращались не улицей, а огородами и с двояким чувством: немалый страх смыкался с неким, будто правым вызовом – не ясно, правда, кому именно. А может быть, мы своим, еще не искаженным детским разумением интуитивно сознавали, что ничего преступного в нашем поступке нет, так как собранная нами картошка в ином случае очень скоро бы замерзла, не принеся никому никакой пользы.
В хате картошку спустили в подпол, надеясь уверить маму и Аркадия, что там мы ее случайно и нашли. Не сообразили, что, пролежи она там даже в тепле полтора года, и крепкие клубни преобразились бы в торчащие из сморщенных останков длинные бледно-зеленые ростки.
С возвращением матери и старшего брата из школы обман наш раскрылся немедленно; предвкушаемая же нами общая радость обернулась глубоким маминым испугом за нас, всю семью, и нашим – за нее, с мгновенно побледневшим лицом растерянно опустившуюся на табуретку. Было и другое наказание за наше своеволие: добытая картошка оказалась изрядно подмороженной и, сваренная целиком, расползалась невкусным кисельно-синеватым тестом.
И все же наша с Женей инициатива совсем вредной и зряшной не стала. Как некогда декабристы Герцена, она «разбудила» воображение Аркадия. До сих пор в моем рассказе он по понятной причине заслонялся нашей матерью, – убежден, одной из самых детолюбивых и самоотверженных матерей за всю историю человечества. Но, девять лет до моего с Евгением рождения остававшийся единственным ребенком, однако отнюдь не маменьким сынком наших родителей, Аркадий на семнадцатом году своей жизни был близок матери еще больше, чем физически и психологически, душевно и духовно. Он оставался с матерью младенцем, когда наш отец проходил военную службу в кавалерийском полку под командованием будущего советского маршала Г.К. Жукова, потом – в двенадцать-тринадцать лет, совпавших с военной польской кампанией 1939-го и финской войной 1940-го годов, затем в течение трехлетия немецкой оккупации и с нею же пребудет до осени года 1946-го, когда отец наконец-то однажды ночью постучится, воро-тясь с войны, в окно нашей новоропской хаты. У матери он научился до школы читать и писать, с тех же пор перенял ее страсть к чтению, от нее же унаследовал и чувство слова, сделавшись впоследствии широко известным на Брянщине журналистом и писателем.
В опаснейшие дни наших хождений из Нового Ропска в Однополье и из белорусских лесов – в Новый Ропск, все годы под немцами Аркадий был самой надежной и стойкой опорой нашей матери в деле спасения своих младших братьев и всей семьи. Он не помогал, а работал наравне с нею и на однопольском огороде, и во время общедеревенской рыбной ловли в старицах Сожа, и в извлечении из его главного русла бревен-плавунов, что, высушенные за лето, шли на зимнее отопление дедовой хаты. В Ропске же ему придется без всякой скидки на ослабленный юный организм выходить с пожилыми колхозниками на покос и заготовку сена, вывозить на поля навоз, а на огородах сельчан вместо лошади впрягаться, вкупе с несколькими женщинами, в плуг или тащить за собой впряженную в него корову.
В злополучный для нас с Женей вечер Аркадий придумал свой способ добыть мешок картошки. В деревне Сачковичи, в двадцати километрах от Нового Ропска, жила младшая сестра нашего отца, тетка Ефросинья – Франя. До войны она подолгу гостила у моих родителей, а последние школьные годы и полностью провела у них, с их же помощью закончила учительский институт, став, как они, сельской учительницей. По словам матери, даже замуж Франя вышла не без содействия нашего отца, в ту пору директора «школы сельской молодежи». С начала и до конца немецкой оккупации она не покидала Сачкович и по крайней мере собственную картошку наверняка имела. Вот у нее и решил позаимствовать хотя бы мешок этой «подпоры хлебу», как, согласно В. Далю, звалась на Руси картошка, Аркадий.
До Сачкович, впрочем, следовало сначала добраться, да и вернуться с такой ношей без санного пути, а снег все не выпадал, было бы немыслимо. Требовалось во что бы то ни стало почти на два дня выпросить лошадь и телегу – конечно же, в недавно восстановленном колхозе, где то и другое было на строжайшем счету. До сих пор не понимаю, чем и как разжалобили Аркадий и мама местного колхозного председателя, по слухам, суровейшего к любым «личным», а не «общественным» нуждам безрукого фронтовика, но он дал лошадь, по-видимому, отлично понимая, что сидевший перед ним сын учительницы отработает за сделанное его семье добро не одним «пустопорожним» (по Твардовскому) трудоднем.
Рано утром следующего дня Аркадий уже стоял у колхозной конюшни и часа полтора спустя выехал, минуя нашу хату, за околицу в направлении Старого Ропска и Сачкович. По нашим расчетам, у тетки Франи он мог быть еще в полдень, но вернуться домой, дабы не переутомлять лошадь и не ехать в потемках, что было очень опасно, – только назавтра, где-то часам к десяти-одиннадцати утра…
Прошла ночь, мы с Женей, вообще не ходившие этот год в школу (было не в чем; читать и писать нас учил Аркадий), и по случаю воскресенья не пошедшая туда мама нетерпеливо поглядывали в уличные окна нашей хаты. Вот уж совсем обутрело, в обе стороны проехало несколько телег, но все чужие. Время тянулось страшно медленно; мама попыталась готовиться к урокам; нам чем-то отвлечься не удавалось, к тому же очень хотелось есть. Перед глазами так и мерещилась отваренная в чугунке, зарумянившаяся сверху картошка. Но вот уже явно больше одиннадцати, с нарастающей тревогой ждем еще и еще, а в голове вертится недавний слух о банде грабителей и убийц, орудовавшей ночами в наших местах, – слух, ставший, кстати сказать, через четыре года, когда банда эта была поймана и судима в городе Новозыбкове, жуткой явью.
Наступил момент, когда, уверен, каждому из нас, Жене, мне, маме, захотелось бежать, все равно – к соседям ли, прохожим, в сельсовет – и просить, умолять о каком-то содействии, помощи. Но тут кто-то стукнул в наше оконное стекло – то был посланец из колхозной конюшни: там тоже беспокоились. Открывая ему калитку, мама во все глаза всмотрелась в край улицы, где в эту секунду показалась сперва запряженная лошадь, а затем и правящий ею Аркадий.
Мама крикнула нам, и все мы бросились ему навстречу. Сын и брат был невредим, но крайне подавлен. Он виновато глянул на нас, потом на телегу, где, кроме подосланной для возницы соломы, больше ничего не было.
Обычно весьма скупая, тетка Франя, обремененная и сама двумя мальчишками чуть старше нас с Женей, не забыла сделанного ей добра, и до полуночи расспросив, ужасаясь и ахая, Аркадия о наших лесных и дорожных скитаниях, поутру нагребла ему из подполья добрый мешок отличной картошки. Попотчевав племянника на завтрак даже яичницей, она помогла ему уложить мешок на заднюю часть телеги, бросила немного соломы на ее перед, и Аркадий, благодарный ей несказанно, выехал из Сачкович. День был по-ноябрьски студеный и зябкий, побудивший брата поглубже втянуть голову в воротник старого зипуна, но без снега и довольно светлый. Лошадь, которой что-то перепало в теткином сарае, шла бойко, так что телега подпрыгивала на комках уже затвердевшей дорожной грязи. На более гладких участках плохо выспавшегося брата клонило в сон, и он на несколько минут забывался.
Так прошла большая часть пути. На подъезде к Старому Ропску дорога сперва поднималась в гору, а уже в самой деревне спускалась в низину, почти овраг, хотя весьма широкий и долгий. Собираясь попридержать лошадь, Аркадий впервые обернулся, взглянул на только что осиленный подъем, потом на телегу за собой и с ужасом понял, что она пуста… Мешок с картошкой исчез, и что нелепей всего, его не украли – ведь все это время на дороге он, Аркадий, был явно один! – он сам сполз к краю телеги и на каком-то очередном ухабе с нее свалился.
Помните, в повести Льва Толстого «Поликушка» дворовый мужик Поликей, человек не без слабостей, но честный и правдивый, везет в своей зимней шапке большую сумму ассигнаций, доверенных ему с «воспитательной» целью его барыней. На каком-то километре заснеженного пути он вдруг обнаруживает: изношенный верх шапки под напором свернутых денег лопнул, и они незаметно для Поликея упали в сани, а с них – на заметаемую порошей дорогу. Потрясенный перспективой обвинения в воровстве, герой «Поликушки» возвращается в людскую, где его супруга купает в корыте их младенца, пробирается на чердак и вешается. Жена, услышав об этом, бросается по его следам, забыв в корыте младенца, который захлебнулся.
Не знаю, прочитал ли к своим шестнадцати годам наш старший брат эту толстовскую повесть, но, думаю, в момент своего страшного открытия он пережил не меньшее отчаяние, чем ее герой. Однако, преодолевая себя, немедленно повернул коня и, стегая его вожжой, рысью погнал назад. Так, давая плохо кормленной колхозной савраске передышку лишь на изгибах и поворотах дороги, где он особенно надеялся увидеть свою драгоценную поклажу, Аркадий, одолев вспять почти пятнадцать километров, въехал в Сачковичи. И лишь добравшись до дома тетки Франи, осознал: потерянного ему не вернуть. Дело в том, что сами Сачковичи от теткиной хаты до их околицы на пути в Новый Ропск растянулись улицей едва ли не в три версты, и на ней было предостаточно ухабов, чтобы мешок с картошкой покинул телегу брата еще в этом селе. А коли так, то он давно уже был в чьем-то подполье.
Бесконечно обвиняя в случившемся только себя, брат не отважился просить новую меру картошки у тетки Франи, и, не заходя к ней, пустился в третий раз по одной и той же дороге, но теперь только домой. Он понимал: надо по крайней мере успокоить мать и братьев на свой счет, а также поскорее вернуть выпрошенную в колхозе лошадь. Но гнать ее он уже не рискнул, поэтому приехал в Новый Ропск куда позже, чем собирался.
Наша семейная катастрофа с мешком франиной картошки, как обычно в деревне, назавтра же стала известна соседям, а от них – маминым сестрам Паране и Фекле. И неожиданно для нас впечатлила-усовестила их. Представив себе, что единокровная сестра Ирина, пятнадцатью и двадцатью годами моложе их, и трое ее детей, родных их племянников, могут и впрямь помереть от голода, Параня и Фекла впервые пришли к нам с деловым предложением. Мы должны были забрать к себе бабушку Машу и сироту Аллу, а нам за это обещалось два пуда ржи, четыре мешка картошки и даже двухлитровая банка растительного (конопляного) масла, или олея, как почему-то по-латыни именовалось оно в наших краях. «Ти лили олей в бульбу?» – будет спрашивать нас, например, бабушка Маша, желая знать, поливал ли кто-нибудь из завтракавших членов семьи этим маслом картошку. У олея было и иное, но также чрезвычайно важное назначение – им заправлялись лампады, горевшие в домашней божнице.
Дары маминых сестер от смерти нас оборонили, но от болезней нет. Авитаминоз и нарушенный обмен веществ наградили мое тело большущими нарывами (в просторечии – «скульями»), а носоглотку – аденоидами, сделавшими меня на три года глухим и, следовательно, нещадно гонимым сверстниками; более крепкий от природы Женя не вылезал из гриппов и ангин, заложивших его будущую сердечную недостаточность. Но самым жестоким образом военный голод и непосильные даже для выносливой крестьянской дочери и ее сына нервно-психические перегрузки отразились на здоровье и судьбах нашей матери и брата Аркадия.
Мама заболела осенью 1944 года туберкулезом легких в открытой форме. Отныне она должна была навсегда покинуть школу, которую, гордясь званием учительницы, бесконечно любила. Но продолжала, часами стоя у русской печи, выкраивать нам из двух-трех продуктов что-то калорийное и даже вкусное. А месяц спустя изыскивать любые средства из доступных в разоренной, не имеющей ни одного врача деревне, чтобы спасти от того же легочного туберкулеза и заболевшего им Аркадия.
В отличие от нас с Женей, он после возвращения в Новый Ропск сразу же пошел в школу, наверстывая пропущенный в Однополье учебный год. Но ходил он туда в дырявом, не подлежащем ремонту зипуне и растрескавшихся сапогах, равно пропускавших и воду и снег. И вот – также острый процесс с кровохарканьем…
Каких душевных сил стоило нашей матери держаться самой и, казалось, одной лишь волей поддерживать, оберегать и вдохновлять к сопротивлению болезни своего старшего сына, помощника и друга. Мне и Жене было велено ежедневно ходить по очереди к тетям Паране и Фекле за поллитровой бутылкой парного молока. И мы с братом-ровес-ником чувствовали себя невероятно счастливыми, когда приносили домой не одну, а две полные бутылки – одну для мамы, другую для Аркадия и при этом удерживались от страстного желания хотя бы по глотку отпить из них самим.
Мама спасла и своего старшего сына, и нас с Женей до прихода с войны отца. В 1946 году мы все вместе на открытой железнодорожной платформе в составе поезда-лесовоза переехали из Нового Ропска в районный Новозыбков, где мать и отец недолго проработали до войны. Там был туберкулезный диспансер и один-два внимательных врача. Отец стал работать воспитателем спецдетдома для детей погибших в войну офицеров. По праздникам на обед или ужин туда приглашали и детей самих воспитателей. Мы с Женей тоже не отказывались от них, особенно весной, когда дома истощался урожай нашего огорода, а в городском магазине не удавалось, даже заняв очередь с вечера, получить на карточки причитающиеся семье четыреста граммов хлеба.
Но все же на таких обедах нам бывало стыдно. Ведь ситуация с нашим питанием в Новозыбкове значительно отличалась от тех дней, когда мы лишились мешка не помороженной, а отборной теткиной картошки.
Лебеда
Я увидел его сразу, как только, ступив из двора нашей хаты на улицу, закрыл за собой звякнувшую тугой щеколдой калитку…
Немец стоял ко мне спиной, но у прямо противоположной нашей избы трех сестер Соколовых, так что нас разделяли какие-то семнадцать-двадцать метров. Было июньское воскресенье первого послевоенного года, и старые девы Соколовы из местных староверов, сидя на своей лавочке, богоугодно отдыхали. Но вот в ответ на какую-то просьбу немца самая пожилая из них поднялась, ушла в дом и скоро вернулась с чем-то зеленым в руке, протянув это просителю. Немец положил дареное в небольшую холщевую сумку, произнес, наклонив голову, скорее всего «Danke schon!» и, заметив, развернувшись, меня, шагнул в мою сторону.
Момент для исполнения давно данной себе клятвы был идеальный. Моя правая рука сама собой скользнула в карман, сжав припасенный на этот случай увесистый медный краник от изуродованного «ведерного» самовара – также, думалось мне, невинной жертвы едва пережитой страшной войны, к виновникам которой у меня за четыре года созрела и своя личная ненависть и немалый собственный счет…
Они начинались с впечатлений уже первого военного ноября, когда немцы вошли в Новый Ропск и мы со смесью страха и любопытства глядели сквозь заборные щели на череду длинных пушек дулами назад, движимых парами мощных и рослых битюгов с густой шерстью внизу голеней, а также на колонны солдат, один из которых, вдруг отделившись, вошел в наш двор, потом в хату, где остановился у топившейся печи. Перепугав своим появлением маму и брата Аркадия, он, впрочем, всего лишь погрелся. Однако в полдень следующего дня мы и все наши соседи были собраны на нашей широкой улице (в отличие от кривых и узких переулков, она, застроенная ровно и просторно, звалась в Ропске Планом), как выяснилось, для акции устрашения. Посредине уже заснеженного Плана стояли сани; на них лежало трое мужчин. Но странно – головами не к лошади, как обычно ездили в упряжке, а от нее и на совершенно голых санях без клочка подстеленного сена или соломы. Лишь подойдя вплотную и увидев на неестественно белых лицах лежавших полосы запекшейся крови, я догадался, что это мертвые. Так произошло мое первое знакомство со смертью.
В качестве «коммунистов» расстреляны были три работника сельсовета, как-то застрявшие в Ропске до немецкого прихода. Убили их в глубоком овраге (по-местному, рву), центре зимнего катания малых и взрослых ропщаков на санках или больших санях, заодно с несколькими (точного числа никто не знал) евреями, захваченными в окрестных деревнях.
Следующее знакомство с немцами чуть не кончилось уже нашей с Женей смертью. Мы с дворняжкой Шариком неосторожно вышли на улицу, когда с западной стороны на ней показались мчавшиеся друг за другом немецкие мотоциклисты. Первый проскочил мимо, не обратив на нас никакого внимания, но наперерез второму вдруг с лаем бросился никогда не видавший мотоциклов Шарик. Немец резко затормозил, снял со спины автомат и, так как отнюдь не воинственный Шарик, сообразив, в какую переделку он по своему невежеству попал, мгновенно бросился наутек, то есть под нашу с братом защиту, – длинной очередью полоснул ему вслед. Мы не успели испугаться, но жуткой бледностью покрылось лицо нашей матери, тут же выбежавшей к нам. Судьба, к счастью, нас хранила; чудом уцелел и Шарик, с тех пор, однако, посаженный во дворе на цепь.
Читатель предшествующих эпизодов этих воспоминаний уже знает о последствиях для здоровья моей мамы и старшего брата Аркадия долговременного голода и, по существу, постоянного нервного стресса, которые принесла им война. В свои десять лет я проклинал ее, безмерно ненавидя не того всевластного «хозяина» СССР, что с преступной безответственностью сначала держал свой народ в неведении, а после захвата немцами огромной части страны объявил советских военнопленных преступниками и миллионы оккупированных жителей предателями, но только самих зачинщиков войны.
А ими были немцы. И мне мало было возмездия, полученного где-то в немецком Нюрнберге высокопоставленными подельниками Гитлера. Для меня всякий немец в военной форме, каких я видел, тоже был гитлеровцем.
Встречать же немцев я продолжал и в послевоенном Новозыбкове. Чаще всего это бывало, когда в свои, а не Женины (мы заменяли друг друга) дни недели я был обязан раздобыть корзину ботвы для заведенного матерью поросенка. Сочней всего она вырастала у свеклы и других корнеплодов, но наш куцый городской огород отдавался прежде всего под картошку и одну-две грядки моркови и салата. Как выяснилось, с ботвой во вкусах не только поросенка, но и нас самих успешно соперничала лебеда (ее клали и в суп), и не одна огородная, где она быстро кончалась, а та, что обильно росла в оставшихся от военных бомбежек новозыбковских развалинах с затененной и влажной в любую жару землей. Больше всего их было в центре города, куда строем, на восстановление зданий, приходили под охраной и пленные немцы. Не раз, проходя мимо, я сжимал свой самоварный краник, собираясь метнуть его в кого-то из моих врагов, но… что-то невольно меня останавливало. «Нет, при конвоирах, – оправдывал я себя, – это не годится, другое дело, если бы столкнуться с гитлеровцем один на один».
И вот такой момент наконец-то настал. Немец сделал уже несколько шагов ко мне. Я прекрасно различал его пилотку в виде опрокинутого сдавленного котелка с козырьком, изрядно поношенный, но чистый и опрятный френч с нагрудными карманами и такие же брюки («Где и когда они успевают их стирать?» – пронеслось у меня), истертые, но цельные ботинки с коротким голенищем и самую физиономию, осунувшуюся, но не истощенную и, что больше всего меня возмутило, – добродушно и как-то смущенно улыбающуюся…
Как я понял позже, ко мне приближался унтер-офицер или солдат в возрасте моего родившегося в 1902 году отца, из тех немцев, что были мобилизованы не раньше чем за полгода до окончания войны, и почти сразу попали или сдались в плен. Таких вояк мы с Женей уже без прежней ненависти встретим и в 1948–1949 годах, в том числе и в роли не торгующихся покупателей наших домашних помидоров («баклажанов»), выращенных матерью только на продажу – ради и ничтожной толики денег, собираемых ею на лечение Аркадия.
Но в минуты, которые сейчас описываю, я счел бы себя бесстыдным клятвопреступником даже за малейшее сочувствие к этой вражеской «морде». Я был обязан и был готов мстить. Вот еще пару шагов его ко мне, и он получит все и за все!..
Моя почему-то вспотевшая рука судорожно сжала краник. В ту же секунду звякнула щеколдой наша калитка, и на улицу вышла мама. тоже с какой-то зеленью в руках. Я не верил своим глазам – это была щепотка салата и. два стебля молодой лебеды, из той, что я часом ранее срезал на своих урожайных развалинах. Протянув все это «моему» немцу, которого она увидела в окно, мама услышала в ответ «Danke schon, Frau!», я же, метнувшись мимо нее, убежал в наш огород, где упал на картофельную ботву и горько заплакал.
Сдача
В этот июльский день я возвращался со своей добычей – корзинкой лебеды, судя по солнцу, не раньше шести-семи часов вечера. С утра мы с Женей нанашивали из неблизкого уличного колодца бочку воды для маминых помидор, после обеда их поливали, потом нашлось еще какое-то неотложное дело.
До дому оставалось три коротких конца по соседним улицам, как кто-то сзади крикнул:
– Эй, парнишка, постой!..
Повернувшись, я увидел военного, рукой подзывавшего меня к себе. Это был (знаки различия все дети тогда знали наизусть) капитан-пехотинец, довольно молодой и бравый, но с расстегнутым «не по уставу» воротом и без ремня на гимнастерке, что, впрочем, ничуть не уронило его в моих глазах.
– Тебя как зовут? – спросил он, и я ощутил изрядный запах спиртного. Я назвался.
– А куда ты, Валя, сейчас идешь? Домой? – уточнил он и после моего утвердительного кивка весьма убедительно продолжил. – Слушай, Валюша, ты, наверно, знаешь ближайший магазин, где продается водка. Вот тебе деньги – и он вытащил из правого брючного кармана целую смятую кучу – беги туда и купи две-три поллитры, ну, насколько хватит, а потом дуй сюда! Понимаешь, брат, не хватило…
Последнее можно было и не объяснять: из распахнутого окна дома, у которого мы стояли, слышались звуки патефона, и на секунду показалось веселое лицо девушки.
Отказать своему офицеру, конечно же, фронтовику. нет, это не для меня!.. Только вот мама – она не предупреждена, будет волноваться. По-своему поняв отразившееся на моем лице замешательство, капитан полез в карман гимнастерки и достал еще денег, комком вложив их с прежними сначала в мою руку, а так как они туда не вмещались, – просто в мигом замотанный подол моей майки.
Решив прежде забежать домой, я переложил деньги на дно корзины и, как говорится, изо всех ног бросился исполнять столь необычное, но «уважительное» для любого мальчишки поручение. Увы, трудности возникли сразу: магазин в нашем околотке, действительно, существовал, продавалась там, как я видывал, выстаивая очереди за хлебом по карточкам, и водка, только он был, как, вероятно, и другие в городе, уже закрыт. «Что же – значит, вернуться к капитану ни с чем?!», – не на шутку заволновался я. И вдруг – Эврика! – я вспомнил: водка может, должна быть на железнодорожном вокзале.
Чтобы поскорее и успешней продать очередной десяток маминых помидор, мы обычно приходили туда к пассажирским поездам Москва-Гомель и Гомель-Москва. Заходили и в станционный буфет, за столиками которого в основном сиживали наши городские и командированные офицеры – самые, считалось в Новозыбкове, денежные люди тех послевоенных лет. Тут, как на боевом дежурстве, ежедневно промышлял местный дурень-сирота Вася, парень годов девятнадцати, в видавшей виды солдатской паре с чужого плеча и таких же кирзовых сапогах. Как и всякий его отечественный собрат, Вася был в деле выживания вовсе не глуп, а хитер и даже остроумен. Заметив наметанным глазом буфетных офицеров-новичков, он строевым шагом подходил к их столику и, отдавая честь, зычно говорил: «Господа капитаны (он именовал так всех – от многочисленных младших лейтенантов до редких полковников), хотите, я спою вам самую любимую вашу песню?» И в ответ на снисходительно-любопытное «Неужели? Ну, попробуй.» на весь буфет вполне правильно начинал: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь, Да здравствует созданный волей народов великий, могучий Советский Союз…». Командиры не знали, как выйти из двусмысленного положения: гимн страны им полагалось слушать стоя, но ведь озвучивал-то его. «дурень»? К тому же и назвать его в эту минуту таковым было ой как рискованно.
В этом-то буфете, до которого мне, отказавшемуся от желания сперва уведомить маму, пришлось бежать километра полтора, я и надеялся купить водку. Ее там подавали, правда, в разлив и, конечно, не подросткам, однако со своей кучей денег я мог заплатить куда больше положенного. Но не везет, так не везет. Буфетчица, увидев мою смятую пачку, не соблазнилась, а чего-то испугалась и грозно велела мне «идти откуда пришел».
Из обшарпанного здания вокзала я вышел вконец подавленным. И вдруг мой взгляд упал на небольшой базарный ряд, занимавший часть пыльной привокзальной площади. Там у бабок, мы не раз с Женей видели это, помимо скороспелых яблок и овощей, приобретали и заткнутые тряпичными пробками поллитры самогона. Господи, но это же лучше, чем ничего!..
Несколько женщин еще торговали там, у одной нашелся и самогон, хотя не три, а всего две бутылки; я, рассчитавшись, бросился назад. Меня грызла мысль, что мой капитан, сообразив, сколько прошло времени, заключит, что я попросту с его деньгами сбежал. Но теперь я сначала по нашей улице устремился домой.
Мама встретила меня уже около нашей хаты, с красными нервными пятнами на бледном лице. Она волновалась не только за меня. Неделю назад Аркадию в городской больнице сделали односторонний пневмоторакс – так называлась операция по образованию в больном легком воздушного пузыря, который должен был блокировать пораженную часть легочной ткани (туберкулезные «каверны»), отделяя ее от здоровой. Операцию брат выдержал, но, истощенный и измученный уже двухлетней болезнью, был крайне слаб, нуждаясь, как сказали врачи, в специальном питании.
Выслушав краткое объяснение моего опоздания, мама было отпустила меня, но в последний момент захотела пересчитать оставшиеся капитанские деньги, чтобы он, капитан, не счел меня воришкой. И для этого прошла с ними в свою комнату. «Здесь еще сто двадцать пять рублей», – сказала она, выходя через минуту и вручая их, уже аккуратно сложенными, мне. Схватив их, я ощутил, что в сравнении с последним комком они как-то облегчились…
У хаты с патефоном и веселой девушкой я, весь мокрый от пота, был минут через пятнадцать. Улица пустовала, но во дворе слышался громкий разговор. На мой стук в калитку ее открыл сам капитан, явно пораженный и моим явлением, и двумя бутылками самогона, которые я держал в руках. «Ты?!..» – только и произнес он, уже основательно оглушенный выпитым, но по-прежнему симпатичный мне. И сделал совсем круглые глаза, когда я протянул ему сдачу в сто двадцать пять рублей от его денег. Помусолив их, будто не узнавая, в руках, он вдруг поглядел на меня, отделил сотенную бумажку и вложил ее в мою руку.
Домой я вернулся счастливым, спеша отдать маме свой гонорар (слово это я узнал от Аркадия). Но ее не было ни на кухне с огромной, как и в бывшем деревенском доме, русской печью, ни в двух других крохотных комнатах нашей хаты. Тогда я вошел в комнату мамину, обычно – из предосторожности (легочный туберкулез заразителен) – для нас, детей, закрытую. Мама была там, и я торжественно показал ей свою сотню. Но, отведя мою руку, она, вся в слезах, прерывающимся голосом сказала: «Сынок, прости меня, ради Бога!…».
Немой
Зимой 1953 года, уже десятиклассниками, мы с братом Женей как-то остановились после уроков возле соседствовавшего с нашей школой довольно крутого и длинного спуска к одному из двух внутренних но-возыбковских озер. Это было любимое место катания – на ногах или на «пятой точке» – наших соучеников, особенно из младших и средних классов. Как во всяком лихом и не безопасном предприятии, здесь вырастали свои мастера и отважные чемпионы. Менее честолюбивые или более осторожные подростки предпочитали оставаться зрителями происходящего, иногда болельщиками какого-то из самых отчаянных и успешных удальцов, стремительно проносившихся на пружинивших ногах с верха обледенелого косогора до его нижней, уже озерной части.
В качестве наблюдателей задержались у спуска в тот быстро темнеющий январский день и мы. Неожиданно кто-то сзади тронул меня за плечо. Я обернулся – передо мной стоял незнакомый парень года на четыре старше меня и брата, немного пониже нас, но коренастый и крепкий. Одетый в какое-то дешевое форменное пальто, он радостно улыбался всем лицом и, необычно выпятив раскрытые губы, тщетно пытался что-то ими вымолвить. Ни я, ни брат ничего не понимали. Тогда он, порывшись в карманах, вытащил оттуда простой карандаш с чистым клочком бумаги и, косо, но разборчиво написав на нем какое-то слово, подал нам. Мы прочитали: «новый ропск»…
Боже-Боже мой, это был не кто иной, как слишком памятный нам по четырем военным годам глухонемой из родной материнской деревни, где наша семья, за исключением воевавшего отца, поселилась в сентябре 1941-го и куда после полутора лет жизни в Белоруссии вновь пришла из леса, чтобы уже летом 1946-го навсегда перебраться в Новозыбков.
Но памятен он был нам совсем не доброй памятью. Наоборот, хилыми и болезненными десятилетними детьми покидая Новый Ропск, мы были уверены, что, выросши и закалившись, однажды специально приедем туда, чтобы без малейшей жалости до полусмерти излупить этого немого, как лупят самого мерзкого и жестокого врага.
Ибо таким он в наших глазах и был в те и без того жесточайшие для нас времена.
Я давно уже понимаю: жестокость и неразлучный с нею культ силы и сильного, а не слабого – одно из неизбежных следствий войны, стоящей, что бы там ни говорилось, на убийстве и страшно обесценивающей человеческую жизнь. В войну сплошь и рядом выживают и преуспевают не совестливые и самоотверженные, а равнодушные к другим, считающие, что цель – спасти ли себя или исполнить людоедский приказ начальства – оправдана любыми средствами и жертвами.
Подобно инфекционным болезням, «естественная» военная жестокость способна заражать и не жестоких от природы мирных людей – взрослых и детей, сознательно и бессознательно находящих ей множество оправданий. Вслед за действительными врагами начинают ненавидеть и неместных, чем-то непохожих, будь они и абсолютно невинны перед их гонителями. Впрочем, ничуть не меньше в такие времена ненавидят и достойных, морально и нравственно возвышающихся над средней массой.
В случае с ненавистью к нам новоропского немого было, видимо, понемногу от каждой из этих причин. Ни я, ни брат никогда и ничем этого нашего преследователя не обидели. Правда, он почему-то приписал нам один столь же оскорбительный, как и грязный жест, бытовавший среди новоропских подростков. Впрочем, только ли у них? Через сорок лет, работая в Будапеште, я однажды увидел его на школьной площадке рядом с домом, где проживала моя семья. Одна из девочек десяти-одиннадцати лет поссорилась с подружкой и вдруг, к моему вящему удивлению, показав на нее левой рукой, поднесла правую сначала к своей попе, а потом ко рту, намекая этим способом на пищу своей противницы. Однако к такому оскорблению новоропского немого прибегал лишь наш сосед, намного его старше и здоровей.
У нашего злопыхателя была своя подростковая шайка (такие существовали тогда и в каждой деревне и в разных ее околотках), с которой он, свободный от школы, устроил настоящую охоту на меня и Женю. Домой после уроков (мы пошли сразу во второй класс) нам приходилось пробираться задами и, даже идя с бабушкой Машей в церковь, надо было смотреть в оба, чтобы не получить удар из рогатки в спину, а то и голову…
Большей частью мы отделывались, удирая от преследователей, терпимыми ссадинами и кровоподтеками, в происхождении которых матери и Аркадию не признавались. Но однажды в августе немой со своей ватагой выследил и поймал нас в километре от деревни, куда мы без разрешения пошли за злополучными колосками. И показал себя настоящим садистом. Он по очереди крутил, зажав в кулак, уши мне и Жене, не слыша наших криков, но наслаждаясь слезами – моими за Женю, а Жениными – за меня.
Сколько бы продолжались эти «соседские» отношения, сказать не берусь. Но в сентябре месяце немой, куривший что попало, однако не имевший бумаги на самокрутки, разбил одно из наших уличных окон и вытащил лежавшую на подоконнике стопку еще довоенных номеров «Литературы в школе». Этого мать простить не могла; она пошла к его родителям, пригрозила сообщить в сельсовет, и наш немой на время унялся.
И вот теперь он искренно радовался встрече с нами, а мы не знали, чем ему ответить. Оказалось, наш детский враг год назад был определен в новозыбковскую школу глухонемых, неподалеку от школы нашей. И был там без привычных ему односельчан очень одинок. Случайно подойдя к заполненному школьниками косогору, он остановился рядом с нами и сразу же нас узнал. Вся, некогда столь долго томившая его злоба к нам, сменилась бурной радостью. Так тому и следовало быть – ведь прежние чужаки отныне становились в чужом для него городе его единственными, при этом отлично известными знакомцами.
Вместо заключения
Читатель этих воспоминаний, а в первую очередь я адресуюсь к своим однокурсникам-филологам выпуска 1958 года, легко заметит: главным «героем» их был не я и не мой брат-ровесник и даже, при всей моей любви к нему, не брат Аркадий. Им была наша мать – сельская учительница 1903 года рождения, тринадцатый ребенок в семье ее родителей, русских крестьян Данилы Степановича и Марии Николаевны (в девичестве – Тюпич) Карасевых из села Новый Ропск, до революции Новозыбковского уезда Черниговской губернии, а ныне Климовского района Брянской области.
Причина этого не только в том, что именно мать, привившая всем своим сыновьям любовь к своему родному предмету – русскому языку и литературе, передала нам и стремление писать, пусть не собственно художественную, а документальную или специальную прозу, какой стали книги Аркадия о брянских партизанах («Так это было». М., 1982; «До первой карательной». М., 2005), книжка Евгения («Автолюбитель в законе». М., 2005) и мои шестнадцать по истории русской литературы девятнадцатого и двадцатого веков. Наша мать сама была одаренной писательницей в мемуарном жанре, оставившей после своей смерти в 1965 году замечательные семейные записки, из которых один раздел был недавно опубликован журналом «Знамя» (см.: «Сестра Галя-Пать-мат Карасева-Мархиева». «Знамя», 2006, № 6).
Настоящий мой текст – всего лишь посильное дополнение к ее воспоминаниям. Есть и другое объяснение тому, отчего 19его главным персонажем явилась наша мать. У войны, говорят, не женское лицо. Это верно. Но так же верно и то, что отечественные войны России никогда не были бы выиграны российскими мужчинами без тех физических и душевных подвигов, которые миллионами свершали в эти годы русские и российские женщины-матери.
Одним из наших воспитателей была война
Из песни В. Берковского на слова Дм. Сухарева
- Скоро, кроме нас, уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу.
Ирина Матвеева
Кроме общего времени и общих учителей, спаявших нас в поколение, было еще нечто общее, что оставило в душах и разуме весьма существенный след, – война.
Большинство из нас вошло в войну лет пяти-шести от роду, а вышло соответственно в девять-десять. Среди студентов нашего курса были и те, что встретили войну подростками, и даже бывшие фронтовики вроде Павла Павловского.
Война оказалась куском жизни, измеряемым особой мерой. До сих пор я, уже очень немолодой человек, ловлю себя на том, что начинаю разговор о чем-то со слов «а вот до войны…», и потом сама удивляюсь тому, что этот отрезок времени кажется непомерно большим по сравнению со всей остальной жизнью.
Что мог помнить шестилетний ребенок? Оказывается, когда покопаешься в памяти, очень и очень многое. Мне, например, кажется, что я помню первый день войны почти поминутно. Вот кое-что из этих воспоминаний.
…Холодное июньское утро. Родители дома. Мама высаживает цветы в клумбу (мы жили на окраине Москвы, в Измайлове, в доме с садом). Я изо всех сил «помогаю». Слышу, как кто-то из взрослых кричит маме: «Ната! Скорей, сейчас Молотов будет говорить. Это война!!!» Я бегу вслед за мамой в комнату, где стоит большой радиоприемник с зелёным глазом и со странным именем СВД-9. Я, естественно, не вполне понимаю, что говорит этот самый Молотов, но чувствую, как в комнату вползает страх. У мамы на глазах слёзы. Отец начинает куда-то собираться и скоро уходит. А день тянется долго, обрастая разными впечатлениями.
Вот два самых запомнившихся из них: идущие мимо дома трамваи, обвешанные людьми чуть ли не со всех сторон, а ещё бабушка, которая ходит по террасе с папиросой и разговаривает с соседом по-немецки, а мама, сделав страшные глаза, кричит: «Что вы делаете?! У нас же война с немцами!».
Она не зря кричала. Через два дня сосед, немец по происхождению, куда-то исчез.
А потом война стала повседневной жизнью. Можно рассказать о многом: и о первой тревоге, и о том, как взрослые рыли так называемую «щель», чтобы прятаться от бомб, и как мама по сигналу тревоги убегала на работу ночью в свою поликлинику, как из-за этого меня отправили на всё лето к бабушке в Каширу, и как отец, отпущенный из части на один день, вывозил нас под обстрелом в Москву, как мы с мамой, бабушкой и теткой уезжали на Урал в эвакуацию в самые страшные дни октября 41-го и о многом другом. Когда-нибудь я напишу об этом для внуков и правнуков.
Кстати, эвакуация была для меня, москвички, открытием нового мира, не только со своими обычаями и бытом, но и с другим языком. Там я впервые поняла, что не все говорят по-русски одинаково, и впервые услышала от бабушки странное слово «диалект». Мама быстро привыкла к говору уральцев, а бабушка почти не понимала их странно напевную и в то же время ритмичную речь. Помню, как хозяйка избы, где мы жили, кричала, как пела: «Ляксандровна-а-а!», – а потом скороговоркой и на «о», – Печина в суп попала!» Мама переводила бабушке: «В русской печке упал кусок глиняной обмазки в наш чугунок с супом».
Удивляло не только то, как говорили деревенские жители, но и как странно, не по-нашему, вели себя. Забившись в угол на мамин топчан, я наблюдала, как обедали хозяева, как дед-хозяин приговаривал: «Эка славна похлёбка, право!». Но самое удивительное было в конце обеда, когда девочка-школьница, взятая в эту семью из другой деревни, благодарила всех членов семьи: «Спасибо, дедка! Спасибо, бабка! Спасибо, Нюра! Спасибо, Шура!». А Шура-то была чуть старше меня.
Больше всего удивляло, что поначалу тут вроде бы и не было войны. Все жили так, будто ничего не происходит. И надо сказать, что в первое время к нам относились не очень дружелюбно, не понимая, зачем эти «куированные» (так мы назывались у местных жителей) приехали, потеснили их, да ещё приходится с ними делиться работой, соответственно и заработком. Мама и тётка работали в колхозе и получали на трудодни немного картошки и муки, которых всегда не хватало, и мама ходила менять вещи на еду.
Но потом всё чаще и чаще стали в голос кричать соседки, получившие похоронки, и, видимо, своё горе смягчило людей и заставило посмотреть и на нас по-другому. Да и бабушка стала соседкам вышивать косынки, которые тамошние женщины носили под тёплыми платками, закрывая ими лоб.
Осознание всего, что происходило, пришло, конечно, потом, когда эвакуация осталась далеко позади. Но впечатления той зимы 1941 – 1942 года отложились в памяти навсегда.
Деревня со странным названием Мягкий Кын стала для меня вечной иллюстрацией ко многим сказкам, а потом и ко взрослой литературе. Все описания русской зимы с сугробами, дымами из труб, дорогой с накатом от саней, с запахом навоза и сухого сена, с крепким настом в марте, по которому можно было ходить, не проваливаясь, навсегда связались с той уральской деревней… Но это так, к слову.
Я начинала писать о войне совсем с другой целью. Военные годы с эвакуацией и трудной жизнью в Москве военных лет (мы вернулись туда осенью 1942 г.), с очередями за хлебом и отсутствием самого необходимого учили ценить тепло и еду, свет и тетрадки, которые не продавали, а выдавали в школе по счету, а главное – доброе отношение человека к человеку, потому что в конечном счете мы выживали все вместе. И хотя встречались люди недоброжелательные и грубые, жадные и жестокие, общий фон создавали другие – добрые и отзывчивые, умевшие сопереживать и сочувствовать, иногда прятавшие за грубостью и жесткостью стремление удержать от какой-то глупости, направить ребёнка или подростка в нужную сторону, чтобы жил.
Это, если хотите, были уроки жизни в обществе, спаянном единой целью, единой мыслью, единым желанием – дожить до победы и жить дальше.
Нельзя не замечать, что военное детство внесло в нашу жизнь особый смысл. И истоки романтизма, который стал одной из черт поколения шестидесятников, стоит поискать в военных годах с их героикой и воспеванием подвигов, с обострённым чувством Родины, с мечтами о жизни «как до войны», с желанием сделать жизнь ещё лучше, красивее, достойнее, уйти от нищеты и голода.
Мы все знаем потрясающие книги о войне и художественные, и мемуарные, встречаются в них воспоминания детские и юношеские, например, дневник подростка в одной из частей знаменитой «Блокадной книги». Но их мало. Детская память несет в себе такие впечатления, которые взрослым были недоступны и не понятны. Немногие уцелевшие отцы, воевавшие на фронте и на производстве, матери, занятые тяжелой работой и воевавшие в тылу за выживание, не знают очень многого из того, что знаем мы.
Вряд ли можно до конца познать свою историю и истоки многих событий второй половины XX века, если не обратиться к памяти детей военного времени. Наверное, стоит собрать воспоминания тех, кто рос в годы войны, и посмотреть их глазами на то, «откуда есть пошла» Россия конца XX – начала XXI века. Нам же нельзя забывать о неоплатном долге перед нашими детьми и внуками, о котором так точно и пронзительно написал один из тех, кто родился в 30-е годы, – поэт Дмитрий Сухарев:
- Вспомните, ребята,
- Вспомните, ребята, —
- Разве это выразить словами, —
- Как они стояли
- У военкомата
- С бритыми навечно головами.
- Вспомним их сегодня всех до одного,
- Вымостивших страшную дорогу.
- Скоро кроме нас уже не будет никого,
- Кто вместе с ними слышал первую тревогу.
Неопубликованное интервью,
или Размышления маленького человека, преподающего причастие, о революции, разнесшей в щепки страну, казавшуюся великой
Светлана Борзенко (Украина)
Хотим мы этого или нет, а жизнь целого поколения, точнее – даже двух-трёх поколений делится на два периода: до и после революции 90-х, поскольку это событие оставило глубокий след в жизни каждого. Я родилась в великой стране. Во всяком случае, мы все в это верили. Вера же была настолько крепкой, что мы, граждане, которых эта страна родила и воспитала, чувствовали себя очень уверенно, а трудности и невзгоды воспринимали как незначительное и временное препятствие на широком пути к великой и светлой цели.
И вот в одночасье все рухнуло.
– Что изменила в вашей жизни демократическая революция? – однажды спросила меня знакомая журналистка.
– Всё, – машинально ответила я.
– И как вы оцениваете случившееся уже с позиции времени?
При этом, казалось, простом вопросе вся моя жизнь вдруг пронеслась перед моими глазами, будто кино кто-то прокрутил.
– Наверное, мои оценки будут слишком субъективными, ведь ни в чём таком не принимала участия, политикой особо не интересовалась…
– Но ведь именно из таких людей состоит народ. Их большинство. Они не ораторствуют на митингах, не несутся впереди со знаменем… Они тихо, скромно и старательно трудятся: кормят и одевают страну, учат детей, лечат, делают научные открытия и занимаются прочими рутинными делами…
Мы о многом тогда поговорили. Но интервью печатать я не разрешила, поскольку искренне считала, да и до сих пор считаю себя просто человеком, преподающим причастие.
Телефонный звонок из Москвы неожиданно вернул меня к этим размышлениям: моя подруга и однокурсница, журналист Татьяна Скорбилина сообщила, что готовится книга о судьбах выпускников факультета, и попросила написать о себе.
И тогда я вспомнила об этом неопубликованном интервью, которое сейчас привожу целиком.
– Вы принадлежите к поколению романтиков– людей, которые, невзирая на жизненные трудности, мечтали о подвигах во имя Родины. Многие сожалели о том, что не родились раньше и не успели поучаствовать, например, в революции 1917 года. Присутствовала ли в ваших мечтах этакая ностальгия по героизму?
– Мечты о революции? Это было до меня. Я принадлежу скорее к поколению созидателей: мы мечтали работать, чтобы сделать страну самой лучшей, самой красивой в мире. При этом понимали – нужно учиться. Боже! Как я хотела учиться! Приехав в Москву, даже мысли не допускала о том, что могу провалиться на вступительных экзаменах. Позже на лекции ходила как на праздник. До сих пор вспоминаю ту особую атмосферу, которая царила (именно царила!) на наших семинарах. Честно говоря, в эти годы я даже не подозревала, что кто-то думает иначе, по-другому оценивает события и процессы в стране, обо всем этом я узнала гораздо позже. Сказывалось, конечно, и воспитание.
Мой отец в Шостке (город в Сумской области) возглавлял «Загот-зерно», а мать в это время яростно торговалась на базаре за каждую копейку, покупая стаканами крупы и муку. И никому даже в голову не приходило, что может быть иначе. Ведь рассказы о голодных обмороках людей, которые работали буквально, что называется, «при хлебе», истинная правда, а не досужие пропагандистские выдумки, как думают теперь многие.
– Понимаю. Студенческие годы – годы особенные. Но ведь вы взрослели. После окончания университета вам пришлось много работать и в разных местах.
– События в стране наталкивали на определенные размышления: «оттепель» шестидесятых…потом «Злата Прага», Афганистан…
– Неужели и мысли не было о том, что не все ладно в родном Отечестве?
– События, конечно, были разные. И с нынешней точки зрения очень даже интересные. Но оценивали их мы, во всяком случае я, совсем по-другому. Шестидесятые мне запомнились бурлением социальных и политических страстей в студенческом обществе. Почти каждый день комсомольские собрания, митинги. Тон задавали, конечно же, москвичи. Они были активнее и значительно увереннее нас, провинциалов. На собраниях обсуждали текущие события и, конечно же, срывали злость на своих же товарищах – детях партийных функционеров. Сказывалось советское воспитание: нужно было найти врага. Нам казалось, что эти дети должны за что-то ответить. Их же «вина» заключалась лишь в том, что их родители получали высокую зарплату. С собраний ребята уходили с опущенными головами. И это только подогревало наше чувство выполненного долга. Я не была политически активной, но я была очень солидарна с такими активистами, тем более что моя мама получала 35 рублей, а папа – 70. Но очень быстро всю критику свернули. Да и критиковать особо не было кого – у нас было мало детей партийных функционеров. Зато было много детей научных работников, литераторов. К ним было совсем другое отношение.
…Помню спецкурс у профессора Николая Калинниковича Гудзия. Это была знаковая фигура в университете. Украинец, бежал от революции, сначала работал в Крымском университете, потом в Москве. Занятия он проводил у себя дома. Мы входили в его кабинет как в храм: огромная комната и – множество книг, картин. Домработница укрывала большой китайский голубой ковер полотном, поскольку профессор категорически не разрешал студентам снимать обувь. Именно у него я увидела полное издание произведений Льва Толстого – 90 томов. И вот на одном таком занятии Николай Калинникович встает и говорит: «Прежде чем начать семинар, я хочу поздравить дочь Мусы Джалиля с тем, что журнал «Новый мир» опубликовал стихи ее отца».
Она встала, опустив глаза, как полагается восточной девочке, и тихо поблагодарила. До этого момента мы даже не знали, что наша скромная и застенчивая подруга – дочь великого человека и поэта. Ее отца, долго просидевшего в застенках концентрационного лагеря, в это время считали то ли героем, то ли предателем. Грань была очень тонка. И нужно было иметь большое мужество сделать то, что сделал наш наставник. Но он сделал это для нас. Это формировало всё!
Было много и других, действительно тревожных событий. Например, суицид. Самоубийств было много. Случилось это и на нашем курсе. Ушли умные, очень умные девочки. Что подтолкнуло их – не знаю. Да и мы были заняты совсем другими делами. Например, устройством на работу.
Все были озабочены, что делать дальше, ведь нас готовили как научных работников. Распределение же получали учителями в аулы и кишлаки Средней Азии, села и районы России, Украины и других советских республик. Нас приравняли к выпускникам провинциальных педагогических институтов. Большего унижения трудно было придумать! Ведь нас готовили как научных работников в области языкознания и литературоведения, и вот с этим колоссальным информационным багажом мы очутились в захолустных средних школах, где ученики порой очень слабо ориентировались в простейшем материале. Это как из пушки по воробьям палить. Но главное даже не это, а то, что мы в таких условиях чувствовали себя в лучшем случае вторым сортом.
Я оказалась в глухой провинции – моя Шостка в сравнении с ней – столица! – в городке Красный Луч на Луганщине. Так началась моя карьера человека, преподающего причастие. Постепенно школа стала для меня вторым домом. Уроки, факультативы, кружки, вечера – я научилась не только делать все это, но и получать удовольствие.
Через несколько лет жизнь преподнесла мне еще один урок. Муж мой, Анатолий Борзенко, учился в аспирантуре Академии общественных наук. Там преподавали корифеи философской науки того времени. А Толя был умница. Профессор Розенталь, принимая у него экзамен, сказал: «Перед вами можно снять шляпу». Естественно, при такой оценке, да еще после блестящей защиты диссертации мы питали надежду, что Анатолию предложат интересную работу в Москве или Киеве, оказалось – нет, не нужен… ни он, ни его знания.
А удар в 1968 году, когда несколько человек вышли на Красную площадь, чтоб открыто заявить о своем протесте против милитаристских амбиций Советского Союза и посягательств на свободу чехов и словаков. Среди них была и моя однокурсница, мать двоих детей Наталья Горбаневская. Меня охватило чувство полной растерянности: она смогла это сделать – она знает что-то такое, чего не знаю я.
Остальные «звоночки» были помельче, как, например, в начале семидесятых, первая в Советском Союзе забастовка иностранных студентов во Львове, которые протестовали против полузакрытого режима своего пребывания в нашей стране. Или постоянное, я бы сказала – навязчивое, желание начальства уволить лаборанта моей кафедры Романа Блая моими руками (я заведовала тогда кафедрой русского языка во Львовском медицинском институте) только потому, что он еврей. А у Ромы трое детей и золотые руки. Устав от всего этого, я сказала: «Мы не можем уволить Блая, потому что этим подтолкнем его к эмиграции. Что после этого будут говорить о нас за рубежом?».