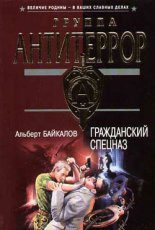Супердвое: убойный фактор Шишков Михаил

– Хорошо, завтра. На прежнем месте. Я заеду за вами в десять. Свету привезу к одиннадцати. Не забудьте надеть белый халат. Висит в платяном шкафу.
– Зачем халат?
– Если вы доктор, на вас должен быть белый халат. Я скажу Свете, мы едем к удивительному доктору, который умеет лечить добрым словом. О гипнозе, пожалуйста, не упоминайте.
Лечение оказалось куда более легким делом, чем я ожидал. Если состояние гипноза – это разновидность сна, то Света с легкостью погрузилась в дремоту.
Когда она пришла в себя, удивленно спросила.
– Это все?
У меня желваки заиграли на скулах.
– Да, Светочка, – подтвердил Вольф Григорьевич. – Теперь ты можешь не только говорить, но и петь.
– Ну, уж петь, – не поверила Света. – Вы совсем как Айболит, только не знаете, что звери не поют.
– А птички?
– Ну, птички. Это совсем другое дело.
Я, давясь от смеха и слез, выскочил из комнаты. Там уже дал волю и тому и другому.
Уже на лестнице, где наверняка не было прослушки, я предложил Мессингу гонорар.
– Не люблю быть в долгу. Кажется, товарищ Мессинг, вы так однажды выразились?
– Спасибо, Николай Михайлович. Повторяю, вы мне ничем не обязаны. Мне просто понравилось, что у вас даже в мыслях не было унизить меня или причинить зло. Но еще более – как вы изощренно материли сокола, безоружным отправившегося на войну.
Когда я доложил Федотову о результатах лечения, тот вновь позвонил наркому. Палыч приказал доставить Свету в нашу медсанчасть. Там ее обследовали и пришли к выводу, что никаких следов сильнейшего душевного потрясения не наблюдается, речь вернулась к ней в полном объеме. Когда ее спросили, умеет ли она читать, Света серьезно кивнула и прочитала предложенный ей текст, чем привела консилиум в полнейший восторг.
Выходит, не зря все это время мы учили с ней буквы и учились узнавать слова.
Итак, эксперимент над моей дочерью закончился успешно, а то, что это был именно эксперимент, проверка возможностей свалившегося нам на голову экстрасенса, санкционированная на самом верху, я убедился позже. Девочка выздоровела – этим все было сказано, особенно в отношении товарища Вольфа Мессинга, однако откровенный прагматизм руководства пришелся мне не по нутру. В те дни я впервые задумался о границах исполнительности, а также о пользе сомнений, помогающих выявить эти границы. В этих помыслах не было ничего от троцкизма или, например, взглядов «правой оппозиции», тем не менее, догадываясь, что к чему, я усиленно гнал эти несомненно контрреволюционные мысли от себя. Я решил отыграться на Шееле, который по-прежнему с прежней наглой вредительской самоуверенностью и фашистским фанатизмом отказывался давать правдивые показания. Мне никак не удавалось заставить его расска зать о своей преступной деятельности и, главное, осветить тайну бегства сына. С этим бароном и предателем можно было не церемониться – это было ясно как день! И то сказать – время неумолимо сворачивало к войне. В этом ни у кого не было сомнений, а ты, Трущев, корил я себя, какого-то мелкого нацистского гаденыша отыскать не можешь.
По совету Федотова, я попытался наладить с Бароном теплые отношения – может, проболтается! Во время допросов нередко переводил разговор на общие темы, потом исподволь сворачивал на интересующие следствие подробности преступной деятельности, в частности, каким образом Шеель совершил побег и кто ему помог.
Маневры молодого следователя были смешны старику, но – се человек! – даже угодив на Лубянку, в преддверии неминуемой расплаты он не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться над чекистами и доказать превосходство представителя арийской расы над жалким коммунистическим неучем, пытавшимся выведать у него тайные знания, то есть причину, по которым он согласился отправиться в страну унтерменшей. Я охотно подыгрывал ему – откровенно признавался в собственной исторической безграмотности, особенно в вопросах изучения заповедной таинственной силы, которая присутствовала в жилах древних тевтонов, а теперь начала просыпаться в их потомках, и которую так рьяно воспевал Гвидо фон Лист[14].
Вдохновленный попустительством молодого следователя, германский барон, например, позволял себе такие пассажи:
– Что вы знаете о доктрине Вечного льда[15], молодой человек? Вы ничего о ней не знаете! Вы слыхали о полой земле? Тоже ничего не слыхали?! А как насчет всеиспепеляющего огня? Как же вы отважились взяться за строительство социализма, если мудрость древних для вас тайна за семью печатями?
В его глазах вспыхивал безумный огонек.
– Прежде чем Луна упадет на Землю, – а это неизбежно! – пламя, священное пламя древних тевтонов, охватит землю. Оно пожрет наших врагов. Враги корчатся, враги протягивают руки к небу. Поздно! Небо на нашей стороне, оно обрушится на вас, избыточную по численности расу. Оно поглотит вас. Очень скоро небо, наш безграничный заоблачный фатерлянд, распахнет свои объятия высшей расе. Планета Земля, не говоря о Евразии, тесна для расплодившегося поголовья низших. Что вы путаетесь под ногами! Германцы всегда упирались плечами в чуждые племена. Вспомните полабских славян, этих недоносков в человечьих шкурах! Вспомните, на чьих костях возведен Берлин и Кенигсберг! Это было начало. Веками мы расширяли жизненное пространство, веками германцы, пожирая соседние племена, двигались на восток. Теперь пробил ваш час! Я ощущаю дыхание последней битвы!
Однажды, слушая разглагольствования матерого шпиона насчет грозившего нам истребления, я оборвал его, заявив, что никакой гибели богов, тем более конца света, ожидать не следует. Это все суеверия.
– …и не вам, человеку, присягнувшему на верность новой родине, грозить рабочим и крестьянам страны Советов, победившим в Гражданской войне и успешно строящим социализм, истреблением. Этого не никогда не будет!
Барон вскричал:
– Почему не будет?! Древние пророчества подтверждают!..
– Чихать я хотел на ваши пророчества! Этого не будет потому, что не будет никогда! Хотя бы потому, что мы нашли законсервированный вами огнетушитель. Вот полюбуйтесь, фабрика жива и здорова. А вот листы профилированной фанеры, из которой мы будем изготавливать крылья для наших новых истребителей! А вот наш новый истребитель, которому ваш «мессершмит» в подметки не годится! Ваша карта бита, господин Шеель!
Я протянул Шеелю пачку фотографий, сосредоточился…
Старик торопливо схватил снимки, начал перебирать их, и в следующий миг, когда в его руки попала фотография, на которой был изображен его сын, укладывающий в штабель фанерные листы, меня окатил неслышимый, но вполне отчетливый вопль:
– Was? Unmglich!!![16]
Я мельком глянул на подследственного.
Старик обладал не менее крепкой, чем Закруткин, закваской. Он сжал душу до беззвучия, презрительно усмехнулся и, вернув мне ловко смонтированную фотографию, с презрительной усмешкой поздравил:
– Неплохая фальшивка!
Поздно!
Я победно помалкивал. Трудно было поверить в удачу, однако то ли этим молчанием, то ли мне действительно удалось задеть Барона за живое, только старик занервничал.
– Это грубый монтаж! Провокация!..
Я немедленно прервал допрос. Когда Шееля увели, мне пришлось потратить некоторое время на то, чтобы мысленно разложить по полочкам собственные ощущения, родившиеся в момент, когда подследственный увидал фотографию сына, укладывающего листы фанеры. Федотов прав – все, что касалось Алекса, било наотмашь. Смутило другое – его чуждое, высказанное на вражеском языке «не может быть!» очень походило на вскрик, вырвавшийся у полковника Закруткина в тот день, когда он впервые взял в руки фотографию молодого Шееля.
Эту странную, так неожиданно всплывшую связь следовало немедленно прояснить. Только нельзя пороть горячку, надо успокоиться.
Я поспешил домой и после краткого и бурного соития с женой, прикинув, что к чему, отправился в гости к Закруткину.
Было начало осени, лучшее время в Москве. Дом красных командиров располагался в центре города, в тихом переулке неподалеку от Воздвиженки. Во дворе я буквально заставил себя присесть на лавку. Успокоившись, прикинул – не бросить ли всю эту самодеятельность? Или все-таки рискнуть и попытаться выяснить у Закруткина, почему фотография молодого Шееля ошеломила его? Понятно, что ни о пожилом Шееле, ни о внутреннем голосе ни слова. Может, мне померещилось?!
Пусть это мистика самого мракобесного пошиба, но в любом случае, если появились сомнения, партия требует развеять их.
Оружие с собой?
Я ощупал в кармане пистолетную рукоять ТТ.
Взвел курок.
Это было не смешно, это было очень серьезно. Как отчитаться перед партией, если я сейчас наломаю дров? Что достойней – вернуться, промолчать, отпрянуть? Явиться с непроверенною вестью или сломить сопротивление вражье, и в схватке с целым морем лжи сразить ее, тем самым оказав противоборство? Как родились эти слова, откуда явились, объяснить не могу, но, как любила выражаться Таня, «внутри все трепетало».
Будь что будет, и, узнав у мальчишек, играющих во дворе, номер квартиры Закруткиных, я вошел в подъезд.
Поднялся по широкой, ограниченной резной чугунной решеткой с лакированными поручнями, лестнице, позвонил.
За дверью послышались шаги, затем молодой бодрый голос спросил: «Кто там?»
– К Константину Петровичу. По службе.
Дверь распахнулась, и на пороге собственной персоной очертился Алекс-Еско фон Шеель.
Молодой человек поздоровался и ответил:
– Папы нет. Он в командировке.
– Извините, – прочистив горло, откликнулся я и на всякий случай аккуратно спустил курок, тем самым поставив ТТ на предохранитель. – Я зайду в следующий раз.
– Вы хотели что-то передать папе?
– Нет, это не горит. А вы кто будете?
– Сын, Анатолий.
– До свидания, Анатолий.
Я направился к лестнице, затем, изобразив догадку, вернулся.
– Как же я забыл. Отец говорил, что вы учитесь в МГУ?
– Нет, в инязе, на германской филологии.
– Должно быть, увлекательнейшее занятие?
– Да-а… – неуверенно подтвердил студент Закруткин.
Я еще раз попрощался и направился к лестнице.
Дверь за мной подозрительно мягко захлопнулась.
Одна – наиглупейшая! – мысль билась в виске.
– Вот здесь, – указал Николай Михайлович на голубенькую жилку, бившуюся в миллиметре от геометрически ровного шрама, отчетливо проступавшего сквозь поредевшие седые волосы.
Заметив мой взгляд, он мимоходом пояснил.
– Фашистский осколок, – затем вернулся к рассказу. – Шел и нервничал – не спугнул? Не дай Бог, спугнул! Вроде нет… Самому стало смешно – кого спугнул? Что значит «спугнул»? Сына полковника Закруткина или сбежавшего гаденыша? Как я мог его – или их – спугнуть, если ни тот, ни другой никогда меня в глаза не видали? Меня другое будоражило – выходит, это два разных человека?!
Но какое поразительное сходство!!
На следующий день я доложил Федотову о находке.
Начальник отдела внимательно выслушал, потом спросил:
– Вы, товарищ Трущев, соображаете, что говорите?
– Так точно, товарищ комиссар третьего ранга.
Павел Васильевич снял очки и принялся протирать стекла, затем потянулся, снял телефонную трубку и тусклым голосом произнес:
– Наркома!
Пауза.
– Лаврентий Павлович, есть вопрос. Да, неотложный. Хорошо… Со мной Трущев. Слушаюсь!
В коридоре Федотов, дождавшись, когда я подстроюсь под его шаг, предупредил:– Вы, голубчик, про мистику не распространяйтесь. Сходство обнаружили случайно.
– Так точно. Вы мне не верите, Павел Васильевич?
– Почему не верю, – пожал плечами начальник отдела. – Я в мистику не верю, а в подобие очень даже верю. Если, конечно, вы, голубчик, не преувеличиваете. Наркому скажете – сработала интуиция. Шестое чувство, так сказать. Понятно?
– Слушаюсь.
На этот раз Берия встретил молодого сотрудника более доброжелательно и без возражений дал санкцию на негласный сбор сведений об Анатолии Закруткине. План игры сложился накатом – глупо было отказываться от возможности окончательно расколоть Барона. За ним без всяких сомнений должна была тянуться длинная вереница сообщников.
На прощание Берия предупредил:
– Это хорошо, Трущев, что на этот раз ви не проморгали, однако поиски настоящего преступника – это ваша прямая обязанност.
– Что можно сказать о молодом Закруткине? – Трущев помешал чай и вытащил ложку. – Парень казался своим в доску. Комсомолец, ворошиловский стрелок, крепок физически. На такого можно положиться, если бы не одно «но». В тридцать шестом, на первом курсе, Анатолий подал заявление с просьбой направить его в Испанию на помощь бойцам-интернационалистам, однако спустя неделю забрал его. Свое решение мотивировал необходимостью лучше освоить язык.
Когда я под видом вербовщика встретился с Анатолием и задал этот вопрос, тот признался, что забрать заявление его заставил отец. Полковник решительно, не слушая никаких возражений, настоял, чтобы сын напрочь забыл о всякой нелегальщине.
– Твоя стезя, – напомнил он, – научная работа. Этим и занимайся. Когда понадобишься, тебя вызовут, а до той поры учись, повышай культурный уровень.
– Это был первый случай, – признался Трущев, – когда я лоб в лоб столкнулся с такой откровенно оппортунистической позицией. Меня взяло сомнение, с какой стати полковник Разведупра, нелегал и, как мне казалось, идейно подкованный человек, позволил себе отговаривать сына от исполнения долга перед партией?
После паузы Трущев пояснил:
– Это был интересный момент моей биографии. В ту пору я был молод и глуп. Когда я уже совсем собрался сообщить куда следует о странном поведении старшего Закруткина, мне вспомнилась Светочка и то, каким образом с ее помощью мои старшие товарищи сумели выявить нутро Вольфа Мессинга. Эта мимолетная мысль оказалась чем-то вроде ключика, отворившего мне двери туда, где прежде чем совершить недостойный поступок, – какие бы оправдания ни приводились в его защиту, – следовало крепко подумать. Позже Вольф Григорьевич объяснил мне, что самое главное – сохранить уважение к себе и уметь держать дистанцию между собой и миром. Существует некое микроскопическое расстояние, от которого, невзирая ни на какую пропаганду и агитацию, ни в коем случае нельзя отказываться. Иначе – крах!.. Усек?
Я кивнул, хотя, откровенно, мне было не совсем понятно, о чем речь. Такого рода философий я понаслышался немало. (С другой стороны, авторитет ветерана был весом, и не мне было вмешиваться в мысли-ключики, с помощью которых он, отделавшись шрамом на виске, тюремным заключением и побоями, прошел все это злобно-героическое время).
Между тем Николай Михайлович вовсю вещал:
– …если признать необходимость сохранения дистанции, неизбежно возникает вопрос, от кого оберегать ее? Кто эти личности, посягающие на твою ауру? И личности ли это?.. Может, это некие незримые существа, названные Мессингом и прочими «измами» и «стями»? Может, Платон был прав, утверждая, что так называемые эйдосы, или идеи, существуют реально? Эти мерзкие фантомы, порабощающие нас, нами же и производятся. Не разобравшись с ними, невозможно добиться согласия с самим собой.
Впрочем, об этом после. Ты занеси в протокол следующий тезис – со своей стороны, беседуя с Толиком, я тоже старался избегать слова «родина требует…» и так далее…
Он принялся помешивать чай.
Вообще, чаи он гонял как заправский отставник – напиток был крепок, того самого неповторимого густо-медового оттенка, которым славится хороший чай, стакан млел в серебряном подстаканнике.
– Будешь править текст, – предупредил он меня, – вычеркивай везде, где можно, слово «родина». В нашей среде оно не употреблялось. Его заменяло слово «партия». Кстати, интереснейшее словцо. Чрезвычайно многозначное. Как-нибудь мы поговорим об этом и о том, чем грозит подмена понятий.
Я с готовностью кивнул.
Разъяснив Анатолию его роль и уже на Лубянке хорошенько подготовив молодого человека, я вызвал Шееля на допрос, где еще раз предложил помочь следствию и облегчить свою участь чистосердечным признанием. Если они найдут общий язык, если он будет искренен в своем раскаянии, можно рассчитывать на снисхождение при вынесении приговора. Иначе…
Альфред фон Шеель, не обращая на меня никакого внимания, некоторое время изучал свои ногти, потом ответил:
– Гражданин следователь, я однажды попался на вашу удочку, больше не желаю. Не вы ли гарантировали мне безопасность, если я соглашусь встретиться с Майендорфом?
– И что? Вы можете пожаловаться, что органы не выполнили свое обещание? Что же касается вашей шпионской деятельности, если вы и дальше будете упорствовать, вряд ли стоит рассчитывать на снисхождение.
– Это пустой разговор, – усмехнулся Шеель. – Отключайте шарманку.
– Как хотите. Тогда мы получим интересующие нас сведения от вашего сына. Если он тоже будет упорствовать, мы расстреляем его у вас на глазах. Или наоборот.
– Сначала поймайте. Кстати, как ваше начальство отнеслось к фокусу с фотографией?
– Мне объявили благодарность.
– Рад за вас. Что вы приготовили на сегодня?
– Вот полюбуйтесь.
Я протянул подследственному фотографию, на которой веселый Анатолий Закруткин в форме лейтенанта НКВД поправлял большими пальцами ремень на гимнастерке. За его спиной было отчетливо видно здание наркомата на Лубянке.
Барон одобрил качество фальшивки.
– На это раз значительно лучше. Совсем как настоящая.
– А это и есть настоящая. Приглядитесь повнимательнее.
Старик некоторое время пристально разглядывал фотографию. Я затаил дыхание. Ее подлинность не вызывала сомнений.
Старик занервничал.
Я продолжил атаку.
– Ему надоело жить под чужим именем. Он пришел с повинной, и, как видите, советская власть отнеслась к нему снисходительно.
– Мне известно, с какой снисходительностью вы относитесь к гражданам, которые приходят к вам с повинной. Известно ли вам вообще, что такое снисходительность? Кстати, под чьими документами скрывался этот субъект? – он ткнул пальцем в портрет.
Это был убойный вопрос. Что я мог ответить старику? Я медленно поднялся, вышел из-за стола, приблизился к подследственному – в руке у меня была метровая металлическая линейка. Я ударил линейкой по столу, потом напомнил:
– Здесь вопросы задаю я! А ты, фашистская морда, мог бы и помолчать.
Затем вызвал конвойного.
Тот зашел и сделал знак – все готово. Я распорядился.
– В камеру!
Старик натужно поднялся и вышел в коридор. Я попробовал определить в уме, сбил я его с толку или нет? Если бы не этот хитрый вопрос насчет документов!.. Умен, гад!..
Я встал и направился вслед за Шеелем. Когда конвойный подвел Барона к лестнице, в пролете, загороженном металлической сеткой, тот увидал сына. Его тащили под руки два амбала в форме. Кровь обильно хлестала из разбитой головы, одна нога была неестественно вывернута.
Старик встал как вкопанный, заплакал – конвойный в отчете так и написал: «Подследственный заплакал…» – затем страшно закричал.
Я приблизился и, указав на истерзанного человека, с гнусной улыбочкой поинтересовался:
– Хор-рош?
В камеру барона фон Шееля пришлось тащить волоком.
На следующий день он начал давать показания – выдал всех: Шихматова, Ройзинга, Штирблянда, в Краснозатонске своего подручного Иванова, приготовленного к закланию на священном тевтонском огне. Умолчал только о преступной деятельности сына. Ни слова не сказал, только советовал:
p>– Спросите у Алекса.Глава 5
След молодого Шееля обнаружился осенью 1940 года. Мелькнул настолько неожиданно, что Трущев не сразу поверил в удачу. Правда, к тому моменту дело барона Альфреда, советского гражданина, шпиона германских спецслужб – в общем-то, вполне обычное, ничем не примечательное, внезапно приобрело государственный, можно сказать, несуразно эпохальный, с отчетливым зловещим оттенком, характер.
Все завертелось в конце сорокового, когда следчасть закончила расследование дела и готовилась передать его в суд.
Трущева подняли далеко за полночь, прислали машину. До самой Лубянки сердечко вздрагивало – куда везут? Успокоился только, когда машина, миновав ворота внутренней тюрьмы, остановилась возле наркомовского подъезда. Дежурный офицер, встретивший его на КПП, приказал поторапливаться. Это был здоровенный, метра под два ростом, детина – он двинулся вперед таким быстрым шагом, что Трущеву пришлось перейти на мелкую рысь. Бежать по коридору было очень стыдно – не дай Бог, кто-нибудь заметит! Благо в коридоре было пусто, время-то позднее. Дыхание перевел в лифте, там же прикинул – чего ради такая спешка? Догадался – опять этот проклятый Шеель. Своими руками придушил бы этого двурушника!
Берия, в кабинете которого уже находились Меркулов и Федотов, повел себя на удивление вежливо. Поздоровался, пригласил сесть, спросил – успел ли Трущев «воткнуть» жене?
Николай Михайлович, не снимая маску готовности исполнить любой приказ родины, онемел от такого неслыханного хамства. От ответной грубости спасла мысль – не для того же его поднимали среди ночи, чтобы поинтересоваться, чем он все это время занимался с Татьяной?
Его невозмутимость, как видно, удовлетворила Берию. Он так и сказал, обращаясь к наркому госбезопасности и начальнику КРО.
– Неплохая видержка! – и без паузы, уже повернувшись к Трущеву, продолжил: – Как у тебя насчет памяти, Трущев?
– Пока не жаловался.
Берия скривился.
– Неправильно отвечаешь, не по-коммунистически. Если началник спрашивает тебя, как у тебя с памятю, отвечай четко и ясно – у меня хорошая памят, товарищ нарком. Всякие «жаловался не жаловался» отставить. На прямые вопросы отвечай «так точно», «никак нет», и строго-настрого предупреждаю – не лез с инициативой. Отвечай толко, когда спросят. Понял?
– Так точно.
– Теперь давай по сути.
Нарком начал гонять младшего лейтенанта по всем сомнительным вопросам, сохранившимся в деле Шееля, причем направленность этих вопросов вконец сразила Трущева. Менее всего наркома интересовала преступная деятельность матерого шпиона. Подавляющее большинство вопросов относилось к биографии Барона, особенно к той части его жизни, которая относилась к Германии.
Трущев отвечал четко, без запинки, это тоже понравилось Берии. Затем нарком спросил на удивление дружески, без всякого нажима, без гневливого «мы этого не потерпим», «партия нам этого не простит» и тому подобных угроз, на которые он был мастак, – что Трущев думает о сроках поимки Алекса? Попросил ответить честно, «без викрутасов».
Трущев не удержался и искоса глянул на Меркулова и Федотова – может, он ослышался? Может, вопрос не к нему? Что он, младший лейтенант госбезопасности, может думать?..
Лица у тех были каменные. Значит, вопрос к нему, и этот вопрос отделял его, живого Трущева, от другого, скорее всего, мертвого или в хомуте по сто шестнадцатой пополам, если он сейчас слукавит или промахнется в сроках.
Он ответил честно:
– Пока никаких зацепок, товарищ нарком, но убежден, гулять ему недолго.
– На чем строишь увереност, Трущев?
– На сроках исчезновения. У нас есть фактическая дата, а это немало. Он сбежал из Свердловска в тот же день, когда был арестован отец. Мы тотчас перекрыли транспорт, дороги, частный извоз, так что далеко от Свердловска он, скорее всего, уехать не мог. Значит, где-то поблизости, но если это соображение окажется ошибочным, ничего страшного – просто фронт работы увеличивается. Шеелю необходимо легализоваться как можно скорее. Документы у него, полагаю, наичистейшие, следовательно, он вполне может обратиться в такое учреждение, куда сезонно набирают людей. Завербоваться на Север? Вряд ли – оттуда так просто не выбраться. Скорее всего, что-то по линии учебных заведений и тех организаций, которые обладают собственным жилым фондом. Фотографии разосланы, работа закончится через месяц-другой.
– Будем считать это предельным сроком. Иди, работай.
Трущев ничем не выказал недоумения. Встал, вышел.
Весь день он ждал вызова от Федотова. Когда дождался, поразился – тот ни словом не обмолвился о ночном происшествии. Начальник отдела еще раз тщательно проработал с Трущевым все возможные варианты поиска Алексея Шееля, напомнил об осеннем призыве в армию.
Удача выглянула из-за угла, как убийца, – неожиданно и страшно, даже «внутри все затрепетало».
Забирая у Анатолия Закруткина подписку о неразглашении, Трущев официально поблагодарил паренька за проявленные выдержку и мужество при выполнении задания. Насчет мужества, добавил от себя Трущев, судить, конечно трудно, – «я, так сказать, авансом», – но с выдержкой у Анатолия действительно все оказалось в порядке. Возможно, сказалась отцовская закалка. Закруткин так и не спросил о цели всего этого спектакля, о том, хорошо ли он сыграл свою роль. Ему хватило ответа – так надо.
Но глаза…
Глаза откровенно выдавали его. Глядя в них, Трущев вспомнил себя в кабинете Берии – неужели он тоже выдал себя взглядом? Это недостойно чекиста, у которого должен быть холодный взгляд, большие, крепкие руки и что-то там с сердцем.
Трущев не имел права ничего объяснять пареньку, однако оставлять эти глаза в неведении было в высшей степени жестоко.
Он сказал так:
– Типа одного надо было расколоть, матерого шпиона. Ты оказался похож на связного, направленного к нему из-за кордона. Мы решили продемонстрировать резиденту, что ты у нас в руках.
Анатолий удивленно глянул на Трущева.
– Говорите, связного?..
Трущев кивнул.
– Значит, связной похож на меня? – поинтересовался Закруткин.
Николай Михайлович промолчал, тем самым как бы подчеркнул, что молодой человек недалек от истины.
Анатолий задумчиво поделился:
– То-то я понять не мог, что это Колька из соседней группы ко мне прицепился. Что ты, мол, летом делал в Одессе? Я отбрыкиваюсь, не был я в Одессе, а он мне: «Брось! Я что, слепой? Разгуливаешь по Дерибасовской в курсантской форме. Я тебя окликнул, а ты вроде как не заметил».
– Кто, говоришь, видал тебя в Одессе? – мимоходом поинтересовался Трущев.
Анатолий назвал фамилию Кольки, и уже на следующий день, поговорив с приятелем Закруткина, Трущев обнаружил, что летом сорокового года в Одесское пехотное училище имени Клима Ворошилова согласно направлению, выданному в Харьковской области, поступил курсант Неглибко Василий Петрович, как две капли похожий на Анатолия Закруткина.
В тот же день Трущев доложил Федотову о найденном шпионе и диверсанте. Пора брать, предложил он.
– Да, конечно, – согласился Федотов, затем, встрепенувшись, заявил нечто прямо противоположное: – Ни в коем случае!! Он под надежным наблюдением?
– Обложили со всех сторон.
– Не говори гоп, – предупредил Павел Васильевич. – Впрочем, сейчас есть дело поважнее. Ты подготовился?
– К чему?
– К чему?! – Федотов в первый раз выказал откровенное раздражение. – Как отвечаете, младший лейтенант?
Трущев вытянулся.
– Все материалы по делу Шееля помнишь?
– Так точно.
– Будь гот…
Он не договорил.
Зазвонил телефон. Федотов снял трубку.
– Да, товарищ нарком. У меня. Есть, так точно. Товарищ нарком, обнаружен младший Шеель. Да-да, лично Трущевым. Так точно. Да-да. Слушаюсь. Через пять минут будет внизу.
Он положил трубку и, сменив гнев на милость, предупредил:
– Послушай, голубчик, у наркома сейчас нет времени для доклада, поэтому ты поедешь с ним и по пути все расскажешь. Это очень важно. Безоговорочно выполняй все его распоряжения, каждую секунду будь готов дать справку. Помнишь, о чем тебя предупреждали? Отвечать кратко и по существу, свои домыслы, тем более советы, держать при себе. И не лезь, пока не спросят. Понял?
– Никак нет!
– Что ты не понял?
– Куда мы поедем.
– В Кремль, Трущев! В Кремль!!! По дороге доложишь наркому насчет младшего Шееля. Если он возьмет тебя с собой, держись достойно. Будешь докладывать или нет, не знаю. Этого никто не может предугадать, но ты должен быть наготове.
Трущев взмолился:
– Товарищ комиссар, да объясните, наконец, в чем дело. Кому и что я должен докладывать?
Федотов выдержал длинную паузу, потом, на что-то решившись, сообщил:
– Товарищу Сталину! Насчет Шееля…
Трущев отпрянул на шаг.
– Зачем товарищу Сталину Шеель-то понадобился?
Федотов вновь выдержал паузу, затем предупредил:
– Забудь все, что я тебе скажу. Этот Барон оказался крупной птицей. К сожалению, о его аресте узнали там, – он ткнул пальцем в сторону заходившего солнца. – Это, конечно, наша недоработка, но теперь поздно посыпать голову пеплом.
Еще пауза.