Месть географии. Что могут рассказать географические карты о грядущих конфликтах и битве против неизбежного Каплан Роберт
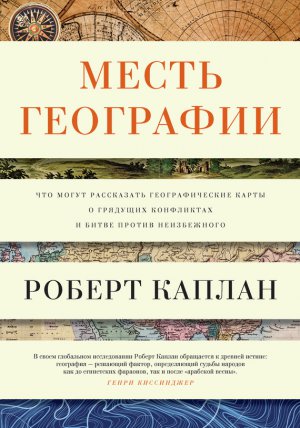
Читать бесплатно другие книги:
Во втором томе избранных трудов О. С. Иоффе представлена вышедшая в 1967 г. работа «Советское гражда...
Эта книга – глубокий, подробный и богато иллюстрированный путеводитель-рассказ о Святой Афонской Гор...
Из-за трагических событий прошлого века жизнь русского монашества на Афоне на рубеже XIX–XX вв. оста...
В сборник «Король планеты Зима» вошли произведения Урсулы Ле Гуин, каждое из которых тесно связано с...
Журналист-газетчик, бывший сотрудник системы МВД, автор этой книги ярославский писатель Владимир Кол...
«Переплетение венков сонетов» — экспериментальное произведение. Это не привычный венок сонетов, в ко...






