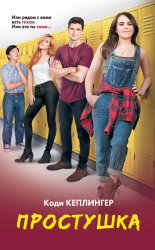Двадцать восемь смертей и кое-что еще Ибрагимов Дмитрий

© Дмитрий Ибрагимов, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Предисловие
Мы все умрем. Не слишком оптимистическое начало для чего бы то ни было, но это так. Никому не удавалось выбраться из этой передряги, которую все называют жизнью иначе. Это хорошо – знать. Знать, чем все закончится. Плохо то, что концовку не изменить.
Об этом не принято говорить вслух. Не принято обсуждать с друзьями и подругами за чашечкой чая. Лишь иногда, когда смерть стучится в двери семьи, мы можем обсудить это возле домашнего очага, с ужасом и печалью воспринимая и свой, когда-нибудь неизбежный конец. Или плакать от тоски по умершим. А кто более предприимчив, подписывает завещания, оформляет дарственные и не летает всей семьей одним самолетом. Это называется – уладить дела и быть предусмотрительным.
Но я верю, что раз за разом мы возвращаемся в эту жизнь, что бы вновь умереть. Раз за разом, неся в себе частичку из прошлой жизни. И хотим успеть оставить свой след в умах, сердцах, памяти тех, кто приходит вместе с нами. Оставить частичку своей плоти и крови в детях. Или напротив, отнять чью-то жизнь во имя какой-нибудь справедливости, долга или чего-нибудь еще. И, в конце концов, умереть самим.
Мы все умрем. Не слишком оптимистическое начало для книги. Но я так начну.
Смерть первая
Идет война. Я удерживаю позицию, справа и слева от меня боевые товарищи, солдаты, такие же, как и я. Мы в полуразрушенном кирпичном здании, пригибаясь, перебегаем от окна к окну, осматривая ровное как стол поле перед нами. Я знаю, что позади нас деревенька, где уже никого не осталось – кто эвакуировался, кого угнали в плен, кого убили. Фашисты прошли здесь два раза, один раз в сторону Москвы, второй – обратно. Из деревеньки мы их выбили быстро, но они упорно пытаются возвратиться. Зачем? Коротко обсуждаем это между собой. Коровы не доены, шутит один и смеется беззвучным и безумным смехом.
Здание одноэтажное, без крыши. Окон нет, пустые проемы, осень. Желтоватая трава, колышется под тугими струями дождя. Холодно, я промок, но это не беда. Немцы затеяли контрнаступление, вон их фигуры маячат далеко-далеко, то появляясь, то исчезая в траве. Изредка я вижу короткую вспышку с их стороны, и тогда пригибаюсь еще ниже. Стреляют. А пуля – что? Пуля она медленная, как и звук от выстрела. Быстро надо делать все, быстро. Стреляем изредка в ответ. Экономим патроны. Держим позицию. Черт, почему нас так мало?
Немцы залегли далеко в поле. Что-то готовят. Один из наших предполагает, что будут артиллерией долбить. Прислушиваемся. Артиллерию не увидишь. Далеко, да и за холмом каким стоит, и навесиком пуляет себе по квадратам. Боги войны, мать их ити!
В небе впереди и чуть слева появляются несколько черных точек. Воздух! Кричит, кто-то из наших, может быть и я. Пригибаемся еще ниже. Ну куда тут, в здании окоп не выроешь. Пикирующие бомбардировщики. И что им так далась эта деревенька?
Бомбят. Разрывы идут один за другим, но все – перед нами, рядом. Земля взмывает вверх огромными кусками. Звуков не различаю, только не перестающий гул. Не беда, мы привычные. Смотрю по сторонам, здоровый, с широченными плечами солдат справа от меня, зажал уши, широченными, как лопаты ладонями и открыл рот. Задорно блестят глаза на грязном лице. Опытный боец, так не повредишь уши, да и контузию не схватишь от близких разрывов.
Со стен сыпется кирпичная крошка, но здание крепкое, старой постройки. Выдюжим. Пикирующие бомбардировщики, конечно хорошо бомбу положить могут, точно. Но как говорят, наши соколы, опытных фашистских летунов, подчистую выбили.
Вдруг, тишина. Не слышно гула, в глазах серая пелена, пытаюсь проморгать глазами, хлопаю себя по ушам. Контузило? Ранен? Тот огромный боец, справа от меня, хлопает себя по голове, подносит свои огромные лопаты к лицу. Слева кто-то есть, но что там происходит, не вижу, не могу повернуть голову. Ранение. Точно.
Краски поблекли, ни рук, ни ног не чувствую. Поднимаюсь в рост. Боли нет. Наверное, в живот. Говорят, что если в живот, то боли не чувствуешь. Ощупываю живот, сухо, крови нет. И сразу темнота.
Послесмертие. Нам говорили, что загробной жизни нет. Что это все выдумки поповские, что бы держать в страхе народ. Как же нет? Стоим в белых халатах что ли… все наши, что там были. Внизу. Где винтовки наши? Сержант голову оторвет. А вот и сержант, без своего трофейного автомата. Понурый стоит, молчит. Все молчим. А вокруг белесое ничто, туман клубится. Положил какой-то гад, бомбу точно к нам в здание. Что там дальше будет?
Смерть вторая
В джунглях жарко и влажно. Шейный платок давно промок, да он и не высыхал. С утра небо, то, что видно сквозь редкие прорехи в листве, покрылось облаками. Солнца не видно, но от этого не менее жарко. Парит сама земля. Носильщики, часто меняются те что несут груз и те что, прорубают подлесок. Им тоже тяжело, хотя они из местных.
Я белый, мои спутники тоже. Мы движемся, сверяясь по карте и компасу. Других ориентиров здесь нет, куда ни кинь взор, древесные стволы и непролазная стена зелени. Куда мы идем, я не помню. На карте стоит крестик, у подножия какого-то холма. Я ничего уже не помню, механически переставляю ноги и опираюсь на палку.
Утром, когда мы собирали наш скарб, после ночного привала, меня укусила какая-то маленькая змея. Я откинул полог москитной сетки, задел ветку и она свалилась сверху, сразу вцепилась мне в мякоть ладони, после чего соскользнула и исчезла в траве.
Наш доктор, быстро разрезал мне рану и отсасывал кровь из крошечной ранки, а после прижег рану раскаленным ножом. Перевязал. Наши носильщики, что-то бурно обсуждали после этого инцидента, после чего через переводчика, спросили, как выглядела эта змея. Я описал ее. Они опять что-то обсуждали и видимо пришли к какому-то выводу. Потому что, начали собирать наши пожитки так быстро, как ни в один из дней ранее.
После полудня, рука распухла так, что повязка впилась в кожу, и по краям повязки кожа стала лиловой. В руке стреляло и дергало так, что хотелось выть, но я держался. И теперь шел, точнее, ковылял, опираясь на палку.
Носильщики, переговаривались по цепочке, после чего резко сменили направление. К реке, если я что-то еще помню из нашей карты. На все наши возражения, коротко отвечали: «Спасать! Спасать! Быстро идти, спасать!» и показывали на меня. Ни на какие уговоры или угрозы не реагировали.
Через несколько часов вышли к небольшому поселению. Хижины из веток и крытые широкими листьями, небольшие костры, чадящие дымом тут и там. Пожалуй, все жители деревни выбежали посмотреть на гостей. Но после коротких переговоров с одним из наших носильщиков, вождь, наверное это был вождь, подошел ко мне и взяв за здоровую руку повел мимо хижин, снова в джунгли. Вел недолго. Мне было все равно, мной овладела апатия, я чувствовал только боль в руке.
Хижина, к которой меня вывел вождь, была большой, стояла на сваях, на помосте сидел старик. Он поманил меня рукой. По шаткой, короткой лестнице, скреплённой лианами, я поднялся к нему и сел рядом, свесив ноги с помоста. Он посмотрел на мою руку, поднялся и ушел в хижину. Вернулся скоро, но я уже лежал на спине и смотрел в зеленый свод, сквозь который виднелось редкое белое небо. Он показал мне комок листьев, с которых капала какая-то розовая жидкость. И бесцеремонно раздвинув мои губы, сунул этот комок мне в рот. Показал, что нужно жевать. Я стал жевать. Вкус был терпким и ни на что не похожим, но приятным, освежающим, боль нехотя отступила. Глаза я закрыл, что бы насладиться, наконец, покоем без боли и вкусом чудесных листьев. Нужно обязательно узнать, что это за листья, нашему доктору, конечно, не помешает иметь такие при себе.
Мне стало очень легко и спокойно, я чувствовал себя отдохнувшим. Открыл глаза и сел. Старик сидел рядом, смотрел на меня и улыбался.
– Легче стало? – спросил он.
– Да, большое спасибо! – ответил я.
– Хорошо, – сказал он, жмурясь, – твои люди ушли, оставайся со мной, я тебе многое расскажу и покажу.
– Нет, – покачал я головой, – мне нужно идти. Скажи, что это была за змея и что это за листья?
– Змею мы называем «Попрощайся», а листья «Поздоровайся».
И заливисто засмеялся. Я тоже засмеялся вместе с ним. Было легко и радостно.
Я пошел. Почему то, вверх, сквозь зеленый свод к белому небу.
Смерть третья
Обстановка комнаты спартанская, кровать, табурет, стол, крошечная полка с осколком зеркала. Руки привычно и быстро разобрали пистолет. Детали легли на заботливо расстеленную тряпицу. Стол маленький, и детали заполнили почти всю ее поверхность. Торопиться было некуда, но движения были привычными, точными и быстрыми.
Я любил этот пистолет, за его точность и безотказность. Да, я убил из него многих. И не только из него. Но с ним не расставался никогда. Он стал продолжением руки, пальцев. Длинной рукой, которая плюет огнем, клубом порохового дыма и маленькой пулей.
Еще я очень устал. Совсем не сплю. Как только закрываю глаза, передо мной являются все те, кого я убил. И тянут свои руки к моему лицу. Скалят кровавые губы, смотрят безглазо, блестят влажной костью черепов. Я стрелял всегда в голову. Так, что бы жертва, не мучилась. Они не мучились. Падали, оседали бездыханными телами. Сразу. Но это не помогло. Спать я не мог. Они все равно являлись.
Но сегодня я высплюсь. Дочищу пистолет и высплюсь. Я знал это.
Еще я знал что, за мной придут. Придет такой же, как и я, разве что моложе, наверное. Пистолет чистился как бы сам собой, руки двигались с точностью механизма. Здесь каплю масла, здесь протереть ветошью. Последними, скупыми движениями снарядил магазин. Вставил его в рукоять. Дослал патрон. Положил пистолет. Он лежал, на тряпице, тускло поблескивая выступающими гранями, там, где воронение стерлось. Можно и закурить. Достал сигарету, спички. Сигарет было достаточно, а вот спичек – всего одна. Что ж. Больше и не понадобиться. Зачем спящему курить? Зачем ему спички?
Размяв сигарету в пальцах, достал спичку. Осмотрел ее. Хорошая спичка. Простое устройство. Чиркнешь и она даст тебе огонь, хочешь прикури, хочешь разожги костер и согрейся, а хочешь подожги амбар соседа.
Я услышал. Тихие, вкрадчивые шаги. Он пришел. За мной. Что бы выстрелить мне в голову. Чтобы потом, я приходил к нему и тянул руки к его лицу. Короткие руки, которые не смогут плевать огнем, клубом порохового дыма и маленькой пулей. Просто руки, как у всех. Что ж, дверь открыта, пусть входит. Но я успею. Жаль спичку, не прикурить, вот этого не успеть, спичка упала на пол, сигарета выскользнула. Пистолет, продолжение руки, прикоснулся к виску, щелчок. Осечка. Я все еще не сплю. Невозможно. Он не подводил ни разу. Я положил его на стол. Он чужой. Кто и когда его подменил. Это уже не моя рука. Достал новую сигарету, бездумно взял пустой коробок.
Дверь тихонько скрипнула. Я поднял руки, в одной сигарета, в другой коробок. Тихие шаги. Чужая длинная рука уткнулась мне в затылок. Я потряс пустым коробком. Тишина.
Слева щелкнуло, и появился огонек зажигалки. Хорошая зажигалка, бензиновая, такой приятно прикуривать толстенные сигары. Аккуратно прикуриваю свою маленькую сигарету, скосив глаза. Молодой, моложе меня. Что ж, так и должно быть. Он резким движением захлопывает крышку зажигалки. Хватаю пистолет, падаю на спину, табурет выскальзывает и больно врезается куда-то в бедро. Моя, теперь уже длинная рука, плюет огнем, клубом порохового дыма и маленькой пулей, ему в лицо, которое я вижу, пока падаю спиной на пол. Он тоже успевает выстрелить и тоже падает спиной на пол.
Лежу. Кто думает что ранение в живот не больно, тот никогда не получал маленькую злую пулю в свой мягкий живот. Это чертовски больно. Крови почти нет, аккуратная дырочка в футболке, чуть окрашенная красным. Вся кровь остается внутри. Грязная работа, некрасивая. Больно. Я безошибочно, как всегда ткнул его в лицо, и теперь не хочу на него смотреть.
Все еще курю. Выпускаю дым в потолок, тонкой струйкой. Торопиться некуда. Скоро можно поспать. Глотаю дым и не могу послать последнюю струйку в потолок. Засыпаю.
Руки, много рук, которые тянутся к моему лицу. Какой страшный сон. Но уже не больно.
Смерть четвертая
– Вы обвиняетесь…
Я не слышал, что было дальше, потерял сознание. Пришел в себя в камере, клетке. Как несправедливы они. Я давал свободу тем, кто ее жаждал, а жаждали ее все, не все признавали это. Страшились. Я освобождал дух от бренной плоти. И вот теперь мой дух почти сломлен, а плоть в клетке. Если они обвинили меня, значит, будет казнь. И мой дух освободят. Немного жаль, что дух почти сломлен. Сможет ли он воспарить, как воспаряли те, кого освободил я? Сможет ли мой освободитель, пролить слезы радости, как проливал я?
Мои жертвы, как они их называли, страдали. Страдали от бедности и болезней, порока и страстей. Я же освобождал их. Доводя до вершины плотского наслаждения, освобождал их дух. У каждой жертвы, как они их называли, была своя вершина, свой порочный ключ к наслаждению. Алкоголь, опиум или плотская страсть. Некоторым нужно было лишь обещать и в предвкушении своей вершины они шли за мной. Ожидание, тоже может быть наградой. Но чаще я давал им то, чего они страстно желали. И всегда, давал больше.
Иногда плоть страдала, но тем вернее была награда для духа. Что значит, один день страданий плоти, пред годами заточения духа? И пред вечностью духа свободного?
Иногда, слабая плоть жертвы, как они их называли, просила отпустить ее, и тогда я плакал от жалости пред явлением слабости. Я умолял слабую плоть, немного потерпеть, укреплял вершину новыми дозами наслаждения, скреплял сердце свое и продолжал освобождение.
Не знаю, сколько времени я провел в клетке. Однажды, пришел священник и спросил, хочу ли я исповедаться. Я засмеялся ему в лицо. Хотя не знал, зачем. Это было правильным, так, мой дух проявил свою силу. Значит, он не сломлен. Значит, я воспарю.
После, через день или год, за мной пришли и вывели из клетки. Меня повели к месту моего освобождения. Слабая плоть сопротивлялась. Но дух мой ликовал. Свобода близка, я сделал что смог, многие остались в плену плоти, но и мои силы были на исходе. Пора и моему духу воспарить.
Меня посадили на стул, как они это называли. Почему это называют стулом? Это трон. Трон триумфа, трон свободы. И эта мысль придала моему духу, больше сил. Значит, дух не сломлен.
Жаль что, в моем распоряжении не было такого устройства, с природной силой. Но я неплохо справлялся отточенной сталью и огнем. Моя же плоть сопротивлялась, пока руки и ноги надежно не зафиксировали. Похоже что, эти люди не так глупы и несправедливы. Было бы неразумно, проделав весь этот путь, позволить плоти взять верх над замыслом и испортить торжество духа. На голову мне одели венец. Чрез этот венец, природная сила усмирит плоть. Я не желал других наслаждений в своей жизни, кроме как дарить радость свободы другим. Пришла и моя очередь.
Дух воспарил. Воспарил вниз. А плоть продолжала сопротивляться природной силе.
Смерть пятая
Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его.
Хорошо написал Екклесиаст. Правильно.
Прими мой дух, Боже.
Тонуть легко. Паришь как ангел в небеси. Темнеет вокруг, только высоко вверху яркий кружок солнышка. Эхма, возвратится ли мой прах в землю? Или будет на дне речном объеден раками и тварями придонными? И им надо чем-то питаться. Господь, никого без внимания не оставит. Как написано, даже волос с головы вашей не упадет, без Его ведома.
Вода уже была во мне. Вдохнул воду, когда стало невмоготу терпеть. И теперь уже не больно, а так горело все внутри, без воздуха-то. Может и вправду, Господь вывел нас из воды. Может из глины создал, да в воду сунул, а потом вывел из нее. А зачем вывел то? А что бы за грехи наши тяжкие, да за разврат Потопом всемирным изничтожить, кроме Ноя праведного с семьей его. Неисповедимы пути Твои Господи. Вот только на пороге Рая, тайны открываются. Прими дух мой Господи! Жалко рясу то, новехонькая. Эх, знать бы, да я бы ее в келье оставил, да в какое вретище облачился… Эх!
Послесмертие. Светло-то как стало! Узреть бы ангелов Божиих, да голоса их послушать, ох и не терпится! Может и сам апостол Петр выйдет встречать, верного раба Божия. Нет, нет, нет. Недостоин я. Пусть так, хоть краешек створочки приоткроет, я и прошмыгну. Ибо тесны врата и узок путь ведущие в жизнь… Вышел апостол, вышел родимый! В ноги тебе поклонюсь! Ой, что делается то, Господи! Кулачищем то своим, да под дых мне, да в грудину! Господи, спаси и сохрани! Что ж делается то, Господи? Сам апостол Петр бьет. Как разгадать знак? Как Иаков боролся с ангелом, али сбросить меня с небес хочет, апостол то? Ай! Снова бьет! И встряхнул за плечи! Да сильно так. И больно становится. Ну, правильно, правильно. Душа хоть и бесплотная, да страдать может. Видно грехи мои тяжкие, счел их апостол Петр, да и скинуть решил с небес, от самого порожка. Дай хоть за створочку заглянуть, старикашка! Ах, снова бьет! Да сильно так, что исторгнул из естества своего воду речную, и точнехонько пред порог райский. Прости меня, Господи.
«Бог простит!» – молвит он. И рукавом кафтана, пот утирает. «Насилу откачали тебя, божий человек. Куда ж ты в воду полез, коли плавать, не учён?»
Заплакал я, жалко было. Апостол Петр не пустил – жалко, ангелов не увидел тоже жалко и напачкал у порога райского – тоже нехорошо получилось. Ох, грехи наши тяжкие.
Смерть шестая
Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его, – книга выскользнула из рук и глухо стукнулась о коврик. Заснула. Пусть поспит. Ей можно, у нее вся жизнь впереди, и устала, поди, дочка.