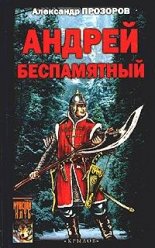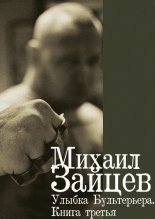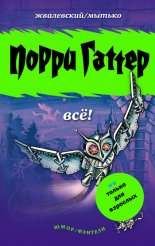Скованный ночью Кунц Дин
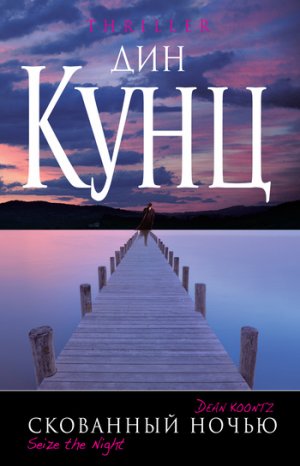
Читать бесплатно другие книги:
Известный писатель Авдей Белинский, его бывшая жена – ведьма Наташа, и молодая природная ведьма, кот...
Группа российских пограничников, погибших в бою на горном перевале, воскресает несколько веков спуст...
Странные и необъяснимые события начинают происходить с героями повести буквально с первых страниц кн...
Бультерьер, спец по восточным единоборствам, всегда действовал бесшумно и эффективно, в лучших тради...
«Стоит сказать и о принципиальном отличии «Порри Гаттера» от многих других литературных пародий. Это...
Эксперимент по испытанию нового оружия прошел неудачно – и заштатный военный городок со всеми обитат...