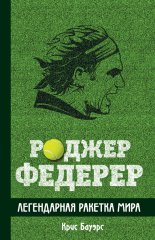Сто поэтов начала столетия Бак Дмитрий

«О светотени думаешь одной…»
В наши дни временная дистанция между скрытым от посторонних глаз событием создания стихотворения и его обнародованием предельно сокращена, иногда она сводится к нескольким ударам по клавишам, необходимым для размещения только что написанного текста в микроблоге. Тем ценнее, что в пространстве поэзии продолжают существовать авторы, словно бы задержавшие дыхание, экономящие свои и читательские силы, пишущие редко, а чаще красноречиво молчащие. Это такие разные поэты, как, скажем, Д. Тонконогов, М. Гронас, Г. Дашевский, отчасти С. Гандлевский. «Блажен, кто молча был поэт» – эта строгая пушкинская формула к сегодняшнему стихотворчеству не очень-то применима. В эпоху твиттера все побуждает к незамедлительному выговариванию пришедшего на ум и на сердце. Речь идет даже не о многописании, но именно о сокращении расстояния между написанием и преданием гласности любых строк, в том числе и тех, что по-прежнему, несмотря на все сны о конце искусства, называются стихами. Нет труднопреодолимой (и часто необходимой!) преграды между эмоцией и «лирической возможностью» (Набоков), между замыслом и словом, между черновиком и публикацией.
Стихи Анны Аркатовой в большинстве своем отмечены подобной печатью непосредственности – иногда подкупающе откровенной, иногда наивной, а порою оборачивающейся необязательностью. Стихотворение целиком располагается в монологичном пространстве рассуждения о себе изнутри и снаружи, попытки судить о происходящем в мире помимо авторского сознания практически отсутствуют либо даны иронически:
- История, повремени!
- Запомни, как в этом форсаже
- И мы были птицам сродни.
- А может, и ангелам даже.
История может быть только личной, накрепко связанной с конкретными событиями, случившимися в чьей-то отдельно взятой жизни. Если взыскательно вынести за скобки все стихи, в которых дело сводится к коллизии ты-да-я-да-мы-с-тобой, – останется ли еще что-нибудь? К счастью – останется: например, стихотворения, в которых связка личного и исторического не выглядит столь предсказуемой, подлежащей простому пересказу. Есть у Аркатовой вещи, в которых появляется недосказанность, неопределенность, широта – в общем, все то, что отличает поэзию от мастеровитых иллюстраций конкретных чувств и событий.
- Четырнадцатое июля
- День взятия Бастилии
- Бабушка с тетей заснули
- А меня отпустили
- У тебя мол такие нагрузки
- Иди погуляй у подъезда
- А то дед как начнет по-французски
- Орать эту как ее марсельезу
- Не приведи господи…
Поводом для воспоминаний о событиях далекого детства здесь становится Национальный праздник Французской республики (стихотворение «День взятия Бастилии»). Причем отличия от предыдущего процитированного стихотворения разительны. Там – достаточно стандартная констатация: «со мною (с нами) происходит нечто настолько значительное, что для нас происходящее эквивалентно событиям исторического масштаба». Здесь – все выглядит совершенно иначе, День взятия Бастилии и бесконечно далек от мелких семейных событий, и вместе с тем тесно с ними связан, в конечном счете – стал причиной неловкой попытки бабушки и тетки отправить юное создание на принудительную прогулку.
Это стихотворение – сравнительно нечастый для Аркатовой случай выхода за границу узкой арены событий, в которых обязательно участвует не только «я», но и «ты». Об этих извечных персонажах, всем известных до тривиальности, связанных отношениями любви-разлуки и т. д. и т. п., нынче писать очень трудно, нужен какой-то особенный поворот темы, иначе все выглядит слишком уж ясно и предсказуемо. «Храни меня в сухом прохладном месте, / Бери меня четыре раза в день…» или «Скребущая во сне изнанку живота – / любовь, я не люблю уже твоей запруды» – вроде бы ведь и выстрел точный, да только слишком уж на виду все стадии и атрибуты: оружие, пули и мишень, вернее говоря, лук-стрела-сердце. И даже сверхточные выстрелы уже не так неодолимо бьют в цель, как это было лет сто назад, в пору рассуждений о надетых не на ту руку перчатках:
- Дергаешь плечики – что же надеть?
- Вечная паника у гардероба.
- Брось – начинается третья треть,
- Где-то кроится последняя роба.
- Что тебе брошки, платки, кружева?
- Думай о главном – ведь ты же большая!
- Думаю: главное, юбка жива,
- Что надевала, тебя провожая.
Впрочем, как только Анна Аркатова перестает следить за полетом Эротовых стрел, возникает совсем иная геометрия стиха, лишенная заранее промеренной узкой камерности. Взамен появляется выверенная точность пропорций, очерчивающих разомкнутый горизонт смыслов. «Пространственные» метафоры здесь упомянуты не случайно – по всей видимости, живопись, графика во всех технических деталях известны Аркатовой не понаслышке. Классические живописные изображения аукаются друг с другом, вдруг возникают как навечно застывшие прообразы ситуаций современной жизни, превращаются в живые картины, многое подсвечивающие и объясняющие.
- Не женская, скажу тебе, работа –
- Разглядывать часами фрески Джотто,
- Зрачок на резкость тщетно наводя, –
- Когда его стекло почти размыто,
- А женщина предчувствием убита,
- Сама глядит и плачет за тебя.
- Ее волос утраченный рисунок
- Так верно закрепил желток и сурик,
- Сопроводив к подножию волной,
- Что для тебя здесь больше нет сомнений –
- Ты думаешь о свойствах светотени,
- О светотени думаешь одной. ‹…›
Можно, вероятно, и не знать, что в этом стихотворении («Капелла Джотто после реставрации») речь идет о расписанной Джотто ди Бондоне капелле семейства Скровеньи в Падуе, главное – приобщиться к очевидной мысли: библейские сюжеты (и их классические изображения) могут быть самым непосредственным образом сопряжены с нашей суетной жизнью. Причем важно, что эти соответствия не носят характера прямолинейных расшифровок, они многозначны, нетривиально глубоки. И как же важно, что карты тут не раскрыты, фраза «женщина предчувствием убита» может означать и предвестие крестных мук на Голгофе, и совершенно иные «женские» заботы: материнство, любовь, труд как таковой, физический и сердечный («Не женская, скажу тебе, работа…»). И все это возникает не из прямо названных и объясненных эмоций, но просто посредством умения чувствовать «свойства светотени»…
Не знаю, привиделась ли мне в последней строфе молочница с картины Вермеера, завороженно смотрящая на струю льющегося в миску молока, погруженная в свои, утаенные от всех мысли… Так или иначе, и здесь Анна Аркатова верно схватывает окольную связь душевного настроения и физически конкретного жеста, за которой кроется цельность мира, взаимозависимость слов и вещей:
- Хозяин высушил и вытер
- стеклянный корпус января,
- и слово здесь звучит как выстрел,
- случайный, выпущенный зря.
- Поскольку ясно, что без споров,
- Без оглушительных вестей
- Взойдет причина для разбора
- Как части речи жизни всей.
- Потом подробней – части слова
- своих потребуют отмет,
- и я на холоде готова
- держать, как пленку на просвет,
- свой жест, отмеренный еще раз,
- и, тщась периоды продлить,
- сбиваться шепотом на шорох,
- и молоко на скатерть лить…
Значит, все же получается, что Аркатова сильна вовсе не на территории «женской лирики», что самые важные ее стихотворения выходят далеко за рамки любовных трюизмов! Весь вопрос, как всегда, в пропорциях исхоженных тропинок и воздушных путей в стихах. Соотношения эти не всегда говорят в пользу автора, впрочем, еще ведь далеко не вечер. Главное – думать о светотени!
Групповой портрет // Арион. 2001. № 1.
Внешние данные. М., СПб: Летний сад, 2003.
Наша поэтическая антология // Новый берег. 2006. № 14.
Под общим наркозом // Знамя. 2007. № 2.
Пейзаж для снимка // Новая Юность. 2007. № 4 (79).
Теперь мы движемся наощупь // Интерпоэзия. 2008. № 2.
Одноклассники. ru. маленькая поэма // Новый мир. 2009. № 5.
Полная ясность. Стихи // Знамя. 2009. № 7.
Листки // Арион. 2011. № 1.
День ученика. Стихи // Новый мир. 2011. № 6.
Прелесть в том. М.: Воймега, 2012.
Белла Ахмадулина
или
«Свой знала долг, суровый и особый…»
Большой поэт всегда начинается с узнаваемых тем, образных рядов, которые постепенно (либо – стремительно) складываются в цельный и обжитой мир. В дальнейшем возможны разные варианты поэтической судьбы, но очень многое зависит от степени постоянства либо гибкости и переменчивости созданного и однажды опознанного читателем мира. Склонность к осознанному отказу от собственных творческих установок – удел Б. Пастернака или Н. Заболоцкого, их путь в самых общих определениях может быть описан как более или менее резкий и вызванный целым комплексом внешних и внутренних причин переход от «сложности» к «простоте».
Иное дело Белла Ахмадулина – координаты ее поэтического космоса остаются стабильными и узнаваемыми на протяжении долгого времени. Космос Ахмадулиной – обжитой, соразмерный человеку, порою камерный, суженный до габаритов комнаты, дома, сада, до смысловых рамок задушевной беседы. Ключевые позиции в ахмадулинском мире принадлежат искусству, лелеемой способности к высокому стилю, к изысканной выспренности поэтического высказывания. Здесь царит культ дружбы, Пушкина, русской лирики, русской музыки и природы. Однако – и в этом самое главное! – поэтическое пространство Ахмадулиной, будучи устойчивым и даже незыблемым, все же меняется, точнее говоря, меняет свои функции, иначе воспринимается на фоне хронологически и сущностно разных поэтических контекстов.
В ранние шестидесятые незабываемые «мотороллер розового цвета» или «розовый фонтан» газированной воды, брызжущей из автомата, воспринимались как знаки своеобразного бунта – сразу и против казенной «гражданской лирики» эпохи соцреализма, и против высокого и искреннего гражданского пафоса в стихах Евгения Евтушенко. Жизнь частного человека, окруженного маревом собственного, не навеянного извне видения вещей, есть главный предмет внимания Ахмадулиной в те годы. Энергия преображения традиции, смелого смещения фокуса поэтического зрения, отход от привычного, традиционного – вот итог сложного взаимодействия (притяжения/отталкивания) лирики Ахмадулиной и стихотворного мейнстрима оттепели.
С течением времени и – особенно явным образом – в последнее десятилетие ахмадулинская манера, оставаясь опознаваемой почти безошибочно, начинает восприниматься совершенно по-другому. Равнодействующая смыслов движется теперь по направлению к уходу от каких бы то ни было бунтарских нарушений традиции. Претерпевшая лишь несущественные изменения манера ахмадулинского стихового высказывания ныне выглядит совсем иначе. Неизменная камерность и сосредоточенность на высоком дружестве поэтического общения теперь уже кажется (и на самом деле является!) знаком отсутствия протеста, вообще отсутствия сильной, резкой эмоции, выходящей за рамки сдержанного и твердого высказывания, адресованного не оппоненту, но другу и единомышленнику.
Прекрасная способность Ахмадулиной к усложненному и вместе с тем почти силлогистически ясному высказыванию по-прежнему остается непревзойденной:
- Шесть дней небытия не суть нули.
- Увидевшему «свет в конце тоннеля»
- скажу: – Ты иль счастливец, иль не лги.
- То, что и впрямь узрело свет, то – немо.
- Прозренью проболтаться не дано.
- Коль свет узрю – все черный креп наденьте.
- Успению сознанья – все равно,
- что муж вдовеет, сиротеют дети…
Пространность стихов Ахмадулиной, их сюжетность, событийная насыщенность давних поклонников поэта обмануть не могут. Речь всегда идет не об эпически отстраненном изображении неких вымышленных, условных, случившихся с другими людьми событий, но о происшествиях, точно и непременно имевших место в духовной либо «материальной» жизни конкретного человека – поэта Беллы Ахмадулиной.
Можно было бы сказать, что большая часть опубликованных произведений поэта принадлежит к категории стихотворений «на случай», за каждым угадывается (либо бывает назван прямо) конкретный собеседник – по большей части человек искусства, а порою – случайный встречный, которому уделена проникновенная и рассчитанная на понимание речь о его собственной бытовой либо сокровенной жизни.
Поэзия для Ахмадулиной – не средство описания и не объект внимания, но непреложное свойство бытия. Метафоры и рифмы, оставленные, например, Пушкиным, не обойдены вниманием потомков, давно покинули рамки конкретных стихотворений, вошли в плоть и кровь реальности, как самые простые и исконные слова и вещи.
- Я думала в солнцеморозном свете:
- зачем так ярко, так тепло живой
- Он непрестанно помышлял о смерти?
- Мысль не страшна – насущна и важна,
- и предстоящей пагубы подробность
- обдумана: бой, странствiе, волна…
- Нет книги – можно пульс виска потрогать,
- добыть строку, желанье загадать
- иль вспоминать Его июнь двухсотый,
- где я, как при дуэли секундант,
- свой знала долг, суровый и особый…
Стоит гению однажды произнести «мороз и солнце» – и, начиная с этого мгновения, сопряжение двух физических параметров (низкой температуры и яркого света) становится свойством любого зимнего дня, достойного эпитета «чудесный». Момент сопряжения однажды сказанного поэтического слова и его нового повторения-творения в устах поэта в стихах Ахмадулиной означен рядом близких эпитетов – «чудо», «волшебство», «творчество»:
- Я ожила, а слово опочило.
- Мой дар иссяк, но есть дары цитат.
- Нашлись для точки место и причина…
Как же это напоминает незабываемые «старые» (1968 года) строки Беллы Ахмадулиной:
- Мне вспоминать сподручней, чем иметь.
- Когда сей миг и прошлое мгновенье
- соединятся, будто медь и медь,
- Их общий звук и есть стихотворенье.
Вот так и продолжает петь свои песни Ахмадулина, не замечая дольних бурь и битв, обращаясь к Андрею Битову и Юрию Башмету, к Борису Мессереру и Юрию Росту, Андрею Вознесенскому и Юрию Любимову, Володе Васильеву и Кате Максимовой… Нет, не все у нее гладко, иногда словесная вязь наглухо закольцовывается в круговую череду поэтических раздумий о самой поэзии. Пожалуй, в истории русской поэзии только Афанасию Фету удавалось сохранить живость и непосредственность в столь густой взвеси возвышенных слов. Ахмадулина же порою испытывает «умственные затруднения», впрочем, и сама в этом с легкостью признается:
- Лежаний, прилежаний, послушаний
- я кроткий и безмолвный абсолют.
- Двоится долг двух розных полушарий,
- они не ладят, спорят, устают.
- Я лишь у них могу просить подмоги,
- но скрытен и уклончив их намек.
- Мозг постоянно думает о мозге.
- Он дважды изнемог. Он занемог.
Вопреки подобным опасениям в стихах Беллы Ахмадулиной последнего десятилетия мысль о мысли не отдаляет поэта от реальности, но порождает двойную мысль о бытии: полнокровную, самодостаточную, хоть и замкнутую в теме и предмете; игнорирующую того, кто не настроен на волну симпатии и понимания, но безошибочно находящую благодарного и сочувствующего слушателя.
Влечет меня старинный слог. М.: Эксмо, 2000. 525 с.
Нечаяние: Стихи, дневники. 1996–1999. М.: Подкова, 2000. 213 с.
Сны о Грузии // Дружба народов. 2000. № 10.
Стихи. Поэмы. Переводы. Рассказы. Эссе. Выступления. Екатеринбург: У-Фактория, 2000. 607 с.
Стихотворения. Эссе. М.: АСТ; Астрель; Олимп, 2000. 507 с. (Отражение. XX век).
Блаженство бытия // Знамя. 2001. № 1.
Блаженство бытия. М.: Эксмо, 2001. 412 с.
Пуговица в китайской чашке. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. 60 с.
Пациент // Знамя. 2002. № 10.
Хвойная хвороба // Знамя. 2003. № 1.
Посвящения // Знамя. 2004. № 1.
«Живут на улице Песчаной…» // День и ночь. 2005, № 11–12.
Таруса / Б. Ахмадулина; иллюстрации Б. Мессерера. М.: Артлибрис, 2005. 272 л.
Василию Аксенову // Октябрь. 2007. № 7.
Письмо Булату из Калифорнии // Вестник Европы. 2007. № 19–20.
Путник. М.: Эксмо, 2007. 318 с.
Шарманки детская душа. М.: Эксмо, 2007. 352 с.
Озябший гиацинт // Знамя. 2008, № 5.
Утро после луны. М.: Астрель; Олимп, 2009. 352 с. (Книга на все времена).
Озябший гиацинт. М.: Астрель; Олимп, 2009. 288 с. (Книга на все времена).
Иван Ахметьев
или
«Инструментальное значение поэзии…»
Стихи Ивана Ахметьева узнаваемы с полуслова: поскольку в них нередко присутствуют и в самом деле как будто бы только полуслова и полуфразы, языковой материал расходуется экономно, с минимальными издержками для глаза и уха читателя. Впрочем, минималистская поэзия – это не просто короткие стихи. Дело совсем не в краткости, но в изначальном разрушении привычного равновесия слов, вещей и представлений. Тут нет ничего странного или тем более мистического. Ведь значением обладают не только слова, но и фрагменты слов – причем не только «разговорч-», «крутящ-», но даже и «-ость» и «-тель». «Довольно покупать все новые модели проигрывателей – пора наконец найти выигрыватель» – эта случайно услышанная незатейливая острота возможна именно потому, что «-тель» может означать не только прибор (как «глушитель»), но и род занятий («учитель»). Смешение двух смыслов может породить каламбур, замкнутый в словесной материи (семантике); чтобы этот каламбур услышать, достаточно просто «переключить» восприятие в иной регистр: так, в том же слове «глушитель» посредством подобного переключения регистра можно усмотреть метафорическое обозначение строгого цензора, душителя литературной свободы.