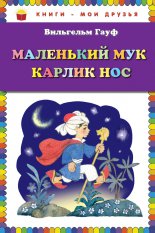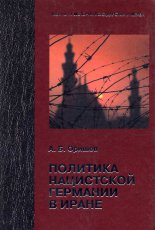Политическая преступность и революция Ломброзо Чезаре

Чезаре Ломброзо – очевидец «восстания масс»
У истоков современной науки массовой психологии стоит фигура человека и ученого, заслуги которого в этой области не оценены по достоинству. На него с неоправданной легкостью навешивались ярлыки, ему давались часто взаимоисключающие политические оценки. Отдельные работы этого исследователя выходили массовыми тиражами еще при его жизни и впоследствии, другие же почти неизвестны читателям… Возможно, что такая судьба, уготованная его идеям и его научному наследию, была обусловлена изначальной сложностью и противоречивостью самой натуры и жизненного пути этого исследователя.
Чезаре Ломброзо родился 18 июня 1836 г. в Вероне, а умер 19 октября 1909 г. в Турине. Время его жизни совпало с одним из самых бурных периодов в истории Италии, в эпоху Рисорджименто воссоединившееся государство быстро входило в политический и культурный круг европейских держав, ее писатели, философы и поэты приобретали мировую известность. Политические и военные потрясения, в изобилии обрушившиеся на страну, не обошли и жизнь молодого Ломброзо: он успел посидеть в тюрьме по обвинению в участии в заговоре, воевал. Но уже совсем скоро Ч. Ломброзо находит свой истинный путь, на котором он обретет прижизненную славу.
С 1862 г. Ломброзо становится профессором университета в Павии, где начинает читать лекции по курсу психических болезней, позже он становится директором клиники душевных заболеваний в Пейзаро. В 1876 г. перебирается в Турин, где получает кафедру юридической психиатрии и криминальной антропологии. В тиши периферийных научных центров «периферийной» страны этот человек создавал свою теорию, которая вскоре вызовет шок у мэтров классической психиатрии и психологии по всей, быстро цивилизующейся в конце XIX в. Европе.
Ломброзо сумел весьма удачно контаминировать два самостоятельных научных метода: теоретический анализ, основывавшийся на разработках и идеях видных ученых, и большую экспериментальную работу, проводимую им на базе целого ряда медицинских и пенитенциарных учреждений. Обещающей сенсационные результаты сферой его исследований стала пограничная область между медициной и юриспруденцией, он назовет ее юридической, или криминальной антропологией.
В конце XIX – начале XX вв. антропология как самостоятельная наука развивается особенно быстро, открывая все новые горизонты исследований, формулируя новые проблемы и предлагая новые пути для их решения. Ломброзо сосредоточивает свои усилия на разработке некоторых весьма специфических аспектов рождающейся социальной антропологии – в будущем это направление получит название криминология.
На основе исследования многочисленных антропометрических данных, полученных при обследовании преступников, Ломброзо как врач и юрист приходит к выводу об особенностях их психического и антропологического развития. «Дегенераты» – такова его общая оценка этого социального типа, черты которого в значительной мере являются врожденными и неизменными. Задачей социальной антропологии в этой связи является установление причин и обстоятельств, при которых данный тип получает наибольшее развитие, и разработка мер для его устранения из социальной среды. Фактически именно Ломброзо настаивает на применении социологических методов в юриспруденции, широко привлекая в эту сферу материалы из смежных областей антропологии, психиатрии и психологии. «Атавистические признаки», свойственные, по его мнению, преступным элементам, «врожденным преступникам», очевидно, свидетельствуют об их перманентной социальной опасности, – дело юристов зафиксировать их и принять соответствующие меры.
В 1864 г. появляется работа, принесшая Ломброзо громкую известность – «Гениальность и помешательство» (русский перевод 1892 г.). В блестящей и парадоксальной форме молодой ученый излагает свою концепцию психических соотношений, существующих между гениальностью и безумием, ссылаясь при этом на длинный ряд трудов своих предшественников в этой области исследований. Здесь же он намечает наиболее важные связи, имеющие место между структурами патологической психики и множеством иных факторов, в число которых входят географическая среда, климат, социальные и культурные феномены. (На протяжении долгих лет оппоненты будут не слишком справедливо упрекать Ломброзо в недооценке именно социальных факторов, которые он якобы упускал из виду при изучении причин преступности).
Большую помощь в разработке проблем криминальной антропологии Ломброзо получил, внимательно изучая труды Г. Лебона, Г. Тарда, от совместной работы с Э. Ферри. В 1890 г. вместе с известным социологом Р. Ляски Ломброзо выпускает исследование, в котором психические характеристики индивида и нации самым тесным образом переплетаются с политическими и правовыми феноменами – «Политическая преступность и революция в отношении к праву, уголовной антропологии и государственной науке». Самым обстоятельным образом в ней исследовались связи и влияния, существующие между индивидуальной патологической («врожденные преступники») психикой и социально-политическими феноменами и процессами в обществе.
Пожалуй, впервые наиболее определенно Ломброзо демонстрирует здесь свое отношение к социально-психологическому феномену новейшего времени – массе, толпе. Эта работа стала одной из основополагающих в процессе рождения новой общественной науки – массовой психологии. И если впоследствии имя французского исследователя Г. Лебона несколько затмит заслуги итальянского ученого, все же Ломброзо в этой области науки принадлежит весьма важная заслуга. Соединение психологического анализа с анализом правовым (из чего и выросла уголовная антропология, или криминология) позволило ученым исследовать «преступную толпу» как сложный антрополого-социальный феномен, а не как простую модификацию суммы индивидуальных психик, вывело его из сферы чистой психологии в область исследования социальных и политических наук.
1. Юриспруденция и психология: общий объект исследования – революция
Наиболее деликатный вопрос для Ломброзо – вопрос об особенном характере юридической ответственности индивида и группы за политические преступления. Уже в своем предисловии к работе, написанном в соавторстве с Р. Ляски, Ломброзо замечает: «Мы теперь же соглашаемся, что слово преступник, в приложении к совершителям политических проступков, должно казаться неподходящим, в особенности если их смешивать с преступниками врожденными… Мы должны… держаться технического названия, хотя и признаем, что политический преступник является таковым только с юридической точки зрения, а отнюдь не с нравственной или социальной» (С. 4)[1]. Авторы надеялись на постепенное сокращение в правовой практике числа проступков, считающихся политическими преступлениями. Они постоянно подчеркивали существенное различие между понятиями «революция» и «восстание»: только последнее может рассматриваться как преступление, революция же (в толковании Ломброзо и Ляски, более сходная с «эволюцией», постепенным и медленным позитивным преобразованием политической системы) резко отлична от восстания, бунта, как «эволюция отлична от катаклизма». Весьма актуальным подобное толкование было для русского читателя, только что пережившего бурные события 1905 г. Дилемма «революция – эволюция» по-прежнему стояла перед общественным сознанием (и особенно перед интеллигенцией, если вспомнить этот повторяющийся рефрен в романе «Петербург» Андрея Белого) и не могла быть разрешена только в сфере социально-политической. Неизбежным становилось введение проблемы в область психологии, особенно массовой психологии.
Ломброзо считал, что даже прирожденные преступники, совершившие преступление с политической целью, не должны наказываться наравне с уголовными преступниками. Ведь они как бы предвидят назревшие социальные и политические преобразования, но в силу импульсивности своей натуры спешат осуществить эти реформы при помощи средств, явно «противных честному человеку».
Основой вменяемости политического преступления, по мысли Ломброзо, является прежде всего «право большинства граждан поддерживать излюбленную ими политическую организацию, преступление состоит именно в нарушении этого права» (С. 206). Закон большинства есть в сущности закон природы, и на этом законе основаны все государства, представляющие собой общую волю граждан. Нарушение этой воли и должно рассматриваться как политическое преступление. Грань, столь же мало различимая, как и та, какую Ломброзо проводил между гениальностью и сумасшествием, пролегла между политическим преступлением и революционным действием.
Врожденные преступные наклонности часто проявляются в виде революционной деятельности, которая дает им определенное нравственное оправдание. В этой среде Ломброзо выделяет особую группу потенциальных и вечных революционеров, природные данные которых и толкают их на это поприще: «тщеславие, религиозный фанатизм, частые и живые галлюцинации… вместе с крайней импульсивностью эпилептиков, делают из них прекрасных политических и религиозных новаторов» (С. 140). Вообще говоря, маньяки – лучший материал для руководства массовыми движениями. Соединяя фанатическое, непоколебимое убеждение с лукавым расчетом, они действуют, по большей части, без логического обсуждения, но инициативно и очень экзальтированно. Правда, они ничего не доводят до конца, но зато дают чувствительный толчок движению, предварительно уже подготовленному внешними обстоятельствами.
Ломброзо следующим образом связывает болезненные типы психики с формами политической деятельности: «Разные виды сумасшествия отражаются в типах политических преступников. Мономаны и параноики, почти всегда обладающие интеллектом выше среднего, строят обыкновенно широкие системы, но они редко способны действовать и поэтому пренебрегают большой публикой, запираются в интимном кружке и, наподобие настоящих ученых, ограничиваются идеологией, тем более грандиозной, чем меньше они способны к деятельности». Меланхолики, алкоголики и паралитики, напротив, безудержно активны. «Иногда они бросаются в восстание без всяких предвзятых идей, просто чтобы пошуметь и позабавиться» (С. 145). Особую роль в политической борьбе играют цареубийцы, большинство из которых являются откровенно сумасшедшими.
Итак, реформаторы и альтруисты в помыслах, и разрушители и преступники на деле – такова сущность активистов революции. Гении и врожденные преступники действуют в нерасторжимой связи, и самые сумасшедшие и безумные утопии реализуются в жизни, это – характеристика наступающего XX в.
Социальные, политические и экономические факторы рассматриваются Ломброзо в узком контексте главного тезиса: «классовая борьба есть закон природы» (установка эта, пожалуй, ближе Гумпловичу, чем Марксу). На историческом фоне родной Италии Ломброзо рассматривает само действие этих факторов: католические республики Италии пытались в свое время перейти от «религиозного деспотизма» к либеральному строю, основанному на разуме, и погибли в попытке совершить такой переход. Они боролись, волновались, делали революции, проходили через краткий этап свободы, но вновь возвращались к абсолютизму как своей естественной основе.
За это время на историческом горизонте появлялся новый деспот – партии и секты, поначалу возникавшие как средство борьбы слабых с сильными, но вскоре превратившиеся в нового олигархического тирана, в инструмент для «развращения человеческого характера». Ломброзо цитирует А. Токвиля: «Партии суть зло, присущее либеральным правительствам», «великие политические партии интересуются больше разработкой принципов, чем практическим делом; обобщениями, чем специализацией; идеями, чем людьми». Ломброзо приводит в качестве примера Интернационал, объединивший в себе «все секты, стремящиеся к социальной революции» и в течение «тридцати лет производившие повсюду беспорядки» (С. 90). Влияние этой организации на Европу облегчается одной особенностью, свойственной поведению масс вообще, – подражанием, и Ломброзо говорит об эпидемии революций, охватывающих все большие пространства и все большие массы людей.
Подражание особенно сильно там, где слабы внутренние основы индивидуальной или коллективной психики, где слабы традиция и авторитет. Несомненно, человечество постоянно стремится к переменам, но перемены могут осуществляться лишь при условии сохранения основ, главных принципов, на основе здорового консерватизма. Неудачно или преждевременно проведенные реформы также провоцируют начало революций: «только люди, совершенно не знающие натуры человека или чересчур властные, могут вводить реформы, не соответствующие условиям времени, разрушая старые учреждения и заменяя их новыми не потому, что это нужно народу, а потому, что так принято в других странах и при других условиях» (С. 93). Подобное подражательство гибельно для наций и государства: «желать все реформировать – значит, желать все разрушить».
2. Революционный невроз
Импульсивность и неконтролируемость революционных масс не в состоянии объяснить ни психология, ни политическая наука. Полный иррационализм их действий должен восприниматься как исходный момент при анализе поведения толпы и массы, и здесь требуется особый метод наблюдения и анализа.
Самым тщательным образом Ломброзо исследует влияние климатических и географических факторов на массовые движения и революционные ситуации. Здесь он идет значительно дальше своего духовного наставника Ш. Монтескье, им учитываются даже рельеф местности, состояние атмосферы и др.
Что касается человеческого фактора, то здесь Ломброзо предваряет многие начинания американской социологии XX в.: кажется, что важнейшие элементы «социокультурной динамики» Питирима Сорокина непосредственно выводятся из психиатрического анализа революций, данного Ломброзо, – голод и алкоголизм как факторы социальных конфликтов будут самым тщательным образом исследованы великим русско-американским социологом.
Но Ломброзо не просто антрополог, он – социальной антрополог. Вместе с Лебоном итальянский ученый (вслед за немцем Вольтманом) проявляет самый живой интерес к проблемам расологии, исследуя особенности социального развития у различных рас, обращаясь, правда, осторожно и с оговорками, к метрике черепов (долихоцефалы и брахицефалы) и выявлению особой цивилизаторской роли белой расы, отмечая мимоходом, что все революции XVI–XVIII вв. были проведены «белокурыми людьми, принадлежащими к германской расе» (С. 59).
Разумеется, культура нации, выраженная в развитии литературы и печати, самым непосредственным образом влияет на создание революционной ситуации, особенно, как подчеркивает Ломброзо, в тех странах, где она является «преждевременной», как это отмечается у славян, «азиатская кровь которых содействует безграничным полетам воображения». Влияние революционных лидеров и культуры было бы значительно меньшим, если бы ему не содействовала печать, этот главный инструмент в руках современных агитаторов: «революция всегда производилась книгами», – повторяет Ломброзо знаменитый афоризм контрреволюционера де Бональда.
Но главным возбудителем революций и бунтов все же являются страсти: и если в революциях они приобретают более или менее благородные человеческие черты (Лебон говорил об «альтруистических» страстях), то в бунтах они жестоки и бесчеловечны. И в любом случае страсти действуют наподобие взрыва, бросая людей гораздо дальше намеченной цели, в эти моменты все старые истины кажутся нелепостями, а сумасшествие кажется мудростью. Сами инициаторы и создатели революционной идеи очень скоро оказываются в горниле этих страстей: сначала они отстают от своего создания, а затем и поглощаются, уничтожаются им, «революция пожирает своих детей».
Но революция играет вместе с тем и роль очистительного огня – даже самые темные и незаметные люди в ходе революционного катаклизма, считает Ломброзо, начинают выражать чувства, не свойственные им в обыденной жизни. Подражание (феномен, подробно изученный Тардом) многократно усиливает силу страстей; Ломброзо, цитируя Тарда, замечает: хотя большинство людей присоединяются к толпе чисто из любопытства, но страсть, кипящая в некоторых участниках, заражает всех остальных и проявляется в виде «дикого бреда». Некоторые безобидные действия (например, песня, призыв и т. п.) вызывают смутное брожение в толпе, которое очень скоро направляется к иным целям, чем те, которые вызвали это брожение; вместе с Лебоном Ломброзо твердит: «Это вполне естественно, так как страсть опирается не на разум, а на чувство, которое всегда сильно» (С. 74). Страсти питают революционный невроз – феномен, который не может быть понят и исследован лишь методами политической науки.
Авторы «Революционного невроза» О. Кабанес и Л. Насс (работы, подготовленной к изданию в России в декабре 1905 г., т. е. в самый разгар революционного насилия) вслед за Ломброзо и Лебоном доказывают, что в «периоды революций, в обществе данной страны наблюдается обыкновенно и притом одновременно – с одной стороны, значительное понижение умственных сил, а наряду с этим, с другой – победоносное пробуждение первобытных, чисто животных инстинктов, и что таким образом оно в подобные периоды оказывается всецело во власти стихийных, не поддающихся никакому умственному контролю порывов и побуждений»[2]. При этом революционная истерия проявляется одними и теми же симптомами, принимает одни и те же формы и, следовательно, ее истоки и мотивы лежат не вовне, не в социальной, политической или культурной сфере, а внутри самой движущей силы революции – массы, толпы.
Против революционного невроза могут помочь лишь профилактические средства, но если он уже проявился, то не может быть подавлен никакими средствами и мерами, он неизбежно выльется в присущие ему формы, и болезнь будет протекать до своего окончания более или менее продолжительно.
Но спад революции неизбежно наступит, и тогда за безумными вспышками и массовым возбуждением следуют периоды полной прострации. На примерах Великой французской революции и Парижской коммуны Ломброзо демонстрирует результаты этой депрессии, которая последовала за периодом жестоких репрессий и ломки всех государственных, социальных, религиозных и нравственных установлений: волна самоубийств вдруг прокатывается в постреволюционном обществе, одинаково жестоко накрывая собой недавних жертв и палачей, судей и подсудимых, победителей и побежденных.
3. Тайны и парадоксы «преступной толпы»
Понятие «преступная толпа» появилось в лексиконе массовой психологии с легкой руки Сципиона Сигеле. С этого момента какие-либо альтруистические и гуманные рефлексы, казавшиеся свойственными толпе, отходят на второй план: толпа и масса представляются преимущественно злобными и жестокими монстрами, непрогнозируемыми и неуправляемыми в своих действиях.
Тогда же оказываются поставленными в тупик юристы. Во-первых, совершенно неясным остается вопрос об ответственности (юридической) толпы как целого: является ли она особым субъектом ответственности или за ее действия отвечает каждый отдельный член массы, как это принято в классической юриспруденции?
Во-вторых, становится очевидным, что вечно действующая в состоянии аффекта толпа вовсе не располагает никаким, даже самым примитивным правосознанием. Гюстав Лебон первым заметил, какое незначительное воздействие оказывают на ее импульсивную природу законы и постановления: толпа не в состоянии руководствоваться правилами, вытекающими из чисто теоретической справедливости.
Но, как коллективная психология толпы является регрессом по отношению к более сложной психологии отдельной личности, входящей в ее состав, так и юридическая ответственность толпы является институтом более примитивным, чем система индивидуальной юридической ответственности: «Чувствуется, что было бы ошибочно взваливать ответственность на более определенное и ясно выраженное целое – на отдельное лицо, так как в индивиде не заключаются все факторы такого рода преступлений; в нем скорее только одна причина, чем совокупность всех причин» (антропологических и социальных, которые вкупе несет в себе лишь толпа как собирательное целое)»[3]. То, чего недостает в индивиде, дополняет толпа, масса, поскольку она делает его своим атомом, клеткой единого организма, ведь только в ней он становится тем, чем он и является – «человеком массы».
В истории массы неоднократно выходили на передний план политической жизни, но лишь в XIX в. им удалось в ней остаться и начать диктовать собственные условия. «Восстание масс» (Ортега-и-Гассет) произошло в Европе повсеместно, массы получили в свое распоряжение все, чем ранее обладали лишь узкие слои общества, в том числе и влияние на политику. Власть массы скрывается за традиционными политическими структурами и институтами, но часто действуют помимо их и по собственным каналам влияния. В эпоху масс и социальных конфликтов целью борьбы в обществе уже не является исключительно захват структур власти, этой целью становиться осуществление социального влияния[4].
Складывается парадоксальная ситуация: к власти рвутся массы, субъект, который по самой своей внутренней природе не способен рассуждать, не способен к теоретическим и телеологическим построениям, но желающий изменить мир и управлять государствами. Масса не может отличить реального от воображаемого, люди толпы понимают единственный язык – «это язык, минующий разум и обращенный к чувству» (Серж Московичи), массы воспринимают не то, что изменяется, а лишь то, что повторяется и по сути своей весьма консервативны.
Еще один парадокс: эти консервативные, живущие прошлым и своими грезами массы становятся движущей силой всех революций и восстаний. Это среда их реализации, в смутные времена массы выходят на авансцену открыто и демонстративно, громко провозглашая свои девизы и заклинания. Именно в эти моменты на улицах появляются и «чернь», «люмпен», самые низшие слои революционной массы, именно они составляют самую активную часть толпы. Бунт и революция – это праздник для массы, революция открывает широкую дорогу преступлению, смысл которого даже не осознается, поскольку масса переживает все события в состоянии бреда.
Массовое умопомешательство часто выражается в эпидемии галлюцинаций. Ломброзо утверждает: всем великим революциям сопутствовали или предшествовали эпидемии помешательств, но к невзгодам и сумасшествию обычно присоединяются преступные инстинкты, становящиеся во время бунтов преобладающими. Политические и религиозные маньяки возбуждают стихию страстей, из которой на передний план выходят именно самые преступные и извращенные, принимают ли они форму оккультных сект или банальных преступных группировок. «Преступник, – пишет Ломброзо, – есть по самой природе своей импульсивный неврастеник, ненавидящий учреждения, которые мешают ему проявлять свои инстинкты, и потому вечный мошенник, только в бунтах видящий средство удовлетворить свои страсти, тем более что они тогда получают как бы всенародную санкцию» (С. 79). Политическая преступность прекрасно совмещается в революционные эпохи с преступностью врожденной.
Лебон, убежденный в глубоком консерватизме, свойственном массе, предупреждал при этом: внезапная смена обстановки и среды могут коренным образом изменить ее поведение, пробудив дремлющие в массе психические зародыши; «взбалтывание осадка, заложенного предками в глубине нашей души, не проходит безнаказанно. Неизвестно, что может из этого выйти: душа героя или разбойника»[5]. При переходе от состояния покоя к состоянию взрыва поведение массы столь же непредсказуемо, как и сами процессы ее образования или распада. Она быстро переходит от жестокости к альтруизму, и наоборот, совершая эти переходы одинаково спонтанно и сокрушительно для окружающей ее среды.
Актуальная для Лебона и Ломброзо проблема социализма связывалась этими исследователями с подобным типом поведения человеческой массы. Однако упомянутые авторы расходились в своих оценках (и психологических, и юридических) движущих мотивов этого социального движения. С юридической точки зрения объективные обстоятельства антигосударственной, антибуржуазной деятельности социалистов никак не сочетаются с мотивами, субъективной стороной этой деятельности. Критикуя Ломброзо, Г. Лебон замечал: «Современные психиатры полагают вообще, что фанатики социализма, составляющие авангард, принадлежат к особому типу преступников, которых они называют прирожденными преступниками. Но такое определение уж очень поверхностно… и неоправданно широко охватывает различные группы и классы людей»[6]. Примкнувшие к социалистам преступники только выдают себя за политических деятелей, чтобы скрыть за этим свою преступную сущность. Истинные же проповедники социализма, хотя и совершают деяния, с юридической точки зрения признанные преступными, с психологической точки зрения не могут рассматриваться как преступные элементы: эти деяния совершаются ими не только без всякого личного интереса (составляющего существенный признак преступления), но часто вразрез с их интересами. Эти энтузиасты поглощены религиозным чувством, мешающим им разумно и адекватно оценивать жизненную ситуацию.
Одновременно с полемикой Лебон цитирует Ломброзо, точно подметившего, что душевнобольные с альтруистическими наклонностями в новейшее время устремились из сферы религиозности в сферу деятельности «политических партий и антимонархических заговоров своей эпохи». При этом, чем «страшнее и безрассуднее идея, тем большее число душевнобольных и истеричных людей она увлекает, особенно из среды политических партий, где каждый частный успех обращается в публичную неудачу или торжество, и эта идея поддерживает фанатиков в течение всей их жизни и служит им компенсацией за жизнь, которую они теряют, или за переносимые ими муки»[7]. Альтруизм толпы объясняется прежде всего отсутствием в ней эгоизма, наличие которого возможно лишь при условии способностей к рассуждению и размышлению, свойственных индивиду, но полностью отсутствующих в толпе и массе. Альтруизм характерен для толпы в той же мере, в какой и ее неожиданные переходы от неистовости и жестокости, к слепой покорности и добродушию.
Толпа, состоящая из случайной смеси людей, руководствуется отчасти увлечениями, отчасти по-своему понятой справедливостью, любовью к скандалам; готовая к жестокости и милосердию, к истреблению и обожанию, она жаждет чего-то необычного. Настроение толпы зависит от случая, иногда для совершения политического преступления достаточно простого скопления большого количества людей. Ломброзо вторит Лебону и другим исследователям массовой психологии: «Слова ораторов действуют тогда на верующую, раздражительную, невежественную, героически настроенную толпу, подобно внушению свыше. Происходит нечто подобное нравственному опьянению, возбуждаемому, помимо занимательных речей, криками, толкотней, взаимной поддержкой. Все это заглушает индивидуальную совесть и заставляет толпу совершать такие деяния, о которых отдельное лицо никогда бы не подумало» (С. 171). Микробы зла легко распространяются в этой среде, микробы добра быстро гибнут, не находя условий для роста. Воображение отдельного индивида усиленно работает, каждый становится более доступным для внушения. Интенсивность эмоции растет пропорционально росту численности толпы. Малейший факт приобретает гигантские размеры в сознании толпы и может сподвигнуть ее к самым неожиданным действиям.
Толпа живет чувствами и верованиями. Мимолетность чувств очевидна, но еще большая опасность для современного массового общества заключена в отсутствии у массы неких общих верований, утерянных ею в ходе исторического процесса. Внешние обстоятельства постоянно меняют мнения массы, которая, будучи не в состоянии отказаться от старых верований, все время ищет новых. Так и социализм, по мнению Лебона, «может образовать собой одно из таких мимолетных вероучений, возникающих и исчезающих на протяжении одного и того же века, которые служат только для подготовки или для возобновления других верований, более подходящих и к природе человека, и к разным потребностям, которым должны подчиняться общества»[8]. (Здесь Лебон уже близок к идее «социалистического мифа», чуть позже развитого Ж. Сорелем).
4. Власть массы
«Эрой масс» назвал Гюстав Лебон наступающий XX век. Массы диктуют правительствам поведение, и эти последние стараются прислушиваться к их требованиям: «Не в совещаниях государей, а в душе толпы подготавливаются теперь судьбы наций, а божественное право масс заменяет собой божественное право королей»[9].
К XIX в. сформировалась особая форма власти, контролирующая сам процесс жизни, эта форма концентрировалась вокруг «тела – рода», вокруг тела, которое пронизано механикой живого, служит опорой для биологических процессов жизни и составляет целый набор способов контроля: «прежнее могущество смерти, в котором символизировалась власть суверена, теперь тщательно скрыто управлением телами и расчетливым заведованием жизнью»[10]. Биополитика власти по отношению к целому социальному организму постоянно исходит из представления о механической природе человеческого существа и его унифицированности, масса в этой перспективе представляется более органической и живой, чем ее отдельный член. Масса и толпа теперь первичны, индивид вторичен и производен. Власть, растворенная в массе, формирует его как члена массы: он должен быть такой же, как все, согласовывать свои действия с работой общего и единого социального механизма, его тело и душа превращаются в элементы огромной мегамашины (да и сам он теперь становится полновесным «человеком-машиной», о чем давно мечтал Ламетри). Теперь все характеристики, в том числе и политические, должны относиться не к индивиду, а к массе.
Внешне вполне демократические массы (а иной установки в психологии толпы быть и не может – здесь «все равны», все отвечают за одного, один – за всех и т. п.) своим поведением постоянно демонстрируют (новый парадокс!) склонность к деспотизму, характерному для любой массовой идеологии и массовой политической системы. Тайная связь между провозглашаемым равенством и деспотизмом установилась давно, еще Шатобриан подчеркнул эту тенденцию применительно к ситуации Французской революции: «Повседневный опыт заставляет признать, что французы бесспорно устремляются к власти, они нисколько не дорожат свободой, их идеал – равенство. Между тем равенство и деспотизм соединены тайными узами»[11]. Равенство выдвигается в качестве лозунга, посредством которого стремятся обеспечить стабильность общества масс, ведь массой становятся, именно предполагая равенство (Э. Канетти).
Либеральная и демократическая политика традиционно делает ставку на разум и рациональность, однако массы движимы, прежде всего, своими собственными страстями и заблуждениями («предрассудками», сказал бы Э. Берк, считавший только данный тип сознания способным справиться с неожиданно возникающими жизненными проблемами).
Полагаясь на интеллект, чтобы убеждать, и на расчет, чтобы преодолевать трудности, либералы не учитывают иррационального характера массовой, коллективной психологии: можно предъявлять претензии к интеллекту отдельных людей, но не масс, стихийная сила которых смущает аналитиков. Отсутствие у таких политиков воли к власти и инстинкта, с помощью которого только и можно понять массу, подготавливает новый парадокс, когда призыв к свободе порождает диктатуру, а демократия открывает путь тирану. В сфере политики только иррациональное имеет отношение к поведению массы, «разум – это приговор политике, а политика – могила разума». Там, где начинаются массы, кончается рациональное, и поскольку объектом политики могут быть только массы, то рациональность для политика – лишь помеха.
Иррациональное – характерный признак массы, это – новое явление для политических систем, построенных на рациональности, демократизме и либерализме. В «цивилизованном» обществе массы возрождают иррациональность: вытесненная из экономической сферы наукой и техникой, она сосредоточивается в сфере власти, становясь ее стержнем[12]. Если отношения людей к вещам могут быть построены и проанализированы на началах рациональности, то отношения между людьми всегда сопровождаются значительной долей иррационального, и на этом допущении строятся как психология масс, так и политика массового, т. е. современного, общества.
Кроме того, власть имеет здесь не только иррациональный, но и скрытый, латентный характер. С. Московичи называет «западным деспотизмом» тип властвования, основанный не столько на монополии производства, сколько на монополии на средства коммуникаций. Захват орудий влияния или внушения обеспечивает политическому режиму невидимую власть над доверчивыми, импульсивными и внушаемыми по своей природе массами. «Видимое господство подменяется духовным, незримым господством, от которого невозможно защититься»[13]. Сами же массы оказываются царящими, но не правящими, с неотвратимой неизбежностью в их среде развивается тяга к деспотизму, и ее результатом становится рождение тирана.
М. Фуко заметил, что в новейшее время сам тип властвования претерпевает существенные изменения: право захвата перестает быть «преимущественной формой, но оказывается лишь одним из элементов наряду с другими, обладающими функциями побуждения, усиления, контроля, надзора, умножения и организации сил, которые власть себе подчиняет – власть, предназначенная скорее для того, чтобы силы производить, заставлять их расти и их упорядочивать, нежели для того, чтобы ставить им заслон, заставлять их покориться или их разрушить»[14]. Все это и является фрагментами более широкого понятия «влияние», заменяющего брутальное представление о власти – насилии.
Массовые лидеры давно поняли, что в толпе намного эффективнее обращаться не к интеллекту, не к понятливости массового человека, а к чувствам любви, ненависти, мстительности, виновности, которые остро ощущает толпа. Вместо того, чтобы будить ее разум, следует будить ее память. Коллективной памятью массы является миф. Эрнст Кассирер писал: «Проблемы, не замеченные политическими мыслителями XVIII и XIX веков, неожиданно вышли на первый план. Самой важной и вызывающей беспокойство чертой эволюции современного политического мышления становится, быть может, появление новой власти: мифического мышления»[15]. Масса формируется под воздействием общих верований и страстей, она объединяется в некое состояние высшей убежденности в истинности своих заблуждений. Персонификацией страсти и идей массы становится некая персона, лидер, наиболее адекватно выражающий ее собственные представления. Обезличенная масса объединяется вокруг идеи, чаще всего принимающей форму некоей «догматической религии», максимально адаптированной для всеобщего восприятия. Характерно, что на всем протяжении истории в одних и тех же условиях власть проявляется и действует одними и теми же методами: в том, что касается власти, «прошлое господствует над настоящим, мертвая традиция опутывает живую современность»[16]. Поэтому и массовая политика построена на древних и скрытых от сознания архетипах, поэтому прогресс, столь свойственный и заметный в технике и экономике, полностью отсутствует в политике, т. е. в сфере властвования.
Верования толпы всегда имеют религиозную форму с соответствующими признаками: слепым подчинением, нетерпимостью, потребностью в религиозной пропаганде и т. п. Верования, идеи управляют массами при посредстве вождей, «идеи управляют массами, но масса с идеями неуправляема. Чтобы решить эту насущную задачу, произвести эту алхимию, необходима определенная категория людей. Они преобразуют взгляды, основанные на чьих-то рациональных соображениях, в действие всеобщей страсти. С их помощью идея становится материальной»[17].
Лидер осуществляет власть над толпой, используя не насилие, а ее верования. Вождь убежден в истинности идеи, с которой он неразрывен, зато он полностью утрачивает контакты с реальным миром и своими близкими. Любое его действие направлено на достижение любой ценой победы, не его личной, но победы его идеи, доктрины, религии, веры. Удаленность лидеров от мира и друзей, от взаимности подчеркивает атмосферу тайны, питающей иллюзии относительно их самих, которые рождаются в массе. «Завеса тайны, скрывающая их, всегда украшена какими-то представлениями, как театральный занавес масками и драматическими сценами… Тайна, которой они облекают свои действия и решения, выводит их за рамки обычного… Вера толпы вынашивает эту тайну, приукрашивает образ, который она хочет себе создать». Обе стороны своими действиями усугубляют ситуацию, в которой авторитет оказывается не более чем «разделенной иллюзией».
Важнейшим архетипом власти является модификация отцовской власти: лидер и вождь – всегда «отцы нации». Поэтому массы стихийно стремятся вовсе не к демократии, как предполагают либеральные интеллектуалы, а к деспотизму, сильной власти, подчинению. (В системе «демократического деспотизма» отцовские черты скрыты под личиной «брата», символа народного равенства. Братская ипостась лидера позволяет ему быть одновременно повелителем, деспотом, господином своих подданных и их же защитником от деспотизма могущественного государства, которое он же сам и олицетворяет).
Тиран не приходит сам, его жаждут и призывают массы. Они желают так же искренне заблуждаться на счет его истинных качеств и целей, как дети убеждены во всесилии и всезнании отца. Они готовы раскаиваться и даже требуют себе наказаний от него. И вместе с тем они пристально наблюдают за ним, ревниво и ворчливо оценивая его действия по отношению к «Родине-матери», нации, всегда готовые к взрыву иррационального и спонтанного гнева. Но сила и авторитет держат их в повиновении.
Поскольку толпа, масса существует «автоматически», будучи нечувствительной к противоречиям и нуждающейся в повторяемости направленных к ней обращений, она особенно чувствительна к простым ответам на свои вопросы, реагирует на то, что поражает ее память: именно те положения, «смысл которых менее всего определен, порой обладают наибольшей действенностью. Таковы, например, термины: “демократия”, “социализм”, “равенство”, “братство” и т. п., чей смысл остается таким туманным, что пухлых томов недостаточно, чтобы его прояснить. И все же действительно магическая сила связана с произнесением слогов, как если бы они содержали решение всех проблем. Они соединяют в себе неосознанные и многообразные чаяния и надежду на их осуществление»[18].
Слова и лозунги подстрекают массы к восстанию. Является ли этот акт выступлением детей против отцовской власти? Это – проблема фрейдизма. Сама революция – явление значительно более сложное, это осознавал и Ломброзо, не ограничивавшийся в ее описании только психобиологическими факторами.
Обыденное мышление связывает воедино движение массы и революцию; Лебон настаивает на другом – он утверждает, что массы по своей природе консервативны. Даже когда массы уже поднимаются на баррикады и размахивают красными знаменами, не следует особенно верить их революционным призывам: в действительности они лишь страстно желают вернуться к архаическим основам. И властители должны использовать эту тягу, чтобы вернуть массы к их прошлому (например, мифу нации), от которого они ненадолго освободились. «С помощью ностальгии сердца, прошлой славы, заботы масс о почитании памяти мертвых предотвращается или завершается революция»[19].
Массы вполне удовлетворяются демонстрируемым властями фокусом, когда старым учреждениям присваиваются новые названия, слово и знак для толпы имеют значительно большее значение, чем логичное и конструктивное преобразование социальных или политических структур. Так, вера в парламентаризм представляет собой «условную ложь», превратившуюся у большинства воспринимающих ее людей в простую привычку. Столь же условной является вера в равноправие и свободу – просто привилегии прежних сословий незаметно перешли на новое (Ч. Ломброзо называет его представителей «политиканствующими адвокатами»).
«Общественный прогресс», прежде всего его нравственная составляющая, осуществляется весьма медленными темпами, а человеческое общество по своим инстинктам консервативно. Любое подталкивание этого процесса будет вредным и антизаконным. По мнению Ломброзо, это уже не революция (совпадающая у него с эволюцией, осуществляющейся с наименьшим трением и наибольшим результатом), а патологический бунт.
Итак, круг замкнулся: революции привели к власти массы, а установившаяся власть массы кладет конец революционной эпохе. «Пожрав своих детей», революция восстановила новую тиранию и деспотизм. И в этом виноваты сами массы, неспособные предвидеть и рассуждать, ставшие частью природы, неким социальным организмом, больше похожим на машину. Ломброзо убежден в косности и инертности массы и толпы, непредсказуемости ее поведения в мире. Вместе с другими мыслителями, открывшими для себя эту проблему, он тревожно вглядывается во встающий перед ним пугающий феномен: не разрушит ли эта «преступная толпа» ту традиционную систему ценностей и вещей, которая сложилась в Европе и мире, куда она направит свое течение, кто станет ее врагом, какие новые бездны откроются перед ней в грядущем веке? Если врожденные пороки человека смогли вылиться в череду социальных и политических катаклизмов – революций, не будут ли они направлены и против самой среды человеческого обитания?
В предлагаемой читателю работе великого итальянского провидца все эти вопросы остаются без ответа. Тогда еще время ответов не наступило. Прошло сто лет после выхода книги, и нам теперь уже приходится самим отвечать на поставленные Чезаре Ломброзо вопросы.
И. А. Исаев, доктор юридических наук, профессор
Предисловие
Этот ряд преступлений важнее всех других, по крайней мере, для наших современных обществ; он отзывается не только на частных лицах, но и на общем благе и на интернациональном положении страны, и на отношении граждан друг к другу, и на общественной нравственности. Поэтому политические преступления должны быть изучаемы как случаи социальной патологии.
Литтре
Нет, пожалуй, ни одного юридического вопроса, который открывал бы такое широкое поле для составления самых противоречивых теорий, как вопрос о политических преступлениях. Достаточно вспомнить, что многие известные пеналисты, как, например, Lucas, Froebel, Halsher и Carrara доходят до сомнения в существовании последних, как будто бы они не были ярким общественным явлением, повторяющимся во все времена и при всякой форме правления.
Правда, что политические преступления никогда не были изучаемы как таковые: деспотизм, откуда бы он ни шел – от дворца или от улицы – всегда успевал отклонить от них научную критику, присваивая себе их монополию или превращая в оружие против своих противников.
Тому же немало содействовали и те доктринеры свободы, которые, гоняясь более за видимостью, чем за сутью, более за фразами, чем за делом, восставали всякий раз, когда кто-нибудь пробовал прилагать критерии преступлений против общего права к деяниям, несколько отклоняющимся от такого типа, по крайней мере, во всем, что касается намерения.
А между тем мы видим, что с древнейших времен и до наших дней самые свободные нации страшно строго преследуют преступления такого рода: в Афинах, например, всякого, кто только был подозреваем в желании свергнуть народное правление, считали достойным смерти; в Спарте отдавали на жертву адским богам того, кто в народных собраниях говорил или вотировал против республики.
Республиканский Рим рубил головы врагам отечества и народа римского (perduelis). В Средние века итальянские свободные коммуны, например, Венеция и Флоренция, налагали самые суровые наказания лиц, только подозреваемых в политических замыслах: а в наше время, даже в таких демократических государствах как Северо-Американские Штаты, за нарушение конституции и за политический заговор, проявившийся в деяниях, назначается смертная казнь[20].
Во всяком случае, следует признать, что если законы даже самых свободных народов не соответствуют в этом отношении историческому и научному прогрессу, то они не согласуются и с современным общественным мнением, по крайней мере, наиболее образованных классов. Последнее, в самом деле, более не оправдывает чересчур строгих мер против политических преступлений, как это проявляется в преувеличенной мягкости приговоров присяжных и в снисходительности избирателей, игнорирующих постановления суда.
Хотя первая идея научного исследования, предлагаемого теперь читателям, явилась у нас на Туринской выставке 1884 г. при обозрении портретов итальянских политических мучеников, а разрабатывалась она людьми, которых трудно подозревать в ретроградных стремлениях, мы не были удивлены кампанией, начатой против нас даже самыми доблестными из наших товарищей по оружию[21]. Мы так хорошо понимаем гуманные мотивы, которыми они руководствуются, что и сами разделили бы их чувства, если бы холодный рассудок и научная объективность не одержали победы над первым порывом, заставившим нас симпатизировать более предполагаемым преступникам, чем их судьям.
Если можно сравнивать малое с великим, то мы, пожалуй, и сами принадлежим к числу таких преступников, потому что искать причины преступности, значит, вносить такие изменения в старые правовые понятия, которые сами по себе могли бы, в иное время и в иных странах, считаться преступными; да и были бы таковыми в юридическом смысле слова, если бы мы захотели слишком самоуверенно и при помощи средств посторонних наук ввести их в практику.
Кроме того, мы теперь же соглашаемся, что слово преступник в приложении к совершителям политических проступков должно казаться неподходящим, в особенности, если их смешивать с преступниками врожденными. Эти последние входят, правда, в контингент лиц, совершающих политические преступления, но в очень ограниченном количестве и с такими особенностями, что их тотчас же можно отличить от массы весьма почтенных деятелей, к числу которых они примешиваются.
Но мы должны все-таки держаться технического названия, хотя и признаем, что политический преступник является таковым только с юридической точки зрения, а отнюдь не с нравственной или социальной.
Правда, что с каждым днем данный вопрос становится все менее и менее важным. Если мнение Спенсера насчет того, что «преступление против общего права должно исчезнуть со временем», есть результат иллюзии, то не в приложении к преступлению политическому. Это уже начинает проявляться в мягкости, если не буквы современных законов, то их духа, и уж, во всяком случае, в общем чувстве, в общем мнении, поддерживающем законы и реформы при согласии с ними или отрицающим их, при несогласии. Очевидное доказательство этому мы имеем в постоянном уменьшении числа поступков, считающихся политическими преступлениями в просвещенных странах Европы.
Дело в том, что, с одной стороны, теперь начинают понимать, что между революцией и бунтом (rebellion) существует такая же громадная разница, как между эволюцией и катаклизмом, натуральным ростом и болезненной опухолью; что между ними больше антагонизма, чем аналогии, что революции и восстания представляют почти полную противоположность друг другу. Последние, будучи бесплодными даже тогда, когда руководятся намерениями, не имеющими в себе ничего преступного, должны быть, следовательно, поставлены в разряд преступлений, которые хотя и совершаются вследствие честных побуждений, но не могут избежать преследований закона.
С другой стороны, целый ряд причин, делавших в прошлом политические преступления почти постоянными – таких, например, как угнетение национальностей и религиозная нетерпимость – постепенно уничтожается, или, по крайней мере, сокращается, а потому сокращается и реакция, которую они вызывали.
Нельзя, однако же, сказать, чтобы эти причины совершенно исчезли, отчасти потому, что рядом с нами – счастливыми в этом отношении – стонут народы, которым отказано в свободе мысли и праве политического самоопределения, а отчасти потому, что даже и у нас человеческая природа является неудовлетворимой – насыщение не всегда ее успокаивает, а иногда развивает новые, беспорядочные аппетиты, по крайней мере, у той группы людей, которую невроз или житейские разочарования сделали неспособными к спокойствию.
Правда, что многие из последних, делаясь виновными в настоящих преступлениях, бессознательно совершают доброе дело, потому что указывают нам на неудовлетворенные нужды или ускоряют события, которые иначе совершились бы гораздо позднее. Чаще, однако, они просто живут в болезненном бреду среди противоречивых проектов, подобно мыльным пузырям блещущим всеми цветами радуги, но лопающимся от малейшего прикосновения.
В самом деле, вслед за республиканцем и социалистом, имеющими историческое или экономическое право на существование, появляются коммунист и анархист, совершенно отвергающие государство, отрицающие даже обязанности гражданина и стремящиеся одним ударом разрушить все связи, делающие современного человека сравнительно счастливым.
Но ведь никто же не пойдет за ними так далеко.
Нам следует, стало быть, заняться изысканием, существует ли, помимо злоупотреблений деспотизма, политическое преступление, приносящее обществу вред и, следовательно, влекущее за собой ответственность перед законом. А если такое преступление существует, то в чем оно состоит по отношению к политическому организму и правам граждан, входящих в состав последнего.
Если бы мы при этом изыскании стали следовать по протоптанным тропинкам древних понятий о праве, то должны бы были начать с априористического определения, опирающегося на какие-нибудь древние цитаты, а затем, исходя от него, подобно пауку, ткущему свои нити, и с такой же прочностью продолжать ткать основы нашей работы. Но так как для нас преступник важнее преступления, то мы дадим определение последнего – составляющего для нас, во всяком случае, дело второстепенное, только после основанного на криминальной антропологии и истории изложения факторов этого нового вида преступности.
Что касается приложения наших теорий к жизни, то есть политических и социальных реформ, то мы не скроем, что многие поверхностные критики сочтут нашу попытку бесполезной потому только, что мы допускаем врожденность преступности. Но рассуждать таким образом значило бы, по прекрасному сравнению Signele[22], то же самое, что отвергать всякую возможность улучшения земледелия, поэтому только, что мы не можем застраховать себя от молнии и града. В природе существуют случайности и менее неустранимые, чем град и молния, а с ними, к счастью, человек может бороться. Точно так же и в общественной среде есть враги более многочисленные и менее закоренелые, чем прирожденные преступники, а потому в борьбе с этими врагами постоянная и просвещенная предусмотрительность может много чего сделать. Да и, кроме того, в среде народа покойного и довольного своими учреждениями, всякая политическая попытка прирожденных преступников останется безрезультатной.
Пробуя разрешить некоторые из великих исторических социальных задач, занимающих внимание ученых и мыслителей, мы старались быть объективными. Мы заставили молчать в себе всякие предвзятые чувства, одинаково не подчиняясь как симпатиям, так и антипатиям. Будем надеяться, что и читатель поступит так же, что перед решением вопросов такой громадной важности он сбросит с себя предрассудки, присущие его партии, его народности и даже его веку. Перед лицом исторической эволюции один век – лишь секунда.
Пусть спорят с нами, пусть даже разбивают, если хотят, наши заключения, но не факты, нами представленные и твердо установленные, как те, например, которые доказываются миллионами показаний выраженных нами в диаграммах. Априористическая критика бессильна против фактов; их мог бы оспаривать только тот, кто противопоставит нам тоже факты и, по крайней мере, не в меньшем количестве.
Ч. Ломброзо. – Р. Ляски
Часть первая
Антропология и социология политических преступлений и революций
Глава I
Инерция и прогресс. – Мизонеизм и филонеизм. – Революции и бунты
I. Инерция и прогресс
Охватывая одним взглядом сложные явления нравственного мира для того, чтобы вывести из них общий закон, преобладающий над всеми другими, мы увидим, что это будет закон инерции. Это одинаково верно как для мира органического, который с первого взгляда кажется таким отличным от первого, а на самом деле вполне совпадает с ним как по натуре, так и по происхождению.
По мере того, как мы удаляемся от грубой материи, в которой законы движения развиваются почти без перерывов, это совпадение кажется ускользающим от нас, потому что, дойдя до вершины лестницы существ, мы уже не видим более первых ее ступеней, не постигаем, как инфузория могла развиться до человека, и каким образом дикарь каменной эпохи, неандерталоид, превратился в Дарвина, Вирхова, Пастера.
1) Прогресс. Но если эти превращения поражают нас своей неожиданностью и как бы говорят в пользу прогресса бесконечного, неизбежного и совершающегося со страшной быстротою, то внимательное исследование доказывает, что этот прогресс никогда не проявляется повсеместно и сразу, или какими-нибудь скачками, обусловленными особым творческим актом. Он был напротив того результатом очень медленной эволюции, обусловленной отчасти – внешними случайностями, влияние которых упрочивалось естественным отбором и борьбой за существование, дозволяющими жить и размножаться только видам наиболее хорошо вооруженным против всяких опасностей, а отчасти именно законом инерции, потому что, раз начавшись, движение не только не могло остановиться, а шло, постоянно ускоряясь, так как действующая причина изменений одновременно вызывает в разных направлениях многообразный эффект и увеличивает гетерогенность[23].
Так, телеграфы и железные дороги обусловили не только быстроту сообщений, но и скученность населения в больших центрах, ослабление голодовок и появление целого ряда новых отраслей промышленности, а, стало быть, новых категорий работы и рабочих складов и оптовых магазинов, доступ к которым не преграждается уже больше расстояниями. А быстрота и дешевизна сообщений, в свою очередь, содействовали специализации промышленности.
Все это проявляется тем легче, что поле применения новых сил постоянно расширяется и становится более гетерогенным, почему и результаты такого применения оказываются более многочисленными и разнообразными. В Ломбардской долине телеграф шире распространен, чем на Корсике; дикие раньше нас узнали каучук, которым мы теперь так широко пользуемся, но не умели ни к чему приложить его.
Размножение результатов, в свою очередь, обусловливается непрочностью всего однородного, гомогенного, так как под влиянием постоянно действующей силы это последнее дифференцируется, превращается в гетерогенное, что и составляет первое условие всякого совершенствования[24].
Чем более животное совершенствуется и приспособляется, тем более оно становится гетерогенным. У современного европейца черепные и лицевые кости гораздо более дифференцированы, чем у папуаса. Точно так же дифференцирован их труд. В самом деле, между тем как дикарь должен быть одновременно воином, охотником, рыболовом и каменщиком, у нас каждое из этих ремесел подразделяется на множество отдельных специальностей.
Этот закон был выражен Дарвином под другой формой, в его теории наклонности каждого индивидуума к изменению той наклонности, от которой именно и зависит образование новых видов и родов. Изменяемость, однако же, нисколько не противоречит закону инерции и есть, напротив того, результат действия этого закона под влиянием внешних толчков, обусловленных необходимостью победить в борьбе за выживание, дозволяющей жить только наиболее приспособленным.
2) Инерция в органическом мире. Как бы то ни было, эта дифференциация, развитие столь разнообразных форм, происходит лишь очень медленно.
«Естественный отбор, – пишет Дарвин, – так же, как и прочность наиболее приспособленных организмов вовсе не обязывают к дальнейшему прогрессивному развитию; он только пользуется выгодными для индивидуума случайными изменениями. Тщетно было бы доискиваться, какую выгоду может принести инфузории, или глисту, или какому-нибудь червю, более сложная организация; а так как нет выгоды, то и формы этих животных не улучшаются или улучшаются очень мало. Этим и объясняется прочность и неизменность многих низших организмов».
Этим же объясняется, прибавим мы, и существование в море, на больших глубинах, таких животных, формы которых совершенно одинаковы с ископаемыми, жившими сотни веков тому назад. Внешняя обстановка не изменилась, никакой новой формы борьбы за существование не потребовалось, поэтому и организмы остались прежними.
Закон инерции так всемогущ, что, даже будучи побежден внешними условиями, он все-таки и в наиболее прогрессировавших существах всегда оставляет черточки первобытного строения в виде пережитков и зачаточных органов, если только это строение не возобновляется во всей своей целостности, как в некоторых атавистических формах.
В самом деле, если мы находим около человеческого уха маленькие мускулы, совершенно для нас беспомощные, но у лошади, содействующие выражению радости или испуга; если мы видим в кончиковой кости зачаток хвоста, в червеобразном отростке – остаток удлиненной кишки травоядных животных, а в musc. psoas – остаток мышцы, служащей для прыгания у грызунов, то мы имеем перед собою анатомические доказательства силы закона инерции, хотя и побежденного борьбой за существование и естественным отбором, но все же не перестающего проявляться там и сям. Точно так же уроды и микроцефалы часто воспроизводят все характерные признаки обезьян и грызунов, притом не только в анатомическом устройстве, но и в инстинктах[25]. То же можно сказать о преступниках, которые суть нравственные уроды, и в которых Sergi, вполне основательно, видит проявление атавизма (анатомически доказанное), восходящее к плотоядным и грызунам.
У большинства уродов закон инерции является побежденным лишь наполовину. Таковы, например, те из них, которые наследовали от предков только шерсть по всему телу, не исключая лица; или двойное влагалище; или зачаточный хвост, как у рыб; или дольчатые почки, как у китовых. И все это повторяется с такой точностью, что ее можно выразить в цифрах. Так, muscischio-pubicus встречается у 20 % больших людей, а мозжечковая ямка, нормально находящаяся у птиц и почти всех млекопитающих, у – 45 %[26].
Правда, что теперь Негели выступил[27] с учением, предполагающим бесконечный прогресс вида. По этому учению, мицелий идиоплазмы в силу внутренних причин, присущих живой организованной материи, постоянно стремится переходить от простых форм к сложным, а следовательно, органическая эволюция обусловливается тою же механической необходимостью, которая наблюдается и в основной структуре кристалла, точно так же зависящей от внутренних, молекулярных сил и очень слабо изменяющейся под влиянием сил внешних.
Но помимо того, что учение Негели не объясняет, каким образом идиоплазма, распространяясь вследствие сегментации зародыша по всем тканям, а стало быть, прогрессивно уменьшаясь в количестве, может потом находиться во всех клеточках молодого организма, сохранив все свои филогенетически приобретенные свойства; помимо того, что «общее стремление к тому совершенствованию» вследствие предустановленной наклонности к организованной материи, по справедливому замечанию Марселли[28], отзывается старой метафизикой, – помимо всего этого, новейшие наблюдения показывают, что среди животных часто встречается подлинный регресс, видимо выродившиеся, то есть оставшиеся от более высокой организации, формы. Это можно наблюдать, например, у пластинчатожаберных, у многих crustaces, может быть, также у amphious. Кроме того, существование некоторых животных с органами, подвергшимися регрессу (как, например, глаза у пещерных видов) тоже не согласуется с бесконечным стремлением к совершенствованию, которое Негели приписывает идиоплазме. Да надо еще прибавить, что и домашние животные регрессируют, возвращаясь к дикой жизни, и негры на Сан-Доминго превращаются в чистых дагомейских.
Да, наконец, и по теории Негели, как и по новейшей теории Вейсмана, прогресс в мире животных никогда не совершается вдруг, а всегда медленно и постоянно.
3) Инерция в мире нравственном. – Даже предполагая, что можно оспаривать проявления инерции в мире органическом, мы, конечно, не можем этого сделать по отношению к миру нравственному.
В самом деле, сколько бы ни говорили о величии прогресса, нами достигнутого, но если мы составим карту распространения его по земному шару, то сразу увидим, к каким ничтожным размерам он сведется. Можно сказать, что вся Африка, за исключением нескольких пунктов, занятых арийцами, Австралия и добрая половина Америки находятся почти в доисторическом состоянии или много-много в положении больших азиатских империй первых эпох истории.
В Южной Америке, на Гаити, цивилизация изменила только внешние формы примитивной жизни, заменив неподвижность неустойчивым равновесием, что, пожалуй, еще хуже.
Даже и у нас, в странах, наиболее цивилизованных, если выделить стариков, женщин, крестьян, духовенство, большую часть аристократии и деревенской буржуазии, совершенно враждебных прогрессу, то много ли останется сторонников последнего?
Какое варварство царствовало всего несколько лет тому назад в Греции, Испании, Кроатии (Хорватии), Сардинии, на Корсике? Да нельзя сказать, чтобы и теперь оно там перестало царствовать даже в среде лиц, наиболее просвещенных.
Не только частое повторение случаев, в которых люди наиболее цивилизованные под влиянием страсти становятся варварами (как, например, во время холеры в Италии, Палермского бунта, Деказвильских стачек и проч.), показывает, каким тонким слоем культурного лака мы покрыты, но и наблюдения над нравами наших народов в самое мирное время может доказать, что несмотря на скрещивания и культуру они недалеко ушли от первобытного состояния.
II. Мизонеизм
1) Наиболее ярким доказательством преобладания закона инерции в нравственном мире является боязнь всего нового, которую мы называем мизонеизмом или неофобией, и которая обусловливается трудностью заменить старое ощущение новым. Между тем боязнь эта так распространена в животном царстве, что может считаться физиологически характерной для него. Вслед за первым сообщением, которое мы сделали по этому поводу в «Revue scientifique», фактов набралось множество, и с некоторыми мы познакомим здесь наших читателей.
Одна обезьяна, которую мы одели по-европейски, возвратившись в свои горы, была принята очень неблагосклонно – все товарищи от нее разбежались.
Всем известно, что собаки часто лают без всякой надобности, например, на экипаж, проезжающий по тихим улицам деревни.
Известны случаи, в которых лошади начинали нести потому только, что наездник одет не в тот костюм, в котором они привыкли его видеть.
По словам Роменса и Дельбо, собаки боятся мыльных пузырей: «При четвертом лопнувшем пузыре, – пишет последний, – злоба моих собак вышла из границ».
Дети точно таким же образом относятся ко всему для них новому. Ребенок, в первый раз увидевший чужое лицо или невиданное животное, волнуется и ищет возможности убежать только потому, что боится нового впечатления. По той же самой причине он сердится, если вы переведете его в другую комнату и пугается всякой новой мебели. Среди детей попадаются такие, которые любят смотреть все одни и те же картины и слушать одни и те же сказки.
Вариньи рассказывает, что один двухлетний ребенок, очень его любивший, убежал со страхом, когда увидел его ногу, завернутую в вату по случаю припадка ревматизма. Даже после выздоровления Вариньи ребенок продолжал избегать его и бояться: только через несколько месяцев, и то в присутствии третьего лица, состоялось примирение.
Женщины мизонеичны так же, как и дети, особенно по отношению к религии и житейским обычаям, а в некоторых областях и по отношению к языку предков до такой степени, что не изменяют последнему даже и в тех случаях, когда все окружающие говорят иначе, как, например, в Америке, в Ориноко, у абипонцев, принявших язык соседних племен.
Отвращение к новому, замечаемое у детей и женщин, даже высоко-цивилизованных, еще резче проявляется у диких народов, психическая слабость которых затрудняет ассимиляцию непривычных впечатлений, особенно, если они сильно разнятся от впечатлений, ранее ассимилированных, и если между первыми и последними нет точек соприкосновения. Так, в первобытных языках, слон называется быком с бивнями; в китайском языке, лошадь есть большая собака; по-санскритски вместо того, чтобы сказать стойло для лошади, говорят: стойло для лошадиного быка, а вместо пары лошадей – пара лошадиных быков.
Если от старого впечатления к новому нет никакого перехода, то труд ассимиляции последнего становится так тяжел, что вызывает страдание, проявляющееся в виде страха.
С нормальным человеком происходит тогда то же самое, что мы наблюдали раз у одной помешанной, которую до такой степени поражал первый встретившийся ей на улице предмет или человек, что она потом целый день подставляла это первое впечатление вместо всех других. В таких случаях она особенно сердилась на свою дочь, которую очень любила и всегда узнавала, но тем не менее видела в форме лица или даже животного, прежде других ею в тот день встреченного. Эта же женщина, даже в компании с кем-нибудь не могла посещать местности, в которых никогда прежде не бывала, так как страх и смущение, овладевавшие ею в таких случаях, доводили ее чуть не до самоубийства.
Таким образом, первобытный, слабый или ослабленный болезнью разум питает особое отвращение ко всему новому, за исключением, конечно, таких незначительных изменений, каковы, например, новые моды для женщин, новые игрушки – для детей, новые татуировки – для дикарской игры. Эти маленькие новости даже радуют их, так как возбуждают нервные центры, нуждающиеся в некоторой перемене, нисколько не раздражая последние и не причиняя страдания.
Но когда нововведение является слишком радикальным, то не только дикари да дети, а и громадное большинство людей начинает бояться его, потому что мизонеизм лежит в натуре человека благодаря страданию, производимому слишком резкими переходами от одного впечатления к другому. Вообще инерция и стремление к повторению уже испытанных (лично или атавистически) движений свойственны среднему человеку так же, как и животным.
Такого среднего, дюжинного человека, враждебно относящегося к нововведениям, можно сравнить с гипнотизированным субъектом, который, находясь под влиянием внушения, не видит предметов, стоящих перед его глазами. Понятно, что он должен считать смешным, глупым или злонамеренным того, кто охотно принимает всякие нововведения.
Макс Нордау[29] совершенно справедливо говорит: «Всякое новое ощущение должно быть легким и не очень неожиданным, чтобы доставить удовольствие: оно должно мало отличаться от ощущений уже испытанных и быть как бы естественным их последствием. Ощущения, слишком резко отличающиеся от привычных, причиняют страдание и потому возбуждают страх. Этим и объясняется тот факт, что люди, гоняющиеся за маленькими новостями, из всех сил отбиваются от нововведений, нарушающих обычную жизнь». «Я расположен думать, – говорит он далее, – что дикие племена исчезают при введении цивилизации единственно потому, что громадная перемена в обстановке вызывает в их мозгу непосильную деятельность».
Вообще мизонеизм есть способность покровительственная. Эта его функция была прекрасно разъяснена Bcard’ом, который заметил, что дикари, не приходившие в соприкосновение с цивилизацией, необыкновенно хорошо переносят яды, ранения, сифилис, даже алкоголь, почему и смертность между ними меньше. Наоборот, граждане Соединенных Штатов, постоянно раздражаемые такими нововведениями, как телеграф, пресса и т. п., все поголовно становятся неврастениками, то есть вечно больными людами, на которых сильно действует даже чашка кофе или рюмка вина, и это тем более, чем цивилизация выше, так что здоровье обывателей Северных Штатов сильнее расшатано, чем здоровье обывателей Южных. Большинство, – заключает Макс Нордау, – всегда будет консервативным, потому что живет согласно наследственному инстинкту, а не по новым, индивидуально составленным планам, среди которых не может ориентироваться.
2) Мизонеизм в нравах. – Вот хоть бы, например, нравы. В современном греке, несмотря на все исторические перевороты, мы найдем грека древнего: аркадийцы до сих пор ведут жизнь пастушескую; спартиаты до сих пор отличаются жестокостью и воинственностью. Ренан нашел в Сирии те же нравы и обычаи, которые господствовали во времена Великой Империи. Средневековый византиец отличался той же любовью к элегантным спорам и софистическим тонкостям, как древнегреческие философы. Венгры ненавидят горы и любят равнины, подобно предкам своим, гуннам. Цыгане до сих пор сохранили нравы, язык, черные волосы, блестящие глаза и резкие черты лица древних синдов, вместе с их легковерием, апатичностью, любовью к бродяжничеству и отвращением к работе[30].
Путешественники, как, например, Бельтрам, говорят, что нравы современных кочующих арабов нисколько не изменились с библейских времен.
В Поти, древнем Фасисе, нравы остались те же что и во времена Геродота. Сваны до сих пор приносят человеческие жертвы, причем не щадят даже собственных дочерей. У осетин фамильные имена еще не установились. У лезгин муж до сих пор пользуется правом на жизнь своей жены[31].
И, таким образом, вплоть до французов XIX в., которые во многих случаях остались такими же, какими их описали Страбон (IV, 4) и Цезарь («De bello Gallico». 4, 5), то есть воинственными, любящими блеск, неизлечимо тщеславными, красноречивыми и увлекающимися красноречием, любителями всего нового, легкомысленными и неблагоразумными.
В наших современных нравах карнавал есть, в сущности, атавистический возврат к древним римским вакханалиям, праздновавшимся, как известно, с древнейших времен. Некоторые думают, что обычай этот перешел от пеласгов в 497 г. до Р.Х. В Риме вакханалии праздновались сначала 17–го, а потом 19–го декабря и должны были продолжаться один день. Август продлил их на три дня, а Калигула – на пять, на самом же деле они всегда праздновались целую неделю. Это был настоящий народный праздник для низших классов: крестьяне отмечали им конец полевых работ, преступники получали свободу, обвиненные оправдывались, рабы могли одеваться, как свободные люди, освобождались от работ и даже обедали за одним столом с господином.
В наших карнавальных торжествах много пережитков, указывающих на их происхождение. В Вероне, например, совершаются процессии, в которых участвуют люди, одетые вакхантами, а также отдельные кварталы со своими значками и в строго местническом порядке, как в Средние Века. То же происходит и в Сиене, а в Ивра, в память победы народа над феодалами в Средние Века, все надевают в это время фригийские колпаки.
3) Мизонеизм в религии. – Мизонеизм проявляется так же в религии, литературе и искусстве. По отношению к религии можно даже сказать, что она всецело основана на мизонеизме до такой степени, что в христианстве, например, сохранились от древних религий не только священные облачения египетских жрецов (митра, фибула), но и некоторые догмы, имеющие отношение к солнцу, и даже древний фетишизм.
В Австралии, в Индии и даже среди нас, несмотря на обилие пищи, на строгость законов и на сильно развитое чувство милосердия, долго еще сохранялся каннибализм, так же как ритуальные убийства и избиение пленников. Спенсер доказал, что печальным остатком их до сих пор служит еврейское обрезание, которое по ритуалу должно быть производимо каменным ножом, что одно уже указывает на доисторическое происхождение этого ритуала.
Фанатизм процветал даже в самый разгар революции; по смерти Марата Граше напечатал тысячи экземпляров надгробной речи, в которой беспрестанно повторялось: «Coeur de Jsus, coeur de Marat, protges nous» («Сердце Иисуса, сердце Марата, покровительствуйте нам»).
Да даже теперь, в центре Европы, разве не опасно еще и не преступно признать себя атеистом, утверждать, что Бог есть гипотеза? А между тем этой новости уже более трех тысяч лет… Не считают ли за грех и теперь еще многие работать по воскресеньям?
Но можно найти кое-что и похуже.
Anfosso[32] приводит яркие примеры того, что среди современного населения земного шара сохранилось еще поклонение камням – эта первобытная форма религии варваров.
Так, тунгусы поклоняются камням; значит, этот культ, когда-то общий первобытным народам, еще сохранился. В начале Средних Веков он господствовал и в Европе, притом до такой степени, что Теодорик, архиепископ Кентерберийский, принужден был запрещать поклонение камням; а на Турском соборе в 567 году предписано было священникам не допускать в церкви камнепоклонников.
Несмотря на это, даже теперь, в наше время, около Оропы (Oropa) находится камень, к которому приходят на поклонение бесплодные женщины, чтобы вымолить себе материнство. Во многих долинах Пьемонта и в Сицилии, по древнему обычаю, прохожие бросают на могилы маленькие камешки, которые и скопляются там большими кучами (Anfosso).
Рядом с культом камней сохранился и культ источников; в Бретани, знаменитый колодезь Св. Анны Орейской и священный фонтан в церкви Сен-Меле до сих пор служат целью паломничества[33].
Еще в 1791 г. много народа ходило к источнику Seints-Fillans в Пертшире, для того чтобы искать воды и выкупаться ради здоровья, как в купели Силоамской. Все паломники должны были три раза в день обойти вокруг источника, бросить белый камешек в соседний ручей и в, конце концов, оставить какую-нибудь принадлежность своего туалета в виде жертвы гению-покровителю места[34].
Полковник Фаберт Лесли говорит, что в Шотландии очень мало церквей, при которых не было бы святого колодца.
В Ирландии очень распространены легенды о Kelpy или духе вод, который может принимать различные формы, и является то в виде женщины или мужчины, то в виде лошади, а чаще всего в виде быка. Значит, ирландцы не только в прошлом веке твердо верили в существование этого духа, но не совершенно отказались от того верования и теперь (Леббок).
Таким образом, культ источников, столь обычный в Индии – стране священного Ганга, перешел и к нам. И теперь еще около Турина, в церкви Св. Панкратия, можно видеть бассейн, из которого верующие пьют воду в день местного праздника, и если они недостойны войти в церковь, то сейчас же отрыгают ее обратно. Вообще вера в чудотворную воду есть одно из самых постоянных и распространенных суеверий, как это доказывается, между прочим, святынями Лурда и Ла-Спеетты.
В долине Crsale обыватели имеют обыкновение подвешивать к ветвям деревьев маленькие мешочки с плодами или овощами, что, по всей вероятности, есть остаток древнего культа лесных божеств[35].
Христианские святые в свою очередь по чудесам отождествляются с языческими богами. Так, против бесплодия, принято молиться Св. Андрею; против эпилепсии – Св. Иоанну; против головной боли – Св. Дионисию; против болезни глаз – Св. Лючии и проч.
В России мужики поклоняются старым славянским богам под новыми именами. Водяной есть старый бог вод; Домовой – гений дома; Св. Власий – Велес – бог скота. Там же во многих местностях существует обычай звать священника для благословения коней и колдуна для того, чтобы заговаривать их. Вообще для большинства Бог является еще великим волшебником, недаром славянский Перун, бог грома, и до сих пор ставится на престолах в форме пророка Илии (?!)[36].
Во Франции, в департаменте Сены-и-Луары, и теперь еще встречаются следы друидизма, у так называемых Белых (Blancs), в их религиозных постановлениях, напоминающих чрезвычайно древний ритуал (Mortillet).
Mortillet утверждает даже, что в Бретани сохранился обычай ставить кельтские памятники, причем один такой был воздвигнут в честь революции 1848 г.
В самых отдаленных долинах Умбрии, по словам Bellucsir, как предохранительное средство против молнии употребляются кремневые стрелы; против болезней скота – каменные топорики, огромные кремневые скребницы; против выкидышей – этиты (otitis), против расстройства регул – минерал «кровавик». В общем, целая фармакопея, очевидно доставшаяся по наследству от каменного века.
В Бельгии, стране наиболее просвещенной, Hoch собрал народных предрассудков и суеверий на целый том в 600 страниц[37]. Тут фигурируют и веревка повешенного, и вода Св. Иоанна, и блудящие огоньки, счастливые и несчастные дни, пасхальные яйца, паломничество на могилы, колдуны, талисманы и проч.
Pitr рассказывает, что женщины в Палермо целый год сохраняют яйца, снесенные курами в Страстную Пятницу; Tiraboschi говорит, что то же самое делается и в Бергамо, где эти яйца считаются предохраняющими от падения деревьев (chute des arbres). Между тем отец Донато Кальви писал, что в его время (середина XVII в.) многие женщины сохраняли яйца, снесенные в Страстную Пятницу как предохранительное средство от пожара, когда их надо было бросать в огонь[38].
А что же сказать о суеверном почитании пятницы, столь распространенном и берущем свое начало в первые века христианства? Парижские омнибусы перевозят в среднем 47 000 человек ежедневно, а по пятницам на 27 000 человек меньше (Pitr).
Очень многие так же, как будто бы ради шутки, а на самом деле всерьез, носят на себе или вешают на шею своим детям в виде амулета маленькую серебряную или золотую свинью. Между тем этот обычай начался еще в Древнем Риме, где, как известно, свинья считалась священным животным. При самых торжественных свадьбах супруга, отправляясь в дом своего мужа, должна была обертывать притолоки дверей шерстяными лентами и смазывать их свиным салом в предупреждение несчастий.
Верность очень древним религиям тоже может служить доказательством мизонеизма. Мы видим, например, что доисторический браманизм устоял против нападения монголов, персов, мусульман и европейцев; а когда Будда явился его реформатором, то массы, в интересах которых он действовал, были против него, и до такой даже степени, что пропаганда буддийской религии – то есть, собственно говоря, очищенного браманизма, должна была перенестись из Индии в Китай, Тибет и на Цейлон. То же самое случилось и с гебраизмом: христианство родилось в Иудее, но народных масс не увлекло за собою, евреи рассеялись по всему свету и до сих пор хранят незыблемыми свои древние суеверия[39].
4) Мизонеизм в нравственности. – Мизонеический инстинкт, поддерживаемый религией, может оставить следы достаточно глубокие для того, чтобы образовать своеобразную мораль и вызывать мучение совести при неисполнении какого-нибудь самого отвратительного обычая. Пример этого мы видим в том австралийце, о котором упоминает Sander, и который, потеряв жену, умершую от какой-то болезни, заявил, что по местным обычаям он должен за это убить женщину из другого племени. А когда ему пригрозили тюрьмой, то он, мучимый совестью за неисполнение того, что считал своим долгом, совсем перестал говорить. В коце концов, ему удалось убежать и выполнить этот священный долг.
5) Мизонеизм в науке. – В области науки достаточно упомянуть о преследованиях, выпадающих на долю гениальных изобретателей и реформаторов, для того, чтобы доказать пагубное влияние мизонеизма, тем более нетерпимого и фанатичного, чем он невежественнее. Имена Колумба, Галилея, Соломона и Кауза (Caus) – первого изобретателя паровой машины, которого Ришелье засадил в Бисетр, говорят сами за себя.
Потому-то и нет теперь ни одного современного открытия (фотография, электричество, пар, светильный газ), которое не было бы сделано когда-либо прежде, да не один, а много раз, в разные эпохи, и всегда на горе изобретателя. «Пар, – пишет Фурнье, – во времена Гиерона Александрийского и Антемия Тралесского был детской игрушкой. Нужно, чтобы разум человеческий, побуждаемый нуждою, проделал тысячи опытов, прежде чем извлечет из данного факта возможную пользу».
В 1765 г. Spedding предложил муниципалитету Уайтхевена переносный газ, совсем уже готовый, но получил отказ; за ним последовали Chaussier, Minkelers, Lebon и Winsor, которые только присвоили себе его открытие и успели им воспользоваться.
Каменный уголь был открыт в XV в., корабль на колесах – в 1472 г., а винтовой – в 1790 г. Когда в 1707 г. Папен придумал двигать суда паром, то был сочтен шарлатаном. Рише пишет, что Французская Академия еще очень недавно признавала телефон утопией[40]. Дагерротипия существовала в России еще в XVI в., а у нас в 1566 г. была открыта Fabricio, для того, чтобы впоследствии вновь был открытой de la Roche’м[41].
Гальванизм сначала был открыт Cotugno, а потом Du Verney[42]. Телефонный аппарат впервые был описан еще в 1824 г. (Boursel. «Illustration» от 16 августа).
Даже теория отбора не принадлежит Дарвину; она, как и все прочие, пускает корни глубоко в прошлое.
Знаменитые физики Pouiller и Benoit предсказывали, что электрический телеграф никогда не заменит светового и причинит только убытки. Berryer требовал даже, чтобы опыты с ним были прекращены.
Ньютоновский закон тяготения был уже формулирован в XVI в. Коперником и Кеплером, а впоследствии дополнен Хуком.
Точно то же можно сказать о химии, даже о самой антропологии преступности, которая довольно долго и почти всеми государственными людьми Италии была рассматриваема как нечто безнравственное, как поблажка преступлению.
В 1760 г., когда испанское правительство задумало ассенизировать улицы Мадрида, то эта мысль была встречена общим негодованием. Даже врачи, будучи спрошены, заявили, что ассенизация может принести вред, размеров которого даже представить себе нельзя, а между тем она совсем не нужна, так как вредные испарения почвы по тяжести своей держатся внизу, а потому и не портят воздуха.
В 1787 г. не верили в законы кровообращения; в Саламанкском университете запрещено было изучать открытия Ньютона, так как они противоречат религии; в Мадриде не было библиотеки; корабли были так плохи, что не выдерживали выстрелов из своих собственных пушек (Бокль).
P. Verri жаловался на то, что Иосиф II и австрийское правительство занумеровали дома и осветили улицы в Милане.
Китайцы, – говорит Jamesel[43], – всегда смотрят назад, а не вперед; по их мнению, все хорошее идет к нам от предков, а все новое может быть только дурным. Если какое-нибудь новое изобретение окажется полезным, то это значит, что оно уже существовало в древности, но только было позабыто.
Мы смеемся над китайцами, а поступаем так же, как они. У нас церковь служит официальной стеной против всяких нововведений в обычаях и в понятиях нравственных, а академии защищают нас от гениальных людей и от нововведений в науке и литературе. Нет ни одного открытия, которое они приняли бы и поддерживали; все новое жесточайшим образом преследуется академиями и всегда с успехом благодаря тому, что их поддерживает общественное мнение плебеев и правительства, тоже, по большинству, плебейские.
Однако же не только академики, которые в большей части случаев суть ученые тупицы, но и гениальные ученые с азартом преследуют все новое, потому ли, что мозг их уже переполнен и не может вместить ничего лишнего, или потому, что собственные идеи делают их нечувствительными к чужим.
Так, Шопенгауэр, один из высочайших революционеров в философии, относился с величайшим презрением к революционерам политическим.
Фридрих II, инициатор германской политики, стремившейся развить национальную литературу и искусство, даже не подозревал значения Гердера, Клопштока, Лессинга и Гете[44]. По той же причине он так не любил менять костюмы, что во всю свою жизнь не имел их больше двух или трех зараз. Россини никогда не ездил по железным дорогам; Наполеон не признавал паровой машины; Бэкон смеялся над Жильбером и Коперником – он не верил в приложимость инструментов и даже математики к точным наукам[45]! Бодлер и Нодье ненавидели свободных мыслителей[46].
Вольтер отрицал ископаемые, а Дарвин, в свою очередь, отрицал каменный век и гипнотизм, так же как Робен и Катрфаж отрицали теорию Дарвина. Лаплас не признавал существования метеоритов; по его словам (покрытым единодушными аплодисментами академиков), с неба не может падать камней, так как оно не каменное. Био отрицал теорию волнообразного движения; Галилей, доказавший весомость воздуха, отрицал, однако же, влияние атмосферного давления на жидкости[47].
Вообще открытия, оскорбляя мизонеическое чувство, возбуждают против себя реакцию, прекращающуюся только тогда, когда путем повторения подготовят людей к принятию новшества.
Вот потому-то серьезные люди могут сохранить за собою общественное уважение, даже придерживаясь древнейших суеверий, – заявляя, например, подобно кардиналу Алимондо, что гипнотизм есть дело нечистого духа, или, подобно Брюнетьеру, что материалистами могут быть только негодяи[48]. Между тем человек, спокойно и с достоинством поддерживающий самые скромные материалистические теории (отрицающий существование души, Бога, божественного права или оспаривающий какие-нибудь места священных книг) возбуждает против себя почти единодушное общественное негодование.
Первые, даже при крайней неосновательности, никогда не повредят своей репутации. Они, напротив, выиграют, потому что не оскорбляют инстинктивного мизонеизма, а льстят ему. Последние же, если они и вполне правы, никогда не одержат победы над естественной, мизонеической оппозицией масс иначе, как пожертвовав своей репутацией и целой жизнью.
Что же это такое, если не доказательство преобладания закона инерции?
6) Мизонеизм в литературе. – Мизонеизмом же в большей части случаев обусловливается восхищение древними книгами и развалинами, как бы они ни были безобразны сами по себе. Наследственная привычка дает им, так сказать, свободный вход в наши души. Так, санскритский язык – для индуса, древнееврейский – для большинства евреев и до некоторой степени латинский – для многих европейцев, становятся языками священными, лингвистическим фетишем, даже и помимо употребления их при церковной службе.
Страшное влияние грамматиков в императорском Риме и впоследствии в Средние века объясняет нам современное поклонение грамматике, кажущееся нелепым в век господства естественных наук и математики.
Отсюда же идет не менее нелепая, но непоколебимая вера в классицизм, закоренелая даже у людей достойных уважения, которая заставляет нас тратить лучшие годы нашей жизни на изучение бесполезного языка под предлогом развития вкуса и мышления (как будто бы новые языки на это не годны), а на самом деле ради удовлетворения мизонеического инстинкта[49].
7) Мизонеизм в искусстве. Тут он тоже господствует. В самом деле, если вместе с Гельмгольцем и Жане[50] мы станем анализировать основы эстетики, то увидим, что они сводятся к ритму в тонах и симметрии в пластике. Отсутствие симметрии в прекрасном – в гротесках, например, – временно может возбудить любопытство и похвалы, но прочного успеха не добьется.
Мы не находим эстетичными капитель или балкон, если они сделаны из железа, потому что не привыкли к употреблению последнего в архитектуре. Так, древний грек в архитектурных линиях своих мраморных храмов предпочитал мотивы, напоминающие деревянную постройку его предков[51]. По той же причине, как это мы можем видеть в Сицилии, в Салинунте, греки воспроизводили в статуях семитический тип, а норманны, позднее – мавританский.
8) Мизонеизм в модах. Геккель видит господство закона инерции даже в беспрестанно меняющихся капризах моды. Он доказал, что современный сюртук (habit noire), с его пуговицами сзади, есть пережиток военного костюма, распространенного три, четыре века тому назад, а жилет есть древняя кираса.
9) Мизонеизм в политике. Множество общественных и политических учреждений, считающихся современными, суть не что иное, как обломок древности, и потому только пользуется уважением большинства, представляющим собою условную ложь, как называет Нордау.
Такую ложь представляет собою вера в парламентаризм, на каждом шагу оказывающийся бессильным, так же как и вера в непогрешимость людей, часто стоящих во всех отношениях ниже нас; такою же ложью является вера в суд, который, налагая тяжелую обузу на честных людей, наказывает не более 20 % настоящих преступников, да и то чаще всего психопатов, тогда как остальные гуляют на свободе, пользуясь почетом и уважением со стороны своих жертв.
Дело в том, что условная ложь поддерживается всеми без возражений, так как, передаваясь из поколения в поколение, превратилась в привычку, от которой мы не можем отделаться, даже понимая ее полную бессмысленность. Потому-то, несмотря на противодействие закона, продолжают существовать дуэли – остаток первобытного правосудия – да не только существуют, а служат даже для решения политических вопросов (как дуэль между Флоке и Буланже); поэтому же, несмотря на противодействие мыслителей, народы смотрят на войну как на какой-то праздник. В самом деле, самые непродуктивные расходы на войну всегда принимаются безропотно, а на народное просвещение и на сельское хозяйство, развитие которых сделало бы нас богаче, образованнее и, стало быть, сильнее, денег не хватает.
В политической жизни мы, латинцы, покланяемся Кавуру или Мадзини; во время революций каждая партия поклоняется какому-нибудь одному человеку. Достаточно того, чтобы какая-нибудь партия взяла верх, хотя бы не надолго, она всегда оставит за собой убежденных сторонников, верность которых будет передаваться из поколения в поколение. Примерами такой верности могут служить сторонники правительств, в свое время признанных проявлением гнева Божия, каковы карлисты – в Испании, легитимисты – во Франции, приверженцы Бурбонов – в Италии и проч.
То же можно сказать о кастах, господствовавших в течение известного времени; тем более, что они сами по себе вполне соответствуют нашему стремлению к неподвижности, потому-то их невозможно искоренить. Индус, прежде всего, боится изменить своей касте, а между тем измена эта так возможна: достаточно поесть мяса, хотя бы насильно, или съездить в Европу, или, по неведению, съесть обед, приготовленный сторонниками другой религии, или сойтись с женщиной из другой касты и проч.
По отношению к париям, с которыми ни один человек, принадлежащий к высшей касте, не должен приходить в соприкосновение, принимаются еще большие предосторожности. Еще очень недавно пария, встречая представителя касты, обязан был обходить последнего на далеком расстоянии, чтобы даже нечистые испарения его не коснулись привилегированного лица.