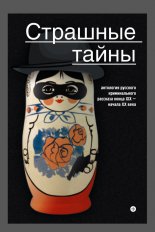Мы над собой не властны Томас Мэтью

Эйлин ждала резкого ответа, но мать молча раздавила окурок в пепельнице и тут же закурила другую сигарету.
Наконец после долгого молчания мама сказала:
— А ты не слишком взрослая для таких нежностей?
Помолчав еще немного, она встала, отодвинув Эйлин в сторону, налила себе вина в высокий стакан и снова села на место.
— Я не такая, как твой отец, — заговорила она. — Я рвалась уехать с фермы, дождаться не могла. Помню, когда собирала вещи, папа сказал маме: «Дейдре, не удерживай ее, пусть едет. Ну какая здесь жизнь для молоденькой девушки?» Мне было восемнадцать. Я думала, что меня ждет сказочная страна, а оказалось — место прислуги на Лонг-Айленде. Ездила на работу и с работы в час пик. Час пик... Ты и не знаешь, наверное, что это значит.
Время от времени мама пускалась в такие вот монологи, с пьяным и злым красноречием. Эйлин тихо сидела и слушала.
— Я воображала, что живу в тех домах, где приходилось убираться. Никто не хотел мыть окна, самая тяжелая работа, а мне нравилось. Можно смотреть сверху на газоны. Ровненькие, без единого камешка. И еще теннисные корты. Травинка к травинке, и хоть бы прутик один не на месте. Как это называется... усмиренный хаос. Мне нравились дюны, где гуляет вольный ветер, волны с барашками пены, парусные лодки у причала. А когда протирала стекла снаружи, я любовалась женщинами, которые лежат себе на диване, точно кошки, налакавшиеся сливок. Я их не винила за безделье. Была бы я на их месте, целый день валялась бы, подпершись, пока не придет время... — она томно повела пальчиком, напомнив этим жестом костлявую Смерть с косой, — снова укладываться на шелковые простыни.
— Приятно, наверное, — отозвалась Эйлин.
Мать ответила не сразу — прошло несколько секунд, пока слова проникли в ее сознание.
— Приятно — совсем не то слово! — сказала она резко. — Это было... волшебно, вот!
Незадолго до Рождества мама велела Эйлин приехать к «Лофту», ближе к концу ее смены. Мама стояла за прилавком, такая спокойная и собранная, — ни за что не догадаешься, что она постоянно выпивает. Эйлин обошла весь магазин, потрясенная роскошью разноцветной глазури, конфет и тортов ручной работы.
Когда смена закончилась, мама дала Эйлин коробку трюфелей и повела ее на Пятую авеню, а там — до пересечения с Тридцать девятой улицей. Они остановились перед витриной «Лорда и Тейлора» — Эйлин раньше видела ее только на снимках в газете. Декорации в витрине — уютные камины и миниатюрная мебель с шелковой обивкой — вызывали те же чувства, что идеальный газон и красивая жизнь за чужими окнами. Хотелось залезть в эту витрину и остаться там насовсем. Дул довольно сильный, но не слишком холодный ветер. Бодрящий запах зимы щекотал ноздри. В сумерках вся улица казалась чуточку волшебной. Эйлин вдруг подумала, что прохожие, глядя на них, видят самых обыкновенных маму с дочкой, которые вышли, как обычно, вдвоем за покупками. Она искала на лицах отражение мысли: «Какая милая семья!»
— Запомни: Рождество надо праздновать как следует, — сказала мама в поезде, когда они возвращались домой. — Всегда. Будь ты хоть при смерти — не имеет значения.
Перед сном мама подоткнула ей одеяло — впервые со времени больницы. Проснувшись посреди ночи и увидев рядом пустую кровать, Эйлин выглянула за дверь. Мама полусидела на диване — голова запрокинута, рот раскрыт. В руке зажат пустой стакан. Эйлин в первую минуту испугалась, что мать умерла. Подойдя поближе, увидела, что грудь поднимается и опускается в такт дыханию. Эйлин постояла, посмотрела на нее, затем осторожно, чтобы не разбудить, забрала пепельницу и стакан, положила в раковину. Взяла с маминой кровати одеяло и укрыла спящую. Сама спала с открытой дверью, чтобы видеть маму.
По почте пришла посылка на имя Эйлин. В посылке оказался учебник игры на кларнете, а под ним — сам кларнет мистера Кьоу. Текст на официальном бланке сообщал, что мистер Кьоу скончался от рака легких и завещал Эйлин свой инструмент. Несколько дней она брала кларнет на ночь с собой в кровать, потом мама заметила и запретила — сказала, что это вурдалачество какое-то. Эйлин пробовала даже на нем играть, но бросила — инструмент издавал только придушенные хрипы. Она очень хорошо помнила негромкую, берущую за душу мелодию, которая доносилась из-за стенки, когда играл мистер Кьоу. Стоило закрыть глаза и чуть-чуть сосредоточиться — музыка звучала вновь, словно только и ждала, когда ее разбудит умелый музыкант. А Эйлин и пару нот связно сыграть не могла. Она просто вынимала разобранный кларнет и разглядывала, а потом снова убирала в футляр с мягкой розовой подкладкой. Ей довольно было любоваться на кларнет мистера Кьоу — изящно выточенные деревянные части, поблескивающие медные выступы. Приятно было взвесить их в руке или нажимать на клапаны: они легко подавались, а потом упруго возвращались в прежнее положение. Она любила водить по губам мундштуком, иногда крепко прикусывая узкий кончик, которого касались губы мистера Кьоу.
Никто никогда не дарил ей таких чудесных вещей. Во всем доме не было подобной вещи.
Кларнету не место в этой квартире, думала Эйлин. Когда она вырастет — переедет в другой дом, такой красивый, что там и не заметишь кларнета. Мистер Кьоу этого бы хотел. Нужно выйти замуж за такого человека, который сможет ей это дать.
В тринадцать Эйлин начала подрабатывать в прачечной самообслуживания. Получив свою первую зарплату, она долго щупала купюры, зажав между большим и указательным пальцем, а потом разложила перед собой на столе и погрузилась в расчеты. Если откладывать каждый доллар, то к окончанию школы — может быть, даже раньше — она уже не будет зависеть от родителей. Сперва Эйлин обрадовалась, а потом ей стало грустно. Нельзя думать, что родители ей не нужны. Лучше она будет откладывать деньги для них.
Мама пила, как отец никогда в жизни не пил. Словно наверстывала упущенное. Эйлин заранее варила для нее кофе, всегда держала в запасе аспирин и укрывала маму одеялом, когда та засыпала, сидя на диване.
Однажды вечером, войдя в гостиную, Эйлин увидела, что мама клюет носом, борясь со сном, словно стараясь еще на несколько мгновений продлить осознанное удовольствие от выпивки. В такие минуты с ней было легко. Она реагировала на присутствие Эйлин чуть заметным движением век, и в то же время ей уже не хватало сил говорить резкости.
Эйлин присела рядом с ней на диван и почувствовала рукой мокрое. Сперва она подумала, что мама пролила виски из стакана.
Очень долго Эйлин не решалась ее переодеть — вдруг проснется. Но не оставлять же ее сидеть в луже до утра! Кое-как Эйлин стащила с нее мокрую одежду, закутала маму в халат и усадила на сухое место. Дотащить ее до кровати — задачка потруднее.
Эйлин присела на корточки возле дивана, ухватила мать за плечи и осторожно переместила ее голову к себе на колени, а потом на пол. Затем стащила на пол целиком и подхватила под мышки. Мама что-то пробормотала сквозь сон. До кровати Эйлин ее доволокла, а втащить наверх сил не хватило. Мама сонно ворочалась, устраиваясь на полу.
— Мам, дай я тебя подниму, — говорила Эйлин.
— Я тут посплю.
— На полу нельзя спать!
— А я буду, — промямлила мама.
Когда она сердилась или была пьяна, возвращался ирландский акцент.
— Холодно на полу. Дай я тебя уложу в постель.
— Отстань...
— Не отстану!
В конце концов Эйлин сдалась и прилегла на мамину кровать отдохнуть, а проснулась, когда хлопнула дверь — отец вернулся. Он сегодня работал в баре. Эйлин выглянула на кухню. Отец сидел за столом и пил воду из стакана.
— Уложишь маму? Она на полу заснула.
Отец молча встал. Эйлин вдруг сообразила, что он при ней ни разу не входил в эту комнату, если не считать той ссоры с мистером Кьоу.
В падающем из кухни свете мама была похожа на кучу грязного белья. Отец поднял ее так легко, словно запросто мог сделать это и одной рукой. Стройные ноги и руки бессильно повисли; мама крепко спала. Отец уложил ее в постель и долго стоял над ней. Эйлин слышала, как он прошептал: «Бриджи» — не столько ей, сколько себе самому. Потом укрыл маму одеялом до самого подбородка.
— Ты тоже ложись, — сказал отец, закрывая за собой дверь.
— Представьте себе весь наш район, Вудсайд, поросший лесом, — говорила сестра Мэри-Элис на уроке в восьмом классе. — Давным-давно, мальчики и девочки, здесь было огромное имение — больше сотни акров. Когда-то весь этот район до последнего дюйма принадлежал одной-единственной семье, чья история восходит к первым дням освоения Америки.
Тут сестре пришлось немного помолчать — под окнами школы зафырчал мусоровоз. Свернутая в трубку карта над классной доской слегка покачивалась. Эйлин представила себе, как карта разворачивается и стукает учительницу по голове.
— Внук одного из пуритан — основателей города Кембридж в штате Массачусетс купил большой участок земли и построил ферму неподалеку отсюда.
Сестра прошлась по классу, показывая ученикам книгу, раскрытую на странице с изображением фермы.
— Его наследники перестроили ферму, сделав из нее усадьбу. — Сестра буквально выплюнула это слово. — Из просторного холла усадьбы можно было попасть в парадную гостиную. Имелась и еще одна гостиная, с огромным камином. Большая кухня, медный дверной молоток, снаружи — фруктовый сад.
Сестра перечисляла достоинства дома таким тоном, словно зачитывала обвинения в суде.
— Сменилось несколько поколений, и дом был продан торговцу из Южной Каролины — он вел дела на Манхэттене, а в поместье приезжал на выходные. Во второй половине прошлого века, с развитием железных дорог, некий предприниматель увидел здесь возможность поживы. Он вырубил в поместье лес, осушил болота, наметил улицы, по которым вы ходите сегодня, и разбил всю землю на участки — их получилось около тысячи. Эти участки он распределил по жребию покупателям из среднего класса, продавая в рассрочку — по десять долларов в месяц. Постепенно на участках появились дома. В тысяча восемьсот девяносто пятом году здание усадьбы снесли и на этом месте построили церковь, а позднее — школу, где мы с вами сейчас находимся.
Эйлин рассматривала строгий белый циферблат настенных часов. Когда учительница подошла к ней с книгой, она лениво скользнула взглядом по иллюстрациям и уже не могла отвести глаз. Она даже попросила учительницу вернуться на секундочку, когда та двинулась дальше вдоль ряда.
— Строительство моста Квинсборо было завершено в тысяча девятьсот девятом году, а еще через год закончили туннель Лонг-Айлендской железной дороги под рекой Ист-Ривер и в тысяча девятьсот пятнадцатом приступили к прокладке линии метро под названием Флашинг — вы ее знаете как Седьмую линию надземки. На этот берег реки начали массово переселяться ирландские семьи — ваши дедушки и бабушки, а возможно, и ваши родители. Спасаясь из трущоб Манхэттена, они в конце концов оседали в Вудсайде. Ютились по десять, по двадцать человек в квартире — представьте себе это! Наконец в двадцать четвертом году Провидение сжалилось над ними. Городские власти начали строительство новых домов и квартир для разрешения жилищной проблемы.
Учительница, завершив круг, вновь оказалась у доски и с торжествующей улыбкой обратилась к присяжным с заключительным словом:
— Неисповедимы пути Господни! Кто мало имеет, тому прибавится. Теперь здесь живете вы все, а не одна богатая семья в роскошном доме посреди леса. Так намного лучше, вы согласны, мисс Тумулти?
Вопрос вырвал Эйлин из мира грез — она замечталась о давно исчезнувшем доме с иллюстрации.
— Да, — ответила она на вопрос учительницы.
А про себя подумала: жаль, что такой чудесный дом снесли. Большой красивый дом и поместье вокруг — совсем даже неплохо.
Сестра Мэри-Элис закончила урок словами:
— Подумайте еще вот о чем. Если бы поместье по-прежнему существовало, никого из нас бы здесь не было. Мы бы просто не родились на свет.
Эйлин попыталась представить себе реальность, в которой нет ее одноклассников. Она вспомнила крохотную квартирку, где жила их семья. Много ли потерял бы мир, если бы этой квартиры не было?
Потом вообразила, что сидит на диване в той усадьбе, смотрит в окно на зеленые деревья и листает большую книгу. Рождаются же люди в таких домах; так почему не она?
Пускай не здесь, но где-нибудь она все-таки родилась бы и уж как-нибудь добилась того, чтобы жить в таком доме, не чета другим.
Иногда она навещала живших неподалеку тетю Китти и кузена Пата, на четыре с половиной года младше самой Эйлин. Дядя Пэдди, старший брат отца, умер, когда Пату было два годика. Пат смотрел на отца Эйлин с обожанием, как на родного папу.
Эйлин с детства читала Пату вслух, и в школу он поступил, уже умея читать и писать, когда его ровесники только-только осваивали алфавит. Пат был умница, хотя по школьным отметкам и не скажешь, потому что он никогда не делал уроков. Зато читал запоем, все подряд — лишь бы не то, что задано.
Эйлин усаживала его за кухонный стол и заставляла браться за учебники. Говорила, что он должен учиться на отлично, и никак не меньше, что с ее помощью он сможет добиться всего, чего захочет. Вырастет, разбогатеет, купит большой красивый дом. У нее в этом доме будет свой флигель. Пат наскоро делал домашнее задание и утыкался в очередной приключенческий роман. Он мечтал, когда вырастет, водить грузовик с пивом Шефера.
Когда Эйлин перешла в старшую школу — за успехи в учебе она получила возможность учиться в колледже Святой Елены в Бронксе, — мамина способность приводить себя по утрам в рабочее состояние иссякла, словно испарилась в одночасье. Мама опоздала на работу — раз-другой, а потом и вовсе перестала туда ходить. Однажды она потеряла сознание в вестибюле — домой ее принесли полицейские. Оформлять ничего не стали, ради отца Эйлин. Когда полицейские ушли, Эйлин слова не сказала, не стала и пытаться переодеть маму в чистое — той потом было бы стыдно, а Эйлин все еще боялась материнского гнева, даже когда мать валялась обмякшим кулем. Эйлин всегда помнила, как ее, совсем маленькую, за плохое поведение мама била вешалкой для одежды.
Утром они сидели за столом, мама молча рассеянно курила, и тогда Эйлин сказала, что собирается позвонить «Анонимным алкоголикам». Она промолчала о том, что номер телефона выяснила у тети Китти. Лучше маме не знать, что дочка обсуждает ее беду с другими родственниками.
— Делай что хочешь, — ответила мать и с любопытством наблюдала, как Эйлин набирает номер.
Ответил женский голос. Эйлин сказала, что ее маме нужна помощь. Женщина объяснила, что они готовы помочь, но мама должна попросить об этом сама.
У Эйлин сжалось сердце.
— Она не попросит.
Тут Эйлин перехватила быстрый взгляд матери и поскорее смахнула слезы.
— К сожалению, без ее просьбы мы действовать не можем, — сказала женщина. — Не сдавайся! Попробуй обратиться еще...
— Что там? — спросила мама, туже затягивая пояс халата.
Эйлин, прикрыв трубку ладонью, передала слова женщины.
— Дай сюда! — приказала мать, затушив сигарету в пепельнице. Потом сказала в трубку: — Мне нужна помощь! Слышали, что девочка говорит? Мне нужна помощь, черт побери!
На следующий вечер двое мужчин пришли поговорить. Эйлин никогда еще так не радовалась, что отца нет дома. Они объяснили, что ее маму примут в больницу Никербокера. Пообещали приехать за ней завтра вечером.
Когда они ушли, мама достала из буфета бутылку виски, села на диван и принялась пить, наливая в стакан каждый раз на самое донышко — обстоятельно, как лекарство. Ей сказали взять с собой вещей на две недели. Эйлин собрала сумку и спрятала под кровать. Отцу она все объяснит, когда мама будет уже в больнице.
Весь день она места себе не находила — боялась, что до вечера что-нибудь случится, — но, когда вернулась домой, мама казалась вполне спокойной. В квартире было тихо, начищенный до блеска чайник стоял на газовой плите, пол был выметен, занавески на окнах задернуты. Эйлин поджарила яичницу с колбасой, и они вдвоем сели за стол. Мама ела медленно. Около шести пришли те же двое, оба в костюмах. Мама пошла с ними без споров. Пока она бродила по квартире, собирая последние вещи — кошелек, зубную щетку, книгу, — от ее неожиданно смягчившегося, горестного выражения лица у Эйлин защемило сердце.
Эйлин проводила маму до больницы, а потом те двое отвезли ее домой. Остановились возле подъезда, водитель остался за рулем, а второй вышел открыть ей дверцу. Эйлин медлила идти в дом — ей хотелось как-то выразить свою благодарность, но она не находила слов. Тот, второй, молча снял шляпу. Молчание было полно смысла. Эйлин порадовалась, что эти люди не из разговорчивых. Он дал ей бумажку с номером телефона.
— Будет что нужно — звоните. В любое время.
И они уехали.
Мама пробыла в больнице девять дней, а когда вернулась, начала ходить на занятия группы анонимных алкоголиков и поступила на работу — уборщицей средних школ в Бейсайде. Она жаловалась, что привязана к расписанию Лонг-Айлендской железной дороги. Эйлин догадывалась, что маме просто невесело каждый раз вспоминать, как мало она продвинулась в жизни за годы, прошедшие с тех давних поездок по той же линии.
Эйлин мечтала о путешествиях. Когда на географии им рассказывали про Долину Смерти — самое засушливое и жаркое место в Северной Америке, — Эйлин решила, что обязательно когда-нибудь туда съездит, хотя ее светлая алебастровая кожа моментально обгорала на солнце. Наверное, в такой огромной пустыне, думала она, не так замечаешь одиночество.
4
Осенью пятьдесят шестого, когда Эйлин уже второй год училась в старшей школе, из Ирландии толпой повалили родственники. Как она радовалась! Правда, квартира иногда становилась похожа на больницу — вновь прибывшие, шмыгающие носами родичи спали кто где, на полу вповалку и даже иногда захватывали кровать Эйлин, а все равно — отец словно оживал. Он очаровывал гостей, точно цирковой тюлень, жонглирующий мячиком на кончике носа, а мама с Эйлин выбивались из сил, поддерживая мир и порядок среди общей толчеи.
Через их тесную квартирку прошло больше десятка человек. Мамина младшая сестра Марджи, всего на несколько лет старше Эйлин, — мама ее раньше никогда не видела. Тетя Ронни и тетя Лили. Дядюшки Дэзи, Эдди и Дейви. Двоюродные братья и сестры: Нора, Брендан, Микки, Эймон, Деклан, Маргарет, Триш и Шейн. Приезжали по двое, по трое, иногда и по четверо, и жили у них, пока не найдут себе квартиру в Ровее, Вудлоне или Инвуде, — а тогда начинался следующий заезд. Никакими словами не рассказать, что чувствовала Эйлин, когда все собирались за общим столом. Проснувшись ночью, она слушала, как родичи тихо посапывают и ворочаются во сне. Никогда в жизни она не была такой счастливой.
Первым приехал дядя Дэзи, младший брат отца. У отца в комнате он и поселился. Эйлин улучила минутку, когда отца не было дома, и засыпала дядю Дэзи вопросами. Разговорить его оказалось нетрудно. Слова так и хлынули из него, будто кто-то отвернул кран.
— Твоему папе нравилось в Кинваре, — рассказывал дядя Дэзи. — Веселый парень был, ты себе просто не представляешь! Целыми днями улыбка до ушей. Потом, как приняли закон о земельной реформе, пришлось нам переехать в Лохрей. Земля там получше будет, но папа твой, мне кажется, так и не смирился, что нас заставили бросить прежние поля и дом, который он еще подростком строить помогал.
Вся квартира притихла, и у соседей, и даже уличные шумы заглохли, словно поддавшись обаянию дяди Дэзи.
Он потер небритый подбородок:
— Я сильно младше его был. Наверное, лет семи, потому и радовался переезду. Так и рвался помогать в строительстве нового дома. Строили из подручных материалов. Мы, мальчишки, вместе с отцом копали глину, таскали бревна из болота, собирали солому для кровли. Знаешь, какой дом получился основательный? До сих пор стоит. Все радовались, кроме твоего папы. Он сказал — раз один дом отняли, могут и второй отнять, если захотят. Так и не обвыкся на новом месте. Жил как под открытым небом. Одно правда: чтобы поработать, ему отдельного приглашения не требовалось. И вообще приглашения не требовалось. Он постоянно трудился. Какие ограды складывал из камня — посмотришь, не меньше мили в поперечнике! И ничего-то для себя не требовал, хватало бы только денег в карты играть. В наших краях, бывало, партия в покер на пять дней затягивалась. И еще — работа в поле, без этого ему и жизнь не в жизнь. Ты, может, не поверишь, если я скажу, что силища у него была такая — молотки гнул. А ему бы только сорняки выдергивать. В тридцать первом — папе твоему, наверное, двадцать четыре года было — у нашего брата Уилли, он патрульным полицейским в Дублине работал, образовалась катаракта. Ослеп на один глаз, и пришлось ему вернуться к нам на ферму. Участок маловат был, чтобы прокормить двух взрослых мужчин и еще нашего отца, а работы на всем богом забытом острове было не найти, даже такому человеку, как твой папа.
Дядя Дэзи изогнул бровь и театрально прищелкнул языком, словно бы намекая, что отсутствие работы для его старшего брата предвещает гибель всей Ирландии.
— Наш отец ничего не смог для него сделать, кроме как билет ему купить за океан. Вообще, это Уилли хотел эмигрировать, но ему о том и мечтать не приходилось. В Америке инвалидов не привечают. До отъезда папе твоему оставалось три месяца. Он все это время работал как одержимый — не ел, не спал, все только пахал, боронил и сеял. Мы уже тревожиться начали — не задумал ли невзначай себя уморить. Друзья устроили ему проводы, каких у нас и не припомнят. Гуляли три дня и три ночи! А папа твой на третий день прямо из-за стола да в поле ушел. Мы его уговариваем спать лечь — ни в какую. Всю ночь работал. Утром наш отец вышел к нему с билетом в руке. Я за ним увязался. Смотрим — твой папа сорняки выпалывает. Никогда не забуду, что отец ему сказал.
Дядя Дэзи встал, чтобы в лицах изобразить эту сцену.
— «Майкл Джон», — сказал отец, а сам билет ему протягивает. — Дэзи протянул руку, словно передавая Эйлин воображаемый билет. — «Ехать надо. И все тут». И ушел в дом. — Дэзи отвернулся, сделал пару шагов прочь, потом возвратился на прежнее место. — А мы с твоим папой стояли и молчали. Матушка его до корабля проводила.
Дядя сел и уставился в пустую чашку. Эйлин подлила ему еще чаю.
— Помню первое письмо от него, — продолжил дядя Дэзи, откусывая песочное печенье. — Он писал — тяжелее всего было уезжать, зная, что Уилли понятия не имеет, как собирать урожай. Затянет, мол, и все, что папа твой посадил, сгниет на корню. Так и вышло. Твой папа здесь, за океаном, представлял себе, как растения в поле покрываются плесенью, как пропадает понапрасну столько хорошей еды. Сказал, он никогда в жизни больше не посадит ни единого зернышка. Наш брат Пэдди — отец твоего кузена Пата, упокой Господи его душу, — уже года два как здесь жил. Он и порекомендовал твоего папу в фирму Шефера. Они только посмотрели на него и сразу поручили ему пивные бочонки ворочать.
Отец, Эйлин знала, гордился, что умеет писать, — многие его родные и друзья детства были неграмотными. Ей нравилось смотреть, как он, нацепив очки, подписывает свое имя на чеках и квитанциях, но она просто не могла себе представить, чтобы он написал целое письмо, да еще открыл в нем свои мысли и чувства. Единственная эмоция, которую он время от времени позволял себе выражать, — возмущение чьей-нибудь глупостью, ленью или продажностью.
Эйлин понимала, что отец когда-то был молодым, но не задумывалась об этом по-настоящему. А сейчас вдруг увидела его в образе молодого парня, который пересекает океан, чтобы начать новую жизнь на новом месте, и везет с собой тяжелый груз тоски и сожалений. Этот груз он в последующие годы будет питать своим молчанием. Оказывается, она и не знала его толком. Вот бы найти такого человека, как он, только не нарастившего такую прочную броню! Кто знаком с испытаниями судьбы и все-таки хоть отчасти сохранил простодушие. Кто способен подняться над горестями, которые подсовывает жизнь. Если и есть у ее отца слабость, то вот она. Быть сильным можно по-разному — это Эйлин понимала.
Ей нужен человек, подобный дереву с мощным стволом, но с тонкой корой. Которое чудесно расцветет, пусть даже никто, кроме нее, не сможет разглядеть его цветения.
Может, мельтешащие вокруг родственники дали отцу стимул остепениться, а может, то была сила управленческой зарплаты. Так или иначе, когда отца повысили от простого водителя до бригадира, случилось необыкновенное: отец перестал ходить в бары и пил теперь только дома. А раньше, наоборот, дома к спиртному не притрагивался. Пил он степенно, неспешно и выдержанно — ничего общего с хаотическим пьянством матери. Была в этом какая-то утонченность, равновесие какое-то.
Отец купил красивые стаканы и по вечерам насыпал в них кубики льда, наливал по чуть-чуть дорогого виски и садился выпивать с очередным родственником, словно это самое что ни на есть здоровое времяпрепровождение. Просто способ смыть с себя душевную муть, накопившуюся за день руководящей деятельности. Он купил новую мебель, посудомоечную машину, ковер в восточном стиле ручной работы. Купил телевизор; по вечерам они его смотрели всей семьей. Эйлин была бы совершенно счастлива, но чары развеивались, когда она, случайно обернувшись к матери в самый драматический момент фильма, вместо азартного интереса, как у всех остальных, ловила напряженный взгляд, устремленный на стакан в руке мужа. Точно собака дожидается, не упадет ли со стола огрызок.
Эйлин поехала с Билли Мэлаги в Саннисайд в кафе «Поднять якоря!». Билли был на год старше, окончил школу Макклэнси и попросил отца Эйлин устроить его на работу в фирму «Пиво Шефера». Подруги утверждали, что Эйлин ему давно нравится. Она к нему была равнодушна и согласилась поехать с ним исключительно для очистки совести — она, мол, дала ему шанс. Многие девчонки с радостью ухватились бы за Билли. У него были вьющиеся белокурые волосы, такие густые, что казалось, на них можно человека подвесить. Обаятельный, чуточку грубоватый, другие мужчины относились к нему по-дружески. Эйлин видела его привлекательность, но ей не годился человек, который не стремится к лучшей жизни и не против тридцать лет водить грузовик.
В «Поднять якоря!» было темно и душновато. Музыканты небольшого оркестрика вскоре убрали скрипки в футляры. Вместо оркестра заиграл музыкальный автомат. Разновозрастная толпа бурлила веселой энергией.
Эйлин никогда раньше не пробовала спиртного. Пробежав глазами меню, она решила: как в омут головой! — и заказала «Зомби». Билли одобрительно усмехнулся:
— Знаешь, я иногда вспоминаю свой первый рабочий день. Твой папа назвал меня задохликом. Он всех так называет, кто в Америке родился. От него это прямо вроде похвалы.
Эйлин невольно замечала, как Билли гремит кубиками льда в стакане, как, отхлебнув, утирает рот волосатой рукой.
— Он мне поручил маршрут на Статен-Айленд. В другую зону — значит, дополнительная плата. Кто я такой? Сопляк, первый день работаю, а он позаботился, чтобы у меня были денежки в кармане. Говорит: «Надо объехать двенадцать точек. Управишься за шесть часов. Можешь покататься все десять». А я не понял. Не хотел ему лодырем показаться. Говорю: «Сэр, если эта работа на шесть часов, так я ее сделаю за пять!» Он на меня посмотрел как на полудурка и говорит: «Если приедешь раньше чем через десять часов, можешь совсем не возвращаться».
Билли так разволновался, говоря об ее отце, что Эйлин уже и не знала, за кем из них он ухаживает. Она неожиданно быстро осушила стакан, потягивая сладкое питье через соломинку. Чуточку испугалась, чувствуя, как звенит в голове и язык плохо слушается. Может, она уже сделала первый шаг по дорожке, уводящей от ее мечты? Самое страшное — как легко это оказалось. Всего-то-навсего — переправить содержимое стакана к себе в желудок. Чтобы прогнать жутковатые мысли, Эйлин поскорее заказала еще одну порцию. Шум в голове сразу поутих. Эйлин старалась смотреть Билли в глаза, но почему-то видела только его бледные, как непропеченное тесто, щеки и торчащие уши. Представила себе его на пару футов ниже ростом, стриженного под горшок и в футболке в горизонтальную полоску и неожиданно засмеялась посреди его рассказа — видно же, что мальчишка еще, а все почему-то его считают взрослым человеком. Бармен, у которого с возрастом все было ясно — может, на пару лет младше отца Эйлин, — посмотрел на Билли с жалостью. Первый стакан коктейля Эйлин не понравился — слишком приторный, будто сироп, зато второй так пришелся по вкусу, что она после него заказала подряд еще три.
Билли приволок ее домой после полуночи. Как она потом узнала, Билли умолял ее отца о пощаде, объяснял, что в нее как бес вселился, что он несколько раз пытался ее увести, но она в ответ била его по щекам, а он боялся, что о нем что-нибудь не то подумают и выгонят из бара и тогда Эйлин останется одна с этими пьяными скотами.
Отец разбудил ее рано утром. Пару часов Эйлин провела в обнимку с унитазом, выпрямляясь, только когда ее одолевал очередной рвотный позыв. Когда в желудке уже ничего не осталось, отец велел ей принять душ. Потом повел ее в церковь Святого Себастьяна — слушать мессу.
— Ты не лучше других, — сказал он. — И никто для тебя исключений делать не будет.
Церковь была новая, недавно построенная. Ветерок от кондиционера холодил вспотевшую кожу. Эйлин бил озноб. Один раз ей пришлось выйти в туалет. Когда она засыпала, отец толкал ее локтем. Настало время причащаться. Эйлин чуть не подавилась облаткой. На какое-то ужасное мгновение показалось, что ее сейчас вывернет наизнанку прямо у алтаря. Стараясь не делать резких движений, вернулась на свое место и в школу в тот день не пошла.
В тот день была пятница. Вечером после ужина, когда посуда была вымыта и мама ушла к себе, отец усадил Эйлин на диван.
— Если уж ты, дуреха, взялась пить, так хоть пей с толком!
Он достал из буфета два стаканчика, поставил на кофейный столик. Потом вышел и вернулся с несколькими миниатюрными бутылочками виски разных сортов.
— Это что?
— Проведем урок.
— Я не могу!
— Сможешь.
— Я уже все усвоила.
— Сейчас будет другой урок. Начнем с хорошего.
Отец объяснил, что даст ей попробовать все виды алкоголя, — пусть Эйлин разберется, какие напитки пить можно, а каких нужно избегать. Затем он налил в стакан на два пальца виски. Одна мысль о спиртном вызывала отвращение, но больше всего Эйлин поразило, что отец так подробно все продумал. И бутылки закупил заранее, словно готовился к уроку, как настоящий учитель.
Эйлин сделала маленький глоточек; виски обжег горло. Отец велел глотнуть побольше. От напитка пахло жженой древесиной, а на вкус — как зола. Отец наливал из всех бутылок по очереди и каждый раз заставлял выпить все до капли. Эйлин чувствовала, что качество у всех разное, но очень смутно. Дойдя до четвертой бутылочки, отец налил себе тоже и велел Эйлин пить не спеша, вместе с ним. На этот раз виски пился легче и не оставлял мерзкого привкуса, только приятное тепло постепенно расходилось из желудка по всему телу.
Отец убрал виски и достал несколько бутылочек с водкой. Эйлин еле-еле их одолела; все показались ей отвратительными. Отец не пил. Нацепив на нос очки для чтения, он казался похожим на какого-нибудь профессора. Эйлин не могла понять, наказывают ее или действительно обучают. Затем отец принес джин разных сортов и наливал Эйлин в стакан понемножку. Сам он после виски больше ничего даже не пригубил. Эйлин вдруг подумала: может, таким нудным научным подходом он рассчитывает отвратить ее от выпивки?
Отец достал из холодильника бутылку пива «Шефер».
— Вот это выпей.
— Я не люблю пиво, оно невкусное.
— Пей, и дело с концом.
Отец скрутил крышку и протянул Эйлин бутылку. Она, сделав пару глотков, хотела отдать ему бутылку.
— До дна, — велел отец.
Когда Эйлин прикончила бутылку, отец сказал, что она не должна пить никакого другого пива, особенно при людях. Теперь он выставил на стол бутылки с разноцветными напитками, каких обычно в доме не дозволял. Куантро. Мятный ликер. Черносмородиновый ликер. «Гран Марнье». Эйлин понравился мятный ликер. Отец, покачав головой, налил ей полный стакан.
— Нравится — наслаждайся.
— Я не хочу столько!
— Если хочешь остаться в этом доме, выпьешь весь стакан. — Он налил во второй. — А потом еще и этот.
Когда Эйлин закончила, отец вернулся и наполнил еще один стакан.
— Это зачем? — спросила Эйлин.
В голове у нее стоял туман.
— Пей.
Утром она проснулась с раскалывающейся головой, тихо радуясь, что сегодня суббота.
— Больше никогда не пей незнакомых напитков, — сказал отец, зайдя в кухню, где Эйлин принимала аспирин. — И не бери в руки стакан, если оставила его без присмотра хоть на минуту.
— Хорошо.
— Словом, пей виски. Хороший и понемножку.
— Я, наверное, в жизни больше не буду пить.
Ей показалось, что по губам отца скользнула улыбка.
На Новый год он произнес тост в ее честь, под радостные крики собравшихся родственников:
— За мою Эйлин, которая снова окончила учебный год с отличием! Дай ей Бог! Когда-нибудь мы все будем на нее работать. И вот что я вам скажу, — прибавил он, помолчав. — Правильная она, видать, выросла, если способна держаться на ногах после полудюжины «Зомби». Сразу видать — моя дочка!
«Сразу видать — моя дочка». В этих словах Эйлин услышала всю за целую жизнь не высказанную нежность. Этими крохами она сможет жить еще долгие годы, словно кактус — несколькими каплями дождя. И все-таки ей было ужасно стыдно. Эйлин решила, что в будущем будет пить только то, что пьет самая скучная девочка в компании.
5
С минуты поступления будущих медсестер в училище Святой Екатерины и до самого выпуска преподаватели твердили одно: если будут плохо учиться, их исключат. Эйлин к такому привыкла за тринадцать лет в католических школах. К тому же она теперь понимала, что, сама того не ведая, с самых ранних лет обучалась навыкам, необходимым для этой профессии. Учителя и сами будто чувствовали, что, какие бы трудные задания они ей ни давали, жизнь уже ставила задачки посложнее, и обращались к ней уважительно, почти как к коллеге. Наверное, то же испытывал ее отец — неловкость, когда хвалят за то, в чем у тебя не было никакого выбора. Есть ли выход из ловушки чужого уважения?
Мученичество никогда ее не привлекало, не то что некоторых однокурсниц, мечтающих о нимбе. Шли бы лучше в монашки... С каким самодовольством они жаловались на усталость, на тяжелую и неблагодарную работу. Впрочем, в монастыре они бы и пяти минут не выдержали. Не было в них душевной стойкости.
Эйлин никогда не мечтала стать медсестрой. Просто этот путь выбирали все девчонки из их района, кто поумнее, чтобы не застрять в секретаршах. Она бы хотела стать юристом или врачом, но считала, что это — удел избранных. Откуда набрать денег на учебу? И потом, ума у нее, может, и хватило бы, но вряд ли хватило бы воображения.
После Святой Екатерины, получив стипендию, Эйлин осенью шестьдесят второго поступила в Университет Святого Иоанна, учиться на бакалавра. Она собиралась заниматься на летних курсах, потом окончить за три года вместо четырех и пойти работать, постепенно пробиваясь на руководящую должность. Деньги на текущие расходы — и будущее обучение на старшую медсестру — она зарабатывала моделью в отделе готового платья в универмаге «Бонвит Теллер». Эйлин демонстрировала покупательницам, как те могли бы выглядеть, будь они чуточку стройнее или выше ростом или будь у них аккуратная ямка между ключицами, пышная грива темных волос, гладкая кожа или яркие изумрудные глаза под тяжелыми веками. Зато на их стороне были иные преимущества: деньги и та высокомерная небрежность, которую дает богатство. Эйлин без всяких усилий стала самой популярной из моделей. Она не навязывалась потенциальным клиенткам, не подбоченивалась, стараясь привлечь внимание, а просто надевала очередное платье и стояла в нем. Не улыбалась и не хмурилась, не заглядывала в глаза и не стояла потупившись. Не надоедала посетительницам разговорами, но и не отмалчивалась. Держалась естественно. Если зачешется нос — могла его почесать. Если просили повернуться кругом, показывая платье с разных сторон, — поворачивалась, а потом уходила переодеваться. Другие девушки медлили, тянули время, словно, не сумев убедить покупательницу, убеждали в чем-то себя самих.
Она мечтала: вот войдет роскошный состоятельный мужчина, который хочет купить платье для своей девушки, увидит ее и круто переменит свою судьбу. Эйлин сможет забыть о профессии медсестры, объехать весь мир, обеспечить родителям безбедное существование. Ее жизнь будет как прекрасный сон. Больше никогда не придется выносить судно, стряхивать с себя шаловливые ручки престарелых пациентов, терпеть зловонное дыхание старушек, измеряя им температуру. Ни единого дня не работать и никогда ни о чем не думать. Снова прийти в этот магазин, сесть в кресло для посетительниц и гонять девушек-манекенщиц. Она сделает вид, будто собирается уйти, так ничего и не купив, а потом закажет по экземпляру всех фасонов, пусть эти девчонки поймут, что понятия не имеют о том, как живут женщины вроде нее. Увы, приходили только девушки чуть постарше Эйлин или матери с девочками-подростками. Все говорили, как она ослепительно выглядит, но Эйлин буквально слышала, что думают они только о себе.
Однажды, в августе шестьдесят третьего, молоденькая девушка, ровесница Эйлин, пришла выбирать платья для подружек на своей свадьбе. Выбирала явно наугад и заметно нервничала. Почему-то она казалась знакомой, и это тревожило. Наконец, продемонстрировав одно за другим несколько платьев, Эйлин ее узнала — это была Вирджиния Тауэрс, они вместе учились в школе Святого Себастьяна до седьмого класса, а потом та переехала в Манхассет. Хоть бы она не узнала Эйлин, хоть бы не узнала! Но Вирджиния, разглядывая швы на платье, вдруг взволнованно похлопала ее по плечу:
— Эйлин?
— Да?
— Эйлин Тумулти!
Вирджиния и не думала понижать голос, точно ей было все равно, кто их слышит. Эйлин молча повела бровью. Ее смутила такая фамильярность — на работе она всегда старалась держать дистанцию, даже с другими манекенщицами.
— Это я, Джинни! Джинни Тауэрс!
— Боже мой, Вирджиния, — отозвалась Эйлин вполголоса.
Добрая, искренняя Вирджиния! У нее одной во всем классе папа работал начальником в банке и к тому же был протестантом, а мама — католичкой, как и все местные жители. Вирджинию никто никогда не дразнил, несмотря на ее стеснительность и неуклюжесть. Родительское богатство словно окутывало ее защитным покровом.
— Что ты здесь делаешь? — спросила Вирджиния.
Любой ответ вызвал бы неловкость, поэтому Эйлин красноречиво подергала край платья и с улыбкой развела руками.
— Ах да, платья! — воскликнула Вирджиния.
Два она держала в руках, еще три висели перекинутые через дверцу шкафа — и все не слишком вдохновляющие.
— Ох, ну скажи, тебе какое-нибудь из них нравится?
Будь у Эйлин деньги, она бы купила совсем другие платья — более строгие, без такого количества рюшечек. Она не сомневалась, что у нее дома в шкафу висят платья намного лучше, чем у Вирджинии. Всего-то полдюжины, зато каждое — идеально. Эйлин никогда бы не купила пять платьев по двадцать долларов, когда можно взять одно по-настоящему великолепное за сотню. Поскольку она редко куда-нибудь выходила, то и не боялась, что ее будут слишком часто видеть в одном и том же.
— По-моему, то, которое я примеряла предпоследним, довольно милое, — сказала Эйлин.
— Лавандовое? Я так и знала! Мне тоже понравилось. Такие и закажу.
Эйлин, стоя перед ней в пышном наряде, чувствовала себя как человек-сэндвич с рекламой какого-нибудь ресторана.
— Эйлин Тумулти! — снова воскликнула Вирджиния, словно отвечая на вопрос викторины. — Ты здесь, наверное, только подрабатываешь?
— Я скоро должна получить диплом бакалавра, — ответила Эйлин. — Учусь на медсестру.
— Я так и думала, что ты станешь врачом или еще кем-нибудь таким! Ты всегда была самая умная в классе.
Эйлин вспыхнула.
— А я в этом году оканчиваю Университет Сары Лоуренс. И замуж выхожу! Ну, это ты и так поняла. Он из Пенсильвании, и такой старомодный, я просто не могу! Папа ему устроил собеседование в банке Леман-Бразерс. Мы будем жить в Бронксвилле. Последний месяц перед выпуском я буду пешком в школу ходить!
Эйлин слышала о Бронксвилле — это был городок в южной части округа Вестчестер, населенный весьма состоятельными людьми.
— Какая прелесть!
— Ни за что не угадаешь, что у меня запланировано на следующий год!
— Что?
— Поступаю в Колумбийский университет, на юридический!
— Ты всегда была умницей, — ответила Эйлин, стараясь не показать удивления.
— Куда мне до тебя!
— Спасибо.
— Ты была взрослей нас всех, — сказала Вирджиния. — Я часто вспоминаю, как в шестом классе ты меня повела к «Вулворту» и заставила купить тетрадки для всех предметов. Помнишь?
Эйлин помнила, хотя воспоминание удовольствия не доставляло. Сколько у нее тогда было лишней энергии! Бросалась всем вокруг помогать, словно мир можно изменить к лучшему, если очень постараться.
— Я помню, ты была не очень организованная, но похода к «Вулворту» что-то не припоминаю.
— Наверное, тебе просто надоело смотреть, как я вечно не могу ничего найти. Ты меня научила вести записи отдельно по разным предметам. Знаешь, как мне это помогло?
— Я очень рада, — ответила Эйлин, чувствуя, как все сжимается внутри.
— А поступай вместе со мной на юридический? Учились бы вместе. Я бы от этого здорово выиграла!
Эйлин представлялась самой себе зверем в цирковой клетке, и будто бы Вирджиния стоит снаружи, взявшись одной рукой за решетку, а в другой держа отбивную котлету. Надо было уходить, пока не наговорила лишнего.
— Разве что в следующей жизни, — сказала она, и сразу нахлынуло ощущение неловкости, которое она всеми силами старалась отогнать.
Вырез платья показался вдруг слишком откровенным. Появилась новая покупательница, а вторая манекенщица была занята. Эйлин, воспользовавшись этим, еще раз переспросила, уверена ли Вирджиния насчет лавандового платья, и отправила ее к сотруднице, оформлявшей заказы.
— Обязательно приходи в гости! — сказала на прощанье Вирджиния. — Через пару месяцев, когда мы обживемся на новом месте. Бронксвилл, не забудь! Наш адрес найдешь в телефонной книге. Мистер и миссис Лиланд Кэллоу. Мы будем очень рады! Нет ничего дороже старых друзей.
Мама советовала, если уж так захотелось машину, поберечь деньги и купить подержанную, но в автосалон с ней пошел отец.
Посреди зала стоял новенький «понтиак-темпест», модель 1964 года.
— На него уйдет почти все, что я скопила!
— Еще заработаешь.
— Это неразумное вложение денег.
— Вложение в жизнь, — сказал отец. — Если хочется — покупай. Уж получше грузовика с пивом будет, вот что я тебе скажу. Может, и мне такой купить? Или вон тот, с откидным верхом. Как там продавец назвал — «ГТО»? Буду маму катать. Как ты думаешь, ей понравится?
Он говорил с такой серьезностью, что Эйлин чуть не ответила: «Очень понравится, пап!»
Она сказала только:
— Вот это уж точно бесполезная трата денег!
И спросила, какой цвет ей больше подойдет — вишневый или темно-синий?
Можно было сэкономить и все-таки купить подержанный автомобиль, а можно было объявить во всеуслышание, какое будущее она для себя наметила, и, возможно, повлиять на это самое будущее.
— И что я должен тебе ответить? — сказал отец.