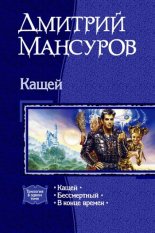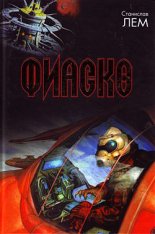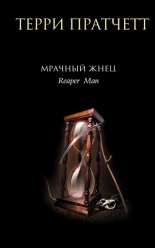Контакт первой степени тяжести Горюнов Андрей

– Это который в землю-то врос?
– Ну! Это и есть обменный пункт.
* * *
Мертвый паровоз был действительно переоборудован в обменный пункт: на тендере мелом был начертан курс покупки, курс продажи.
Не успел Белов залезть в кабину машиниста, как дверца топки распахнулась.
Белов сунул туда, в топку, свои сто долларов.
Топка захлопнулась.
Не прошло и тридцати секунд, как распахнулось поддувало и из него высыпалась куча рублей.
* * *
Засовывая пачку российских купюр в карман брюк, Белов вдруг почувствовал, что там, в кармане, опять лежит какая-то бумажка…
Он вытащил ее – сто долларов!
Снова засунул руку в карман. Опять сто.
В другой карман. И там сто.
Еще раз! Сто.
А в этом? Сто.
А ну– ка, снова? Сто!
Все были новенькие, сухие, с различными номерами. Да сразу было видно, без телескопа, даже без детектора, что доллары самые настоящие.
Белов подумал и зло цыкнул зубом.
«Таким вот даром наградить того, кто себя считает художником… – мелькнула у него в мозгу невеселая мысль. – Подсунуть бесконечное благосостояние художнику – такое только этот козел мог придумать. Вот сука же, иезуит поганый! Плесень! Поддел, нечего сказать, поддел! Из-за угла! По сучьи так, исподволь… Мерзавец».
– Постой же гад, дай срок – достану я тебя еще, Борис Тренихин! – сказал он вслух, слезая с паровоза назад, на грешную землю. – Ну, падаль, погоди!
* * *
Перед Иваном Петровичем Калачевым лежал лист бумаги, на котором были написаны только два пункта:
1. Наручники
2. Молния
Правее обоих пунктов стояла объединяющая их фигурная скобка и вынесен общий вердикт: «Не может быть, потому что не может быть никогда».
Калачев думал и курил, думал и курил…
Наконец он затушил сигарету, докуренную им, что называется, «до ногтей», и подписал пункт третий и четвертый:
3. Уничтожение банды Рыжего-Серого – как? Зачем?
4. Исчезновение из Буя.
– Ага! Из Буя! – вдруг осенило его. – Вот ведь что, из Буя же!
На бумаге тут же возник вывод:
5. Сцепщик —?!
Он встал, снял пиджак со спинки стула:
– Ну, сцепщик, погоди!
* * *
На выходе из здания, кивая машинально охране, Калачев получил в ответ:
– Доброе утро!
После бессонной ночи это абсолютно обычное приветствие прозвучало в ушах Калачева настолько нелепо, что он даже как-то опешил…
– О, это ты, Капустин?
– Так точно! А вы все над Беловым размышляете?
– Ну.
– Есть информация оттуда. – Капустин кинул взгляд на потолок. – Дело не то чтобы закрыто, а уже не актуально.
– Откуда вам-то все известно раньше нас?
– Земля слухом полнится… – сказал Капустин. – Да и опять же – интуиция.
– А вот скажи-ка, интуиция – земля не полнится ли слухом, что начатое дело надо доводить до конца в любом случае? Что бы там, в Кремлях разных, ни происходило, а начатое нужно добивать до упора. До ручки. Всегда.
– Нет. Такого слуха нет. А что касается интуиции, так я доложу вам, что дело Белова вы сегодня к вечеру раскрутите вчистую и полностью – это я вам обещаю, это совершенно точно!
Иван Петрович усмехнулся:
– А интуиция тебе не говорит, откуда озарение ко мне придет?
– Говорит! Вам озарение собака принесет.
– Собака? – удивился Калачев. – В деле нет собаки. Не фигурирует.
– Ну, значит, сфигурирует еще. Объявится. Еще не вечер.
– Хм-м! Будем надеется. Ты верно говоришь: еще не вечер!
* * *
Пророчество Капустина, надо сказать, запало Калачеву в душу.
За эти дни он устал до предела. Что называется, вымотался в сардельку.
Детали дела были непонятны и мистически темны.
Детали поражали.
Тут впору к колдунам обращаться.
Шагая по утреннему городу, Иван Петрович автоматически концентрировал свое внимание на собаках. А было их довольно много на пути – Москва в столь ранний час наполнена гуляющими псами.
Немало псов было и на Ярославском вокзале: кто-то возвращался с дачи, кто-то ехал, напротив, на дачу…
Именно из-за того, что взгляд Калачева рыскал по низам, переходя с одной лохматой морды на другую, он не заметил важного…
А именно того, что он буквально в трех шагах разминулся с Беловым.
Белов, вернувшийся в Москву на воркутинском, спешил к метро.
Калачев же шагал ему навстречу – к Соликамскому, на который он взял билет до Буя.
Проходя мимо Калачева, Белов отвернулся и даже закрылся рукой: сделав вид, что поправляет волосы…
Они разошлись.
Через пять минут Калачев уже спал, сидя и покачиваясь на нижнем боковом плацкартном, а Белов дремал в метро, на кольцевой, приближаясь к Парку культуры и – к дому.
* * *
Во сне Калачеву приснилась собака. Но не та собака, которая, по словам Капустина, обязана была принести разгадку этого странного дела, а собака совершенно другая, из далекого прошлого.
Этот «собачий» сон часто мучил Калачева и раньше. Основной Ужас этого сна состоял в том, что он один в один повторял историю, имевшую место в действительности лет двадцать с лишним назад, заставляя Ивана Петровича переживать давно пережитое снова и снова.
В том уже бесконечно далеком семьдесят втором году его в составе группы из трех человек послали в захолустный провинциальный Заколдобинск в засаду – ждать возможного появления там опасного рецидивиста, бежавшего из лагеря под Норильском и убившего при побеге четырех охранников вместе с замначальника лагеря по режиму. Предполагалось, что он может явиться в Заколдобинск к своей матери, чтобы залечь у нее на время.
Учитывая «серьезность» и большой опыт разыскиваемого, группа, в состав которой входил Калачев, была глубоко законспирирована и обладала легендой-прикрытием.
Согласно легенде, они представляли собой инженера, техника и слесаря, командированных в Заколдобинск ремонтировать турбину небольшой местной ГЭС. Эта прикрывающая их версия была настолько хорошо задействована, что кроме того, что они имели безукоризненные документы, включая командировочные предписания, они и в самом деле ходили на плотину и возились там по шесть-восемь часов в день с неисправной турбиной.
Недели через две они уже настолько вошли в роль, что стали совершенно неотличимы от настоящих ремонтников: думали как ремонтники разговаривали как ремонтники, пили как ремонтники: каждый божий день. Не удивительно, что к концу третьей недели своего пребывания в Заколдобинске они и пропились как ремонтники – до копейки, до нитки, до последней возможности.
Командировка истекала через две недели, а жрать было не на что; не было денег даже на обратный билет до Москвы.
Наступил полный абзац.
Оставалось только воровать, что, впрочем, было бы довольно странно для них, бескорыстных стражей закона.
После трех дней вынужденного голодания, перемежаемого совершенно неперспективными попытками просить милостыню в нищей провинции, одному из них пришла в голову спасительная мысль: отловить и сожрать собаку.
Собак в Заколдобинске была, действительно, прорва.
Однако потому, видно, и было их много, бродячих собак, что отловить и сожрать их было совсем не просто.
Пойдя по пути наименьшего сопротивления, они сумели в одном из дворов на окраине схватить довольно упитанного болонкопуделя неясной расцветки, но явственно имевшего владельца. Последнее было тем более очевидно, ибо за ними, уносившими в рюкзаке скулящего, барахтающегося пса, долго бежала девочка лет десяти и все повторяла, плача:
– Отдайте нашего Шарика!
Сжалившись, старший их «ремонтной» группы остановился и, повернувшись к девочке, сказал ей поучающим, наставительным тоном:
– Тебе, милая, Шарик этот – игрушка, а нам, если хочешь знать, жрать нечего!
…Калачев не помнил точно, что стало с девочкой после этого разъяснения. Запомнилось только, что девочка прекратила досаждать им своим преследованием. Шарика решено было сварить за городом на опушке, недалеко от плотины. Суп из собачины представлялся блюдом оптимальным, так как жарить пса было все равно не на чем. Для варки супа им удалось разжиться четырехведерным баком в общаге при ГЭС, в которой они обитали – баком, предназначенным в обыденной жизни для кипячения постельного белья.
Придя на опушку с этим баком, с барахтающимся в рюкзаке Шариком, с поистине волчьим аппетитом, они неожиданно обнаружили, что ни у кого из них не поднимется рука убить собаку.
Обмозговав ситуацию, они пришли к гуманному решению, а именно, налив полбака воды, засунули в него Шарика, закрыли бак крышкой и, навалив на крышку камней – чтобы Шарик не убежал из супа – развели вокруг бака костер…
Так как никто из них не хотел напрягать свою совесть, слушая дикие вопли умирающего животного, они отошли от разведенного костра метров на двести. Конечно, только многодневным беспробудным пьянством можно было объяснить помутнение мозгов, приведшее к такому способу приготовления супа.
Из своей засады им было отчетливо видно, как Шарик, не дожидаясь, когда костер как следует разгорится, вырвался из бака для белья, опрокинув все камни вместе с крышкой и, мокрый насквозь, опрометью бросился прочь, даже не обсушившись у разгоравшегося огня. Видно, ему в гораздо большей степени улыбалось остаться и впредь игрушкой у девочки, чем насытить собой оголодалую алкашню.
Помнится, Калачева тогда поразило, как много в баке оказалось собачьего дерьма, произведенного Шариком от смертного страха. Как могло такое поистине невообразимое количество уместиться в небольшой собаке, на всю жизнь осталось для Калачева загадкой загадок.
Так ли, иначе ли, но вместо сытного ужина на природе им пришлось, кое-как ополоснув бак в ближайшей луже, вернуть его в общагу для дальнейшего кипячения в нем постельного белья.
В тот же вечер Калачеву пришел денежный перевод из Москвы от отца, и они втроем нажрались с него так, что уже через два дня начальник ГЭС, действуя строго в соответствии с легендой-прикрытием, вытребовал из Москвы специалиста по вывозу ремонтников, который и вывез их всех в Москву.
Ясно, что вся эта история могла бы дорого стоить им, но беглого, слава богу, успели схватить к тому времени у его седьмой, самой любимой жены. Дело поэтому было спущено на тормозах: как говорится, дали по жопе ногой и простили.
Однако рубец на душе остался у Калачева на всю жизнь. И не только в душе: может быть, именно из-за «хвостов» этой «собачьей истории» в досье он до сих пор не получил свой отдел и полковника. Мучило, впрочем, не это, другое: он так и не смог простить себе своего молчаливого участия в казни ни в чем не повинного пса, казни хоть и не состоявшейся, но все же – ополоснул в луже бак от собачьего дерьма, умыл руки – всего лишь? О, нет – умыл руки! – Пилатов грех! Это было проклятие, как больной зуб – чем больше качаешь его, тем больше болит.
Саднящее воспоминание приобрело впоследствии даже философскую основу, когда Калачев вычитал где-то бессмертную сентенцию Ежи Леца о том, что не так уж страшны друзья, которые могут всего лишь предать, не так уж страшны и враги, которые могут всего лишь убить, а страшны равнодушные, с молчаливого согласия которых творятся на земле убийства и предательства. Как он мог молчать тогда, присутствуя при всех приготовлениях к варке супа? Как он мог молчаливо потворствовать?
Слава Богу, что Шарик смог вырваться, опрокинув крышку, придавленную камнями! Слава Богу!
Многократно вспоминая этот миг, Калачев клал мысленно все меньше и меньше камней на крышку. О да – бесконечно прав был Экклесиаст! Есть время собирать камни, а есть время разбрасывать их!
Из– за этой, собственно, истории у Калачева и не сложилась личная жизнь.
Претенденткам на должность хранительницы его семейного очага Калачев непременно рассказывал про это происшествие, грех бурной молодости (будто демон какой-то тянул его за язык), сожалея и каясь, чем, конечно, пугал бедных девушек и дам, отталкивая их от себя.
Перспектива выскочить замуж за мужика с замутившимся абажуром не казалась им замечательной: ни одна женщина не была в состоянии понять: как можно мучиться угрызениями совести относительно поступка, которого сам, во-первых, не совершал и который даже другими – во-вторых – не был совершен?
Подсознательно Калачев понимал, что в деле Белова-Тренихина он, Калачев, допустил много лажи, многое прохлопав – местами из-за Власова, сбивавшего с толку, да и просто раздражавшего, а местами из-за самого себя – работал-то полуспустя рукава – что греха-то таить?
Чувство вины, профессиональной ответственности, приняло сразу там где-то, в подкорке, образ привычного кошмара – собачьего сна…
Калачев стонал во сне, видя, как Шарика вновь и вновь извлекают из рюкзака и суют в бак, налитый до половины водой…
Прервать сон Калачев не был в силах, и, осознав во сне, что у этого Шарика фамилия Белов, инспектор угрозыска только заскрипел зубами, не пробуждаясь.
Слава Богу, что Шарик Сергеич Белов все же освободился и убежал невредимым к своей девочке, нагадив с полбака!
Слава тебе, Господи!
* * *
Подходя к своей двери на лестничной площадке, Белов не обратил внимания на металлическую коробочку, появившуюся в самом темном углу, под потолком, на самом верху…
Эта коробочка, размерами чуть более сигаретной пачки, была грязно-сиреневого цвета, сильно запылена, погнута по бокам и даже, по всей примыкающей к стене грани, затянута паутиной…
От нее не шло никаких проводов, она была как бы просто приклеена к стене. В середине коробочки располагалось небольшое застекленное отверстие, отливавшее желтовато-голубым тусклым светом – рыбий глаз сильного широкоугольника. Чуть выше него из коробочки торчала черная блестящая кнопка инфракрасной подсветки – совсем небольшая, в спичечную головку…
* * *
Власов вскочил, как подброшенный – внезапно затрещавший зуммер оглушил его.
– Белов вошел в свою квартиру! – сообщил дежурный по селекторной связи.
– Дай! Покажи сюда!
На мониторе в углу кабинета Власова возникла фигура Белова, выходящая из лифта, подходящая к двери квартиры, достающая ключ…
– Срочно две группы! Берем!
– Две группы? Владислав Львович! Дело-то, слыхали, говорят, уже не актуально?
– Порассуждай мне! Мигом!
– Да ведь накажут!
– Ну ладно, одну группу! И машину!
* * *
– О господи! Я так боялась, что ты уж не вернешься!
– Я тоже.
Краем глаза он увидел сквозь окно подъезжающую там, внизу, машину.
– Бежим быстрей отсюда! Вон они, уже подъехали за мной!
– Сашка твою машину, кстати, починил!
– Отлично!
Задержавшись на секунду в прихожей, Белов схватил с телефонного столика толстую пачку газет и журналов.
– Зачем тебе?
– На всякий случай. Поймешь через минуту. Едва они вошли в лифт и поехали, как из соседнего лифта выскочил Власов с двумя операми. Метнулись к двери.
– Откройте!
– Сдавайтесь, Белов! Выходите с поднятыми руками!
– Мы знаем – вы здесь!
* * *
Остановив лифт на третьем этаже, они вышли на площадку. Нагнувшись над перилами, он осторожно глянул в щель между маршами лестницы вниз, в подъезд. Да, так и есть. Выход из дома был заблокирован: в подъезде, контролируя оба лифта и лестницу, его уже ждали фигуры в камуфляже.
Он сунул Лене в руки половину пачки старых газет и журналов.
Махнул рукой: «Пошли!»
* * *
– Марина, ты положила «Комсомолку» в двадцать третью? – громко спросил Белов Лену, рассовывая старые газеты и журналы по почтовым ящикам соседей. – А то ты им все время забываешь положить. Приходят на почту, матерятся потом.
– Да, сунула я им! – ответила Лена. – Не забыла.
– А из сорок пятой, седой-то, просил тебя не класть ему рекламу? А ты кладешь вон!
– За собой следи. Надоел!
Они прошли, едва локтями не растолкав оперативников.
Выйдя из подъезда, они свернули за угол и, запихнув оставшиеся газеты в урну, рванули к гаражам.
* * *
…Наконец– то команда под предводительством Власова сломала железную дверь квартиры Белова и ворвалась внутрь…
Однако, как писал классик, «когда дым развеялся, Грушницкого на скале уже не было».
Заверещал зуммер вызова, и Власов тут же приложил к уху трубку радиотелефона.
– Сторож гаражного кооператива сообщил, что Белов только что уехал. Со своей… Вперед!
* * *
– Кто из жильцов за это время выходил?
– Никто! – честно ответили камуфляжные, дежурившие в подъезде. – Никто абсолютно из жильцов не выходил!
– Ну, как?!? Не понимаю! Как такое может быть?! – воскликнул Власов.
– Никак, – подтвердили оба опера. – Через подъезд мимо нас и мышь не проскользнула бы.
– Вперед! – скомандовал Власов.
Вылетев из подъезда, опергруппа, не теряя ни секунды, понеслась к черной «Волге», которая тут же выплыла им навстречу из-за помойного контейнера – укромного укрытия в глубине двора, загодя припасенного Власовым еще в подготовительный период организации засады именно для этой цели.
– Да это же – Белов! – заметил Власову один из оперативников на бегу. – Он же, Белов, говорят, сквозь стены ходить умеет.
– Наручники рвет…
– Семерых одной очередью положил на Ярославне!
– Рельс может узлом завязать!
– Пули зубами в полете ловит! – саркастически хмыкнул Власов.
– Да что там! – на полном серьезе кивнул первый оперативник. – Человек-легенда!
* * *
Черная «Волга» без каких-либо опознавательных знаков, завывая форсированным движком, вылетела на Садовое и понеслась по осевой.
– Быстрей, быстрей гони! Нарушай, нарушай! Едем!
– Куда? – удивился водитель. – За кем гонимся-то, скажите? Что рожи постные? Очумели все, без резьбы совершенно… Хоть бы кто объяснил. А то кручу, кручу…
– Крути! Знай свое дело… Сейчас.
Власов оглянулся на сидевшего на заднем сиденье оперативника с аппаратурой. Тот, будучи в наушниках, уже включил прибор, лежащий у него на коленях.
На экране прибора высветилась схема Москвы и красная точка на ней…
– На север!..Сухаревка, Склиф, Цветной – туда!
Машина сразу понеслась вдвое быстрее, словно охотничья собака, взявшая след.
– Мы радиомаяк ему впендюрили под бампер… – объяснил Власов водителю. – Уж не уйдет, гад!
* * *
Яркое осеннее солнце заливало весь город.
– Давно машину не вел… – сказал Белов с удовольствием.
– Господи, как хорошо!
– Да, все хорошо! Только одно не совсем: солнце в спину.
– Что ж здесь плохого?
– Сзади «Волга» села на хвост. Смотрю на нее назад, в зеркало – слепит.
Впереди уже выплывала серебряная ракета, которая вот уже которое десятилетие все не может взлететь, оторваться от достижений народного хозяйства, слева маячила в небе телевизионная шпилька – Останкино.
– Еще семь минут – и мы на Ярославке… – сказал Белов вслух, добавляя мысленно: «если доедем».
* * *
Белов остановился перед самым светофором: красный.
Он попытался снова разглядеть преследовавшую их «Волгу», но снова было плохо видно: та стояла третьей сзади, отделенная от них двумя машинами.
– Эй! – Белов услышал свист вдруг, слева, сбоку. Он посмотрел налево. Рядом с ним стояло такси.
Багажник настежь – шкаф везет, что ль, или холодильник…
– Хе-хе! Художник! – помахал ему таксист Трофимов.
Белов мгновенно опустил стекло, высовываясь.
– Привет!
– Привет…Опять ментов на хвосте катаешь? – Трофимов кивнул назад.
– Да. Мне тоже показалось.
– Не сомневайся. Точно!
– Охо-хох!
– Не плачь! Ща дадут зеленый – ты жми вперед. И побыстрей. Я тебя прикрою.
– Да все равно догонят!
– Это вряд ли.
– Хорошо, если уверен.
– Главное, рви когти. Уяснил тактику?
– Вполне. Попробуем.
Красный потух. Зеленый вспыхнул.
Белов с Трофимовым одновременно газанули и понеслись вперед, как в гонках «Формула-один».
* * *
– Вот сволочь… Сволочь… – водитель Власова заерзал нервно.
– Что такое? – спросил его Владислав Львович, но тут же понял. Между Беловым, мчавшимся за сотню километров в час, и ими вклинилось такси.
Такси шло, разухабисто виляя задом…
Багажник у такси был распахнут – как пасть у крокодила.
В багажнике стояло, прихваченное веревками, огромное трюмо. Ему под стать, огромный солнечный зайчик – метр на метр – бил прямо в рожу, ослеплял.
Казалось, что в глаза бьет ярчайший солнечный прожектор, хаотически, подло мигая.
– Я ничего не вижу! – закричал водитель.
– Куда?! Куда черт тебя вынес?!
Их занесло на встречную полосу.
– Убьешь – разжалую!..
В лоб им уже летел автобус Интуриста…
– Куда ты, гад! Выкручивай! Выкручивай! Слепой!
– Слепой, – согласился водитель. – Не вижу ни хера. Все правильно.
– Все!!! Убил нас, отъездился! Конец…
Все– таки шофер Власова что-то успел усечь в самый последний миг.