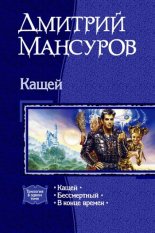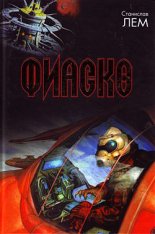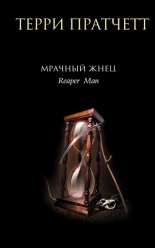Контакт первой степени тяжести Горюнов Андрей

– А следователю?
– Нет, конечно. Я следователю и половины не сказал. Я рассказал ему лишь до того момента, как Борька послал его к проводницам за водкой. А самое-то интересное как раз потом началось, дальше.
– Но ведь это-то и было самое главное! Зачем же ты не рассказал?
– Чтоб он подумал, что я больной на голову?
– Что он подумал бы – это не наше с тобой дело. Твое дело было – рассказать.
– Нет-нет! – Белов помолчал. – Выглядеть идиотом? Брось! Я давно уж отвык от таких ролей.
– Но ты ведь знаешь, где искать Бориса!
– Предполагаю, только. Точней, догадываюсь. Если бы я был уверен…
– То – что бы?
– Да ничего! Ты спи. Вообще в эту версию едва ли кто поверит. Я и сам сомневаюсь, честно говоря, хоть и являюсь ее автором. Подобное могло возникнуть в голове только у того, кто хорошо знает сумасбродность Борьки, неуемность, импульсивность. Для всех остальных, и для следователя в том числе, эта версия – полная чушь.
– Я бы, Коля, будь я на твоем месте…
– Ты, Лена, будь на своем. Мое это дело – и точка. Только мое и ничье больше.
– Коля…
Он потянулся к ней.
В дальнем углу сознания мелькнула скользкая мысль о том, что это, пожалуй, уже и не любовь. И не попытка растаять в родном, теплом, близком: расплыться в своей половине, уйти во второе «я». Это был даже не секс ради секса, как удовольствие и времяпрепровождение. Это больше всего напоминало выполнение некоторого молча подразумеваемого обязательства, или, проще – прием снотворного – последняя попытка уйти хоть ненадолго из жизни – отбарабанить свое и заснуть.
«Ее не следует тянуть в эту историю, – подумал Белов. – Этот внезапно возникший крест – он только мой. Хотя и я его, в сущности, не заказывал. Но он мой, не ее! Ведь если не хочешь потерять все, любовь не следует грузить выше допуска; до выпрямления рессор – не надо».
Любовь как перекаленная сталь: тверда, но и хрупка. Она может выдержать неимоверное давление, резкий жар, резкий холод и стать только тверже. Но может она и внезапно хрупнуть на самом, казалось бы, бытовом и вполне безобидном изгибе судьбы.
Так, например, как хрупнула любовь Тренихина той осенью на третьем курсе…
* * *
На третьем курсе осенью у Тренихина случилась большая любовь. Как и всякая большая любовь, она образовалась из ничего и совершенно внезапно.
С Анечкой Румянцевой Борька схлестнулся случайно и, что для Тренихина было особенно не характерно – в абсолютно пристойном месте: в Третьяковской галерее.
Судьба их буквально столкнула возле известной картины Нестерова «Лисичка».
Борис, не сводя глаз с переднего плана, отступил на пару шагов, чтобы «включить в глаза» всю композицию целиком и, отступая, сильно толкнул спиной стоящую сзади Анечку. Конечно, он тут же вежливо извинился. На ее вопрос, всегда ли он ходит спиной вперед, Борис ответил, что нет, не всегда. Только по выходным.
В зал Врубеля они пошли уже вместе.
Потом, выйдя из Третьяковки, оба с удивлением обнаружили, что домой им идти по дороге: Анечка жила в одной из цековских башен среди больших и малых Бронных, а Борька снимал в ту осень комнату в коммуналке на четвертой Тверской-Ямской. Довести до дому милую Анечку, а потом уже двинуть к себе за Маяковку сам Бог велел.
Проводив Анечку до подъезда, Борис был зазван на чай: день был промозглый, и оба ужасно замерзли, одевшись с утра не по погоде.
– Согреться?…Чаем?!?
– А почему бы нет?
– Ну что ж, я в этом без комплексов. Можно и чаем.
– Ну, пошли тогда!
Оба Аничкиных предка были дома по причине воскресного дня, о чем, конечно, милая Анечка не могла не знать.
Так, совершенно естественным образом, Борис в один день познакомился с самой «что ни на есть на свете, ты и не видел таких, я клянусь тебе, точно, старик», втюрился выше ушей и сразу же был представлен, «не отходя от кассы», предкам. Причем все залпом: в течение четырех-пяти часов.
Борька произвел на родителей самое неизгладимое впечатление, нарисовав, между делом, за чаем их Пусика – огромного голубого перса, а затем заодно также Чама – тупого и расхлябанного сенбернара.
С точки зрения отца Анечки, одного из серых кардиналов ГТУ ГКЭСа*, Борис подходил идеально: безупречно русский скромный парень, в выходной ходит в Третьяковку один, без пьяных друзей, ходит изучать также безупречно русского православного художника Нестерова, вырос в детдоме, родственников нет – а это просто замечательно! Далее, парень при галстуке, вежлив-корректен до судорог, на пол не харкает, в солонку руками не лезет, не указывает пальцем в лицо и на вещи, не чешет под столом ногу об ногу, носом не шмыгает, губ рукавом не утирает. Мало того, парнишка при деле: учится в художественном, в который – раз одинок, как перст в унитазе – поступил сам, благодаря напору и усердию. (Про талант Анечкин папа слыхал как-то в детстве, но не особо прислушивался.) Конечно, усердие и напор – что же еще? Именно такой парень будет сидеть в перспективе на мягкой мебели, смотреть с ним футбол, пропускать «по одной и хорош», водить Аню в консерваторию после обязательной прогулки с Чамом и мытья Пусика итальянским кошачьим шампунем. За это он и будет иметь абсолютно все. Все то, за что самому тестю пришлось в свое время «ох и покувыркаться». А у них-то все будет даром, считай.
* ГТУ ГКЭС – Главное техническое управление Госкомитета по внешним экономическим связям.
Мать же Анечки тоже сомлела от Борьки Тренихина враз. Она, конечно, не поверила в историю о внезапном знакомстве три часа назад в Третьяковке: любая случайность – это хорошо подготовленная операция, всем же известно! И именно поэтому она с порога чрезвычайно высоко оценила Бориса: ведь именно под его руководством было разыграно это появление его самого в их семье – как милая и совершенно внезапная импровизация. Ах, так и поверила я! Однако отсюда вытекало огромное положительное влияние Бориса на Анечку – взбалмошную и даже истеричную по жизни: как она держалась, как она натурально врала о случайной встрече перед картиной Нестерова «Лисичка»! Вот наконец появились те самые руки, которые хватко зажали в ежовые эту сумасбродную неуправляемую девчонку! Нашла коса на камень – да как удачно-то нашла! Впрочем, он даже красив, не уродлив ничуть, хоть и не смерть уж как интеллигентен, да, это верно. Пускай! Раз Анна перед ним – по струнке, то это то как раз, что и требовалось. К нему-то самому подобрать ключи – пустяк – запляшет и не дернется.
Словом, история со знакомством, получив мощный родительский попутный импульс, подкрутку, начала развиваться в бешеном темпе. Через неделю Борька уже дня не мог прожить, не увидев Анечки. Теперь уже если кому нужно было срочно и гарантированно отловить Тренихина., то следовало двигаться в сторону больших и малых Бронных и там сканировать многочисленные скверики и переулки.
Так как любовь отнимала бездну времени, Борис стал брать с собой на прогулки этюдник или папку для набросков карандашом – иначе было не выкрутиться – даже такой, как он, начал уже из-за этой любви пускать пузыри – и по композиции, и по графике, и по анимационной технике.
Собственно, именно наличие на прогулке карандаша и бумаги вкупе с талантом и погубило их любовь.
Это случилось в ясный солнечный октябрьский день в одном из сквериков. Борис присел на лавочку и начал рисовать ворону, отнимавшую хлеб насущный у воробьев. Анечка же, прогуливавшая заодно и Чама, отошла от Бориса подальше, чтобы безумный Чам не разогнал натуру.
Почти закончив рисунок, Борис обратил вдруг внимание на ребенка лет пяти, девочку, сидевшую поодаль от него, на другом конце той же лавочки.
Его поразило взрослое, совершенно отрешенное от жизни выражение лица ребенка. «Все в прошлом» – вот как должен был называться портрет этой пятилетней девочки.
Боясь спугнуть это выражение, Борька быстро лихорадочно начал новый набросок…
Рисунок пошел сразу – из чистоты листа, как по мановению волшебной палочки, стало возникать на глазах насмерть придавленное взрослой жизнью детское лицо.
– Как вылитая! – раздался тихий вздох за спиной.
Это была мама девочки.
Разговорились.
Нина – так звали маму – безо всяких наводящих вопросов объяснила причину столь странного выражения лица дочери: та, оказывается, перенесла месяц назад тяжелейшую операцию на щитовидке «и все никак не отойдет».
По одежде Нины и ее дочери было видно, что принадлежат они к социальным низам, не к самому дну, конечно, но именно к той живущей в коммуналках лишней публике, которая представляет собой балласт, и хоть этот балласт и придает остойчивость государственному кораблю во время бурь-штормов, но он же, одновременно с тем, и тянет государственный корабль на дно в любом реестре международной статистики уровня жизни. Исчезни эта публика – не было бы нищих.
Нина была одета заметно получше, чем девочка, из чего Борис чисто интуитивно сделал абсолютно правильный вывод о том, что Нина не замужем, а девочка, конечно, без отца.
Борька решил расшевелить хоть чуточку ребенка: было интересно посмотреть, как же она смеется, эта девочка.
– Привет! Тебя как зовут?
– Юля…
– А вот это кто, Юля? – Борис показал ей ее же портрет.
– Это я.
– Да. Видишь, грустная ты какая. Мне надо еще веселой тебя нарисовать. А чтобы нарисовать тебя веселой, тебя надо немного рассмешить. Хочешь, я нарисую тебе вертосла?
– А кто это – вертосел?
– А это сын осла и вертолета. Вот такой вот.
– Боже мой! – сказала Нина пять минут спустя. – Вы не поверите, но я сама первый раз вижу, чтобы она так хохотала! Вы действуете на нее лучше, чем все врачи, включая невропатологов!
Борька в те годы уже знал за собой это свойство.
Действительно, и это общеизвестно – рисунки сумасшедших, например, рождают в душах нормальных людей некий сумбур, спонтанную тревогу, будя какую-то мракуху в подсознании. Произведения же обратного свойства – спокойные, умиротворяющие, добрые, умные могут лечить, успокаивая: в том, разумеется, случае, если кистью водила душа, мастерство и талант.
– Вы не зашли бы к нам? – просительно предложила Нина.
Нине было на вид тридцать пять. Лицом она напоминала древнерусскую фреску: светящийся нарочно подчеркнутой святостью лик на фоне дранки, торчащей местами из-под осыпающейся штукатурки.
– О, нет! – извинился Борис. – Я не один вообще-то здесь. Я с девушкой здесь. И с собакой.
– Ну что ж! Извините тогда и… прощайте!
На лице пятилетней Юлии в ту же секунду мелькнула такая гамма чувств, что Борису показалось, что рядом с ним в асфальт ударила бесшумная черная молния.
– Хорошо. Я к вам зайду. На пять минут.
– И будете приходить, и будете приходить, да? – залепетала Юля, вцепившись маленькой живой ручкой в синтетический рукав куртки Тренихина.
Через неделю уже love story Бориса дала бездонную трещину: каждая встреча его с Анечкой начиналась с ее вопроса: «Ну что, опять к ним ходил? Вчера или позавчера?» После чего, через несколько фраз, следовало, естественно: «И когда ты теперь снова пойдешь? Завтра? Или сегодня, может быть?»
Все объяснения относительно милосердия, совести, души не принимались. Рассуждения о существовании некоего неписаного закона, заставляющего каждого большого художника платить духовный налог Богу, принимались как неуклюжие оправдания. Указания на полное несоответствие характеров, взглядов, жизненного опыта у него и у Нины и, наконец, даже подчеркивание объективно существующей разницы в их возрасте – более пятнадцати лет – принималось Анечкой Румянцевой зеркально – как доказательства ее, Анечкиной, правоты и прозорливости.
Так продолжалось около двух месяцев.
Тренихин ни за что ни про что с чистой как на духу совестью и ясным сознанием сгорал меж двух беспощадных огней.
Он абсолютно не был влюблен в Нину, более того, она ему даже активно не нравилась, особенно когда делала «засасывающие» глаза, но он не мог вдруг взять и оставить ребенка, опершегося на него всей душой, ребенка, для которого он, Борис, стал единственным светом в окошке, на котором этот детский узконаправленный свет сошелся клином. Вместе с тем он был не на шутку влюблен в Анечку Румянцеву. В ней ему нравилось все, кроме неосознанно создаваемого ею ощущения тисков, сжимавших Бориса все сильней и сильнее. Он чувствовал себя уже крепко обязанным, хотя между ними с Анечкой ничего такого обязывающего не произошло, ни на словах, ни на деле. Ситуация усугублялась еще и тем, что у Анечки все четче и четче стала проявляться в характере черта истеричности, зародыш этакой фурии, с сумасшедшим блеском в глазах. Человек, готовый смести все и вся ради какой-то, пусть даже очень высокой цели, естественно вызывает в окружающих страх, отторжение. Почему я что-то должен? – все чаще мелькало в сознании. Чувство непрерывной зависимости, необходимости оправдываться, ощущение крепких пут, вериг, которые навешали на него справа и слева, раздражало Бориса все больше и больше. Наконец, это сильно стало мешать рисованью. Он начал срываться, спуская собак на окружающих.
Долго тянуться такое, понятное дело, не могло.
В начале декабря Анечка дала Борису полную отставку.
Он тоже сказал ей все, что он по этому поводу думает.
Она ответила тем, что она думает по поводу его дум.
Разрыв состоялся полный и окончательный, такой, от которого нет дороги назад, и не может быть, и никогда не бывало – даже в советском кино.
Они расстались на углу с пустыми от безумия обид глазами.
Оставшись в одиночестве, Борис выкурил одну за другой три беломорины и подумал: пойду-ка я, да и на Нине-то… женюсь! Вот так я теперь поступлю!
В тот же вечер, рисуя Юле, как обычно, различных крокозябр, тигрогрызов, козлерогов, Борис неожиданно заметил, что Юля вполне отошла от того октябрьского образа «не от мира сего». Она была уже нормальным здоровым ребенком. Ребенком веселым, причем себе на уме.
«Господи, – подумал Тренихин, разглядывая, словно впервые, новое, совершенно ему незнакомое лицо девочки. – Как жизнь бисер мечет, перелицовывая до неузнаваемости! Все вывернула наизнанку, опрокинула: вот уж взаправду – кто был никем, тот станет всем и наоборот. Дичь какая-то! Ведь я запутался вконец», – пришел он к правильному, но совершенно неожиданному для него в тот момент выводу.
– Дядя Боря, а ты мне вчера обещал нарисовать, как Кузовик и Грузовик придумали новое электромеханическое устройство под названием «Кашедоедатель». Обещал, а не нарисовал!
«Обещал, – вспомнил Тренихин. – Было такое».
– А хочешь, дядя Боря я тебе секрет один открою? – предложила Юля.
– Валяй, – согласился Борис.
Нина как раз убежала минут на двадцать в молочную, так что было самое время секретничать.
– Вчера приходили к нам дедушка с бабушкой, после тебя.
– Ну?
– Да. И мой дедушка сказал, что если ты женишься на маме, то он тебе подарит автомобиль! Дедушка ветеран, ему бесплатно обязаны дать «Запорожец». А он решил подарить его тебе. С ручным управлением.
Борька не знал, что сказать. На миг он потерял способность соображать. Чувствовал: все внутри обрывается. «Обязаны дать» и «с ручным управлением» вертелось, сверлило в мозгу.
Он не помнил, как дождался возвращения Нины и, сославшись на что-то – на головную боль, что ли? – поспешно откланялся.
Больше он к ним не пришел никогда.
* * *
– Послушай, Коля… – Лена прервала цепь воспоминаний. – Ты просто… Ты как фаллоимитатор… Нельзя же просто так: туда-сюда… О чем ты думаешь сейчас? О чем ты вспомнил?
– О несчастной любви Бориса.
– Вот здорово! Приятно слышать, ты не представляешь как! Ты бы на себя глянул со стороны.
Он промолчал. Сказать было нечего. Он определенно одурел за последние часы. Это верно.
– Ты, Коля, не убивайся так особо. Все кончится, я знаю, хорошо. У тебя все хорошо кончается. Есть за тобой такое. У тебя плохо не может кончиться. Сказать, почему?
– Не надо! – Белов почти с ужасом отрицательно махнул подбородком, очнулся окончательно и, изображая радиста, с иронией произнес: – Вас понял! Связь кончаю.
Он сконцентрировался, заставил головной мозг отключиться. Включил спинной. И через минуту, точно, кончил связь.
Но мир в душе и спасительный сон были так же далеки, как и час назад.
– Не надо, Лена… Не надо больше! Я вымотался в лист.
– Конечно, я тебе никто!
– Нет, – тихо сказал Белов. – Ты самый близкий человек мне сейчас. Иначе я б тебе не рассказал про сцепщика.
С минуту еще они лежали молча, глядя в потолок над собой.
Наконец она не выдержала, села на кровати, закурила. Затем повернулась к нему:
– Коля… Не надо в себе носить это. Когда в себе – все это жутким кажется, а если всем расскажешь – пустяки.
– За психа примут.
– Да ладно, ты ж художник – разве не так! Воображение у тебя разыгралось, предположим, понятно? Отдай ты им этот кусок. И пусть они в прокуратуре там подавятся. Скинь это с плеч. Ведь я тебя люблю.
– И я тебя люблю.
Он повернулся к ней, вынул из ее пальцев сигарету, погасил, раздавив ее в пепельнице до мочального состояния.
И время снова оборвалось.
Мысли, время и жизнь вернулись к Белову, когда часы за стеной прохрипели, слегка дребезжа, четыре раза подряд.
О– о, это уже утро, считай.
Теперь надо срочно заснуть. Необходимо. Нужно!
Белов умел делать то, что нужно, а не то, что хотелось, умел даже в большей степени, чем Тренихин.
А Борис умел в нужный момент взять на себя управление. Он просто так потеряться, пропасть, сгинуть не мог, Белов был уверен. Борис мог держать себя сам в самых что ни на есть ежовых, курс – по трассе, цель – в кресте. В самых, казалось бы, безнадежнейших ситуациях. Как, например, в тот январский вечер, когда он вернул студенту Магарадзе часы.
* * *
Он потом рассказал, как это у него получилось. Лет десять спустя рассказал.
Он вошел в ресторан и направился прямиком к метрдотелю. Тронул его за рукав и сказал, достав и предъявив расписку:
– Я деньги принес. Предъявите часы.
Метр отвел его в сторонку и, отперев один из ящиков столика-тумбочки, стоящего в дальнем углу общего зала, извлек часы, положил перед ним на столик.
Метр, видно, хорошо запомнил, что часы снимал грузин.
– Часы не эти, – сказал Борис, едва глянув.
– Тогда, наверное, вот эти? – как ни в чем не бывало, метр достал – на сей раз уже из кармана своего смокинга – часы Магарадзе. – Простите. Я, видно, спутал. Теперь правильно?
– Теперь правильно, – кивнул Тренихин и, взяв в левую руку часы, почти одновременно с этим так врезал метру правой, что у того аж хрустнуло в лице.
Бросив на грудь отключившегося метра семьдесят пять рублей, Тренихин спокойно, не торопясь покинул зал.
Его провожали взглядами десяток человек. Но его никто не остановил.
Возможно, случайно – все просто растерялись от неожиданности. А возможно, что везение было здесь абсолютно ни при чем: Белов хорошо помнил, что в тот вечер во взгляде Бориса было нечто фатальное, светящаяся глазами врубелевщина, лермонтовина такая – мороз по коже.
И ясно, почему демоническая волна несла Тренихина в тот вечер.
Потому что в тот же день, часами пятью ранее, он, после месяца молчанья, решился и позвонил наконец Анечке Румянцевой, позвонил первый: в надежде занять у нее денег, чтоб выручить часы студента Магарадзе – предлог и повод был железный. А позвонив, он узнал, что Анечка вот уже месяц как не имеет места в подлунном мире: еще в начале декабря она, разорвав все его рисунки, которые он дарил ей в ноябре пачками, выбросилась из окна своего десятого этажа цековской башни и умерла, ударившись среди больших и малых Бронных об твердый и грязный асфальт.
* * *
«Господи, дай же мне сон!» – взмолился Белов.
Но Бог не давал ему сна.
«Боже ты мой! – вдруг ужаснулся Белов, вспомнив: – И зачем же я „Кыш, блин!" сказал этой девочке, попросившей автограф у меня перед самым банкетом? Ну за что я обидел ее? Вот же скотина, хуже скота – распустился ни к черту!»
От боли в душе Белов аж заскрипел зубами.
И в ту же секунду, как провалившись, заснул.
* * *
– О, на ловца и зверь бежит! – Власов встал навстречу входящему Белову, поднял в приветствии правую забинтованную руку. – Я как раз хотел повесточку вам послать.
– А что – разве так сложно позвонить? – удивился Белов. – Я же вам дал свой телефон.
– В нашем случае не очень удобно звонить. Не те у нас отношения, – многозначительно произнес следователь и, заметив удивление на лице Белова, пояснил: – Звонок-то к делу не пришьешь. Вам позвонишь – а вы потом откреститесь. Или вы, допустим, чего не поняли по телефону, не расслышали. Позвонишь порой, а потом выясняется, что вроде хоть ты и звонил, казалось бы, да не туда, видимо, попадал. А время идет, часики тикают, начальство сначала за холку треплет, а потом и шкурку приспустит… Иное же дело повестка – вещь осязаемая – раз и квас – под расписочку! Хотите, приходите, не хотите, не надо – пожалуйста – а расписка ваша уже в дело подшита, подколота! Дело пухнет, как морда утопленника, и, значит, споро делается поманенечку. Старо как мир, мудро! Ну, садитесь же, гость дорогой. То есть не то чтобы уж прямо садитесь, хе-хе… А присаживайтесь пока вот.
Белова страшно раздражала эта манера Власова говорить: уклончиво, с отводом глаз в сторону, с намеками, невнятными угрозами и каким-то наивным, открытым хамством, с наглостью на уровне детского сада.
Белов сел напротив следователя и слегка потянулся, так, что плечевые суставы сочно хрустнули.
– Как рука? – спросил он участливо, но не без удовольствия. – Сильно болит, поди?
– Да нет. Прошла. Еще вчера, – безмятежно парировал Владислав Львович, однако, кинув взгляд на свою руку, увидел повязку и болезненно поморщился: – Перевязал вот просто так, формально – чтобы писать меньше. У нас ведь как, у следователей – сплошная писанина. Все думают, что мы как Пуаро, как Шерлок Холмс: расследуем там, вынюхиваем, анализируем, думаем, а мы вроде Агаты Кристи – пиши и пиши, что в голову взбрендит, без всякого вмешательства ума, двадцать пять часов в сутки кряду – в черную голову, чего хочешь пиши, одно чистописание, мать его, прости господи!
Белов сочувственно кивнул.
Оба замолчали.
Власов даже отвернулся в сторону и вперил свои темные, как маслины, глаза куда-то туда, за окно, в серое небо, затянутое сизыми облаками. Там, на пламенеющей багрянцем ветке клена, сидела облезлая ворона и как-то тяжело, по-собачьи натужно гадила.
– Запор, – констатировал Власов и вновь замолчал, закрыв глаза.
Пауза затянулась сверх всякой меры и приличия.
«Заснул он, что ли? Специально жилы тянет, псина», – подумал Белов и громко, отрывисто кашлянул.
Власов вздрогнул и резко открыл глаза.
В глазах был испуг: видно, он действительно увлекся своей ролью и закимарил хоть и сидя, но вполне.
– Так по какому поводу вы меня повесткой-то хотели вызвать? – спросил Белов.
– Нет-нет, лучше вы начните, с чем пришли. У нас-то пустяки: глядишь, и тема отпадет сама собой. Я вас слушаю.
– Я вам вчера не успел досказать этот эпизод.
– А, в поезде?
– Да, в поезде. А как вы догадались?
– Очень просто: вы же его вчера мне как раз и недосказали. Логика, ничего больше.
– Ну вот, а сегодня я решил досказать. Мне кажется, что окончание этой истории играет самую существенную роль в деле исчезновения, так сказать. – Белов запнулся слегка. – Вы только выслушайте меня до конца и внимательно, и главное, будьте любезны, не сочтите меня за ненормального.
– Побойтесь бога! Какой же из вас ненормальный! Хе-хе! На это вы и не рассчитывайте: на психа скосить. У меня, скажу вам более, принцип: лучше психа засадить в качестве нормального, чем нормального – освободить.
– Простите, не понял вас? – удивился Белов.
– Да я и сам себя не очень понял, – немного смутился Власов. – А, вот что: я хотел сказать, что ни за что вас за ненормального не сочту. Что бы вы мне тут ни наплели, как бы ни крутились-колотились. Вот! Это будьте спокойны. Наоборот, я искренне считаю, что вы – уникум! – Власов поморщился, пошевелив пальцами забинтованной правой руки.
– Ну, хорошо. – Белов задумался, не зная, с чего начать.
Власов полистал бумажки, ища последний лист. Было заметно, что и сам он не очень хорошо помнит, на каком месте вчера остановился Белов.
– А, вот, нашел! Вы остановились на том, что пропавший Тренихин послал этого волшебного сцепщика к проводницам за новой выпивкой. Ну-с, что же случилось дальше?
* * *
– Во! – сцепщик вернулся в купе с двумя бутылками водки и газетным кульком, содержащим три помидора, три огурца и шмат сала. Поставив водку на стол и разложив рядом закуску, он извлек из карманов три чайных стакана:
– Живем!
– Показал бы еще какой фокус, что ли, – попросил Борис, разливая.
– М-м-м… – согласно мумукнул сцепщик. – Бона, смотри на закуску. Внимательно смотри, безотрывно. Ша! Теперь, мужики, полная тишина!
Дождавшись тишины, сцепщик чмокнул и, сосредоточившись, вперился в закусь. Взгляд его остекленел, на лбу вдруг выступили жилы от напряжения…
Медленно, неохотно, словно с трудом подчиняясь ему, с какой-то заметной на глаз нерасторопностью, помидоры и огурцы начали разваливаться на части – один за другим, по очереди – сами собой, будто нарезанные невидимыми ножами. Забавно, что все развалились на три равные дольки.
– Во, филиппинская медицина какая, – на троих, а? – восхитился Борька. – Ну, а сальце – смогешь?
– Сало сложнее, – ответил мужик, оттерев со лба очередную партию крупнозернистого пота. – Сало и ножом резать тоже тяжелей, чем помидоры. Да и форма не та у меня пока – после вчерашнего-то. Сейчас, не спеши. Не спеши. Вдоль или поперек его распустить, как желаешь?
– Ну, разумеется, желаю поперек, – тут же скомандовал Борис. – Вон мясные прослойки-то какие. Не разжуешь. Поперек волокон и потоньше, будь добр.
– Сделаем, – согласился сцепщик.
…Все втроем глядели как зачарованные на шмат сала, начавший вдруг отделять от себя аккуратные тончайшие ломтики, отслаивающиеся один за другим и раскладывающиеся веером на мятой газете безо всякого физического вмешательства.
– Слушай, как ты это делаешь? Чем?
– Я и сам не знаю, – честно признался мужик. – Чувствую только – могу! Ну, вот он, – сцепщик кивнул на Белова, совершенно ошалевшего, лихорадочно пытающегося понять, что на его глазах происходит. Фокус? Прелюдия к мошенничеству? – Вот как он, друг твой, думает, соображает? Чем?
– Белов соображает головой, – уверенно отреагировал Тренихин. – И больше ничем.
– Ага, – согласился мужик. – Вот ты, кстати, сечешь, что не только головой думать можно. Ты это чувствуешь.
– Да я это просто так ляпнул, не думая, – признался Борис.
– Не думая головой! – заметил сцепщик многозначительно.
– Головой не думая! – подхватил Белов, как попугай, лишь бы не молчать только.
Ему стало вдруг жутко до беспамятства. Непонятно откуда в подсознании всплыло паническое ожидание катастрофы. Что-то грозное быстро прошелестело где-то там, внутри, всколыхнув все слои интуиции и суеверных предчувствий.
– Ну, будем! – приподнял стакан сцепщик.
– Я потерял, кстати, мысль, – сказал Белов, изо всех сил стараясь скрыть этот внезапно обуявший его животный страх. – Кто помнит, о чем мы говорили только что?
– Мы говорили о том, как я это делаю, – незамедлительно отреагировал сцепщик. – А я сказал, что не знаю как, так же как ты не знаешь, как ты сам думаешь или, допустим, чем ты вот сейчас выпить хочешь? А ведь хочешь?
– Хочу, – согласился Белов, чувствуя, что стакан в его руке просто играет от нервной дрожи, охватившей все тело.
– А чем хочешь – ты и сам не знаешь! Ну! – он опрокинул стакан так заразительно, что оба художника, как под гипнозом, синхронно сделали то же самое.
– Ты с детства все это умеешь? – спросил Борис и, взяв со стола кусочек сала, мельком осмотрел срез, невыразительно хмыкнул и закусил.
– Нет. Это лет двадцать как на меня нашло.
– Как? Расскажи, если время есть и не жалко.
– Секрета нет. Я тогда работал в леспромхозе на Севере, на воркутинской ветке, недоезжая одного перегона до Инты. Разъезд 1952-й километр. Там лагерь был еще большой, режима строгого – слышали, может? Кожимлаг?
Борька иронично фыркнул, отрицательно мотнув головой.
– Ну и слава богу, что не слышали, – согласился сцепщик. – Это лучше не знать, не слышать, не видеть. Будто нет. Неважно. Ну вот. Там рядом – леспромхоз. Ну, это тоже неважно, – сцепщика явно повело с последнего стопаря.
– Эй! – тряхнул его Тренихин за плечо. – На хрен! Давай побоку все, что не важно. А то не нальем тебе больше.
– Ты что? – испугался мужик, сразу очнувшись и словно ища нить. – Ладно. В общем, работал я там в те еще годы, и пошли мы как-то на субботу-воскресенье с мужиками в горы рыбу ловить…
– Что-что? В горы рыбу ловить? – переспросил Белов, подумав, что сцепщик опять нацелился в отключку.
– Тунец, кефаль в горах крупная, – подтвердил Тренихин, уловив иронию в голосе Белова и подначивая в том же направлении.
– Зря насмехаетесь, – хмыкнул сцепщик. – В горы, вот, в уральские все там ходют рыбачить. Подале. В верховья. Там же ручьи. Со снежников-то. Вода чистейшая. Да водопады там, в верховьях самых. Рыба любит, ей под водопадом легко дышится. Играет. И под каждым водосбросом яма есть. Вот в яме-то оно и есть самое – харюс, кумжа. Семужка. Как дашь шашку тола – и собирай – унесешь сколько! Но сначала ее вынуть-то, рыбку, надо. А водичка уй, холодющая – со снежника, ну просто обжигает, смерть.
Тренихин откупорил вторую и начал разливать.
– Записки охотника! – кивнул он, разливая. – Тургенев, блин! Иван Сергеич, как живой…
– Налазились мы всласть по ямам. Замерзли, значит. Потом согрелись… конкретно так, плотно. Передрались все на хрен, я ушел от них. Ну, приплутал чуток. Там лесотундра. К утру на стрелку вышел все же, определился – речка Хамбол где впадает в Лимбек. Ну, точка характерная. Все, вижу я теперь найду дорогу-то назад, к железке.