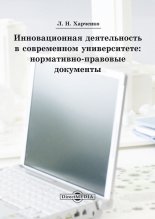Новые идеи в философии. Сборник номер 2 Коллектив авторов

Предисловие
Одной из наиболее усердно и в то же время успешно разрабатываемых областей философии является за последние годы философия естествознания, интерес к которой породил уже целую, и довольно значительную, литературу. Центром внимания является в этом случае, естественно, физика, физическая картина мира. Если довольствоваться схематическим и несколько грубым делением, то можно сказать, что борьба здесь идет между реалистической концепцией физической науки и физического мировоззрения, с одной стороны, и концепцией феноменологической в ее различных разновидностях (теория «экономического» описания, символическая теория, энергетика и пр.), с другой.
В предлагаемом сборнике преимущественное внимание уделено сторонникам второго направления, которое пока является особенно полно и талантливо представленным в литератур вопроса.
Статья А. Рея, взятая из его большой книги о «физической теории», направлена, главным образом, против скептицизма в физике (и вообще точной науке), к которому пришли (особенно во Франции, под влиянием идей Бергсона) крайние сторонники символизма, и старается показать объективность физики и преемственность развития физических мировоззрений.
Полемика между Планком и Махом, привлекшая к себе такое внимание ученого и философского мира, имеет значение не только потому, что в ней участвуют столь известные ученые, но и как симптом намечающегося среди физиков поворота от идей феноменологизма в сторону если не былого механизма, то былого реализма. К защитникам символического направления принадлежит также Дюгем, проводящий во всех своих трудах философского характера новую «физику качества». Из представителей энергетического направления мы остановились на Гельме, автор менее популярном, чем Оствальд, но развивающем идеи энергетики в более чистом «феноменологическом» виде.
Статьи сборника не претендуют, конечно, на исчерпывающее значение. Они только намечают некоторые проблемы и попытки решения их, отсылая для более детального ознакомления к литературе вопроса.
Н. О. Лосский и Э.Л. Радлов.10 мая 1912 г. СПБ.
Абель Рей.
Общий дух современной физики и ценность физической науки1
– 1. Объективность физической науки.
– 2. Разногласия физиков в теоретических вопросах и мнимый произвол в науке.
– 3. Физика в целом (включая в нее и теоретическую физику) тесно ограничена опытом.
– 4. Опыт заставляет делать заключения, на которые не можетвлиять субъект познания.
– 5. Всеобщее согласие ученых при наличности тождественных условий опыта.
– 6. Смысл, который можно придать в настоящее время терминам объект и объективный.
1. Современный кризис в физике, как его изображают нам, заключается по существу в следующем:
Существует глубокое разногласие между современными физиками и полный разрыв между духом современной физики и духом физики начала XIX века.
Благодаря этому в развитии физики нет ни единства, ни непрерывности: ее приходится постоянно переделывать заново. Если развивать эту точку зрения до ее логического конца, то неизбежно приходишь к выводу, что в физике нет ничего объективного.
Согласно этой точки зрения, физика сводится к некоторой произвольной теории, или некоторой системе таких теорий, и каждый физик может иметь свою систему или свою физику. Опыт имеет только довольно отдаленные отношения к ней. Одним словом, во второй половине XIX века перед нами раскрылась картина банкротства механистической концепции, бесплодность которой была доказана, затем банкротства физики, наконец банкротства опытной науки.
Но, если разобрать взгляды на эти вопросы самых современных физиков, то мы увидим, что эти скептические выводы ни на чем не основаны. Резюмируя эти взгляды, можно, как мне кажется, прийти к следующим заключениям:
1. Все современные физики – к какой бы школе они ни принадлежали – верят в объективность физики, т. е. они полагают, что с помощью ее можно будет все полнее и полнее познавать физико-химические явления, условия их наступления, их изменения, их взаимных связей.
2. Эта объективность по существу эмпирического характера. Опыт есть критерий истины, а, значит, и объективности. «Мир нельзя угадать». Выражения вроде «рациональная интуиция», «самоочевидные принципы» не имеют никакого смысла для ученого, вне области формальной логики.
3. Эта объективность – феноменального и относительного характера. Физика дает нам верное представление о природе, какой она нам является, она дает нам систематическое описание.
4. Объективность эта – гарантией которой является опыт – неизбежно ограничивается данным в настоящий момент опытом. В те времена, когда опирались на априорные интуиции, эта объективность могла казаться беспредельной; интуитивные принципы должны были найти свое применение во всех физико-химических явлениях и быть достаточными для объяснения всех их. Но ясно, что наука, основанная на опыте, не может питать таких иллюзий. Она знает лишь то, что раскрывает ей опыт. Будущее всегда может внести новые поправки. А так как физическая наука недавнего происхождения, то эти поправки будут, без сомнения, несравненно более ценными, чем те сведения, которыми мы уже обладаем в настоящее время. Это объясняет огромную роль, которую должна играть гипотеза. Это объясняет также тот факт, что научную систематизацию можно провести лишь в крайне общих чертах и что слишком точные и подробные систематизации оставлены теперь всеми. Это же, наконец, объясняет возможность разногласий в физических теориях.
Но будущее должно оставить нетронутыми фактические результаты, добытые современным опытом, какова бы ни была участь теоретических гипотез. Эти результаты имеют под собой твердую почву опыта (в этом и заключается объективная ценность физики), и будущее найдет их, каковы бы ни были формы, в которые облечется к тому времени физико-химическая наука.
5. Из всего предыдущего вытекает тот вывод, что, если физика не завершена и еще далека от подобного завершения, то она все-таки существует и прогрессирует. Мы наблюдаем полнейшее согласие в вопросе о ее методах и ее приемах открытия, в том, что образует ее содержание, если не в способе ее изложения.
а) Таким образом, физико-химические науки составляют все то, что мы знаем о физико-химических явлениях, b) только они могут дать нам возможность приобрести эти познания и только они могут увеличить их. Всякий иной метод, помимо того метода, которому он следуют, или окажется бесплодным, или прямо приведет нас к заблуждениям.
6. Наконец, по поводу оговорки в пункте 4, касающейся формы изложения содержания физики, следует заметить следующее. Хотя мнения насчет этой формы изложения расходятся между собой, но построение физико-химических наук стремится стать единым, каковы бы ни были школы, к которым принадлежат физики, а) Различные физики приходят приблизительно к аналогичными конструкциям. b) Если же и имеются расхождения, то они объясняются тем простым фактом, что наука далеко еще не пришла к концу своих изысканий, что является необходимым условием единства систематизации. Поэтому, если в задаче систематизации науки гипотезы играют огромную и неизбежную роль и если, следовательно, можно создавать различные гипотезы, то все-таки все школы согласны в том, что мало-помалу, благодаря именно возгоравшейся взаимной критике, удастся прийти к одной единственной систематизации, к одной гипотезе. И не только должно будет прийти к ней, но уже приходят к этому. В истории физики мы замечаем одну линию развития, и на каждом этапе этой эволюции мы наблюдаем, как между учеными устанавливается очевидное согласие. Этим объясняется то, что физика принимала особенный и весьма своеобразный вид на каждом из пройденных ею этапов, и в частности на этапе, который она проходит в настоящее время.
Из всех этих тезисов вытекает то заключение, что физическую науку, несмотря на ее релятивизм, никогда не приходится переделывать заново, и что брать слово «релятивизм» в этом смысле значит довольно грубо играть словами. Релятивизм физической науки означает лишь одно – именно описательный и человеческий характер этой науки; но, очевидно, что описание, о котором здесь идет речь, для человеческого рода единое, необходимое и всеобщее.
2. Физическая теория произвольна, уверяют нас. «Посмотрите на Дюгема: он утверждает, что тот способ, каким мы строим эту теорию, зависит вполне от нашего произвола, лишь бы были удовлетворены принципы тождества и противоречия, имеющие, впрочем, одно только логическое значение и являющиеся простой гарантией связности в разговоре. А разве Мах, в свою очередь, не утверждает, что физическая теория руководится принципом экономии, своего рода психологическим принципом наименьшего действия? И в этом случае мы удовлетворяем только потребности духа в удобстве, удовлетворяем логическому условию, а не условию реальности. А Пуанкаре разве не признает, что в основах физической теории имеется приспособление вещей к логическим потребностям мысли? Одна только механистическая концепция остается чисто объективной, все же выше упомянутые школы уверяют, что эта объективность скорее нечто желаемое нами, чем реальное, что она не выдерживает критики».
Все это верно, буквально верно, но именно только буквально. Те, кто говорят так, ухватились за резко выраженные формулы, за формулы, высказанные в полемике, чеканные, рельефные, за формулы, которые писатель употребляет, чтоб подчеркнуть свою идею, ярко отметить свою точку зрения, насильственно привлечь внимание читателя к тому, в чем он отличается от других авторов, и к тому, против чего он борется. Воспроизводя эти формулы в их непосредственном виде, искажают дух самого учения или, вернее, не стараются вовсе проникнуть в него. Здесь забывают применить элементарное правило исторической критики, требующей считаться со всем контекстом изучаемого источника, а не с отдельной фразой его.
3. Что утверждает Дюгем? – Просто следующее: из того, что в физической теории мы говорим об электрической массе, о количестве электричества, об электрическом напряжении, об электрическом токе, о напряжении электродвижущей силы, об электрическом потенциале, о количестве теплоты, об абсолютной температуре, было бы наивно умозаключать, что в природе имеются какие-то реальности, какие-то особые сущности, индивиды, соответствующие каждому из этих понятий. Эти понятия произвольны; они отвечают потребности нашего духа, желающего представить себе результаты некоторого количества опытов.
Но зато не произвольны результаты этих опытов, и они вовсе не созданы для того, чтобы удовлетворять потребностям нашего духа. Здесь дан принудительный предел для наших построений, и этот предел по существу объективен и неподвижен. Здесь должна найти свое завершение теория, и у этого завершения она встречает нечто, не зависящее от нас, но зависящее от того, что не есть мы, что внешне нам. Все физико-химические теории должны привести нас к следствиям, данным в опыте и неподвластным нашим субъективным функциям. Раз опыт противоречит какому-нибудь из этих следствий, теория должна быть откинута. Итак, все следствия теории должны непременно быть объективны.
Но из того, что следствия теории непременно объективны, разве ничего не вытекает для построения самой теории? Кто мог бы отрицать это? Подобные границы для теоретического и субъективного произвола по необходимости представляются очень тесными границами.
При дидактическом изложении своего учения Дюгем может исходить из произвольного, субъективного, чтобы заканчивать опытом. Но кто не видит (и без этого не было бы физики), что в действительности, в живом творчестве своем физик постоянно исходит из опыта и что произвол тесно ограничен данными этого опыта? Клод Бернар уже заметил в своем введении в экспериментальную медицину, что не может быть априорной исходной точки. Даже в математических науках – и он ссылается здесь в подтверждение своего взгляда на свидетельство Эйлера – посылки всегда даются наблюдением отношений между вещами.
Теоретик, желая отметить независимость теории относительно опыта, желая ярко выдвинуть конструктивный прием духа в теоретической части, может, конечно, перевернуть естественный порядок вещей и показать, что теория – какова бы она ни была – исходя из какой-нибудь априорной точки зрения, не перестает сохранять свою ценность, раз все следствия из нее оправдываются опытом. Он хочет показать, что в этом единственное условие пригодности теории.
Но в научной практике физик, как это легко заметить, руководится опытом. Его свобода ограничена. Его теоретические построения будут фатально подобно маятнику колебаться около некоторого среднего направления. Опыт становится центром тяжести системы, и угол колебания будет очень незначительным.
Но, если это так, то мы совсем недалеко от того, как понимают теоретическую физику самые непримиримые механисты. И они допускают наличность произвола, состоящего из нашего неведения и вызываемых им гипотез. Так как опыт не дает нам – или не дает нам точным образом – всех тех отношений, в которых мы могли бы иметь нужду для построения теории какого-нибудь явления, то мы вынуждены заполнить получающиеся таким образом пробелы рядом догадок. Эти догадки, эти гипотезы будут иметь предельным условием экспериментальные данные. Иначе говоря, и здесь – как и в концепции Дюгема – необходимо и достаточно, чтобы физическая теория совпала со всем нашим опытным знанием и чтобы следствия из нее всегда оправдывались опытом, поскольку возможен таковой. Все же остальное гипотетично, т. е. произвольно. Поэтому физические теории будут колебаться в известных границах около некоторого среднего положения, около некоторого центра тяжести науки, определяемого нашим опытным знанием.
Заключение вытекает отсюда с принудительной силой. Физическая теория, как ее понимает Дюгем, и физическая теория, как ее понимают механисты, почти тождественны между собою.
Практически мы всегда приходим к какой-нибудь теории, которая воспроизводит или стремится воспроизвести по возможности верно опыт. Но опыт – это граница, которой нельзя передвинуть (если не говорить о случае заблуждения).
Это не все еще. Механистическая концепция признает, что мало-помалу гипотеза исправляется; амплитуда колебаний ее уменьшается. Но то же самое утверждает ведь и Дюгем, когда он говорит, что одна какая-нибудь из теорий должна взять верх над другими, что развитие идет по направлению к одной физической теории или к одной теоретической физике. И здесь, значит, согласие полное. Спекулятивно каждый толкует вещи по своему; практически все согласны.
4. Эпитет «произвольный», так легко применяемый к физической теории, должно таким образом понимать в очень ограниченном и узком смысле слова. По существу он употребляется лишь для того, чтобы рельефно выдвинуть роль, играемую гипотезой. Действительно, нередко в том традиционном потоке идей, который царил в течение первой половины XIX века, проходили молчанием различие между гипотетическими частями теории и другими ее частями, выведенными непосредственно из опыта.
Против этой метафизической и антинаучной тенденции необходима была сильная реакция. Ученые не замедлили стать на этот путь, в том числе и механисты. Они отделили элементы гипотезы от элементов опыта и указали огромную роль первой в физико-химической теории.
Но, делая это, они вовсе не думали разрушить объективную ценность физико-химических наук, они преследовали лишь одну цель: утвердить ее, как то первичное данное, которое рационально допускает существование опытной науки.
Опыт есть, по определению, познание объекта. В физической науке это определение уместнее всего; и оно здесь яснее, чем в случае других наук. Физика стала наукой в борьбе против априорной спекуляции схоластики. Она выросла в борьбе против произвола диалектического и пустого рассуждения, в борьбе против предубеждений, перед которыми хотели во что бы то ни стало склонить факты. Опыт – это то, над чем не повелевает наш дух, над чем не властны наши желания, наша воля, это то, что дано и чего мы не делаем. Опыт – это объект, противостоящей субъекту.
У всех современных физиков сохранилась эта, идущая из эпохи Возрождения, концепция физического метода. Рэнкин, Дюгем, Мах преследуют своими теориями лишь одну цель: найти опыт. Критическая школа (Пуанкаре) допускает, что наука покоится на отношениях, доставляемых опытом. Механистическая концепция тоже утверждает, что она апеллирует к одному лишь опыту.
Отсюда следует, что физика по своему методу коренным образом объективна. Элементы произвола в теории – раз последняя завершена – не могут лишить ее результатов и малейшей доли объективности.
5. В приемах и способах измерения имеются известные соглашения, во всякий производимый нами опыт входят целый ряд сложнейших теорий. Все это верно. Но это не мешает тому, что все экспериментаторы – если они станут пользоваться одинаковыми приемами измерения и одинаковыми теориями – станут находить тожественные результаты.
Измерения и теории, с помощью которых их производят, заключают в себе неизбежным образом элемент условности, ибо они представляют собой некоторые знаки и символический язык. Ведь ясно, что градус или калория так же мало существуют объективно, как существуют те знаки, которые их обозначают в выкладках, или те слова, которыми пользуются, когда говорят о них. Объективно и неизбежно существует лишь результат, к которому приходят, если условиться пользоваться такими-то именно знаками, такими-то словами, такими-то обозначениями. Вот та граница, которую природа ставит свободе физика; вот то, чего он не может создать или изменить, вот, то что остается тождественным для всех исследователей, поставивших себя в тождественные условия. Большего и нельзя требовать, да и непонятно было бы, что можно требовать большего для объективности физики.
Физическая наука должна позволить всем физикам – независимо от того, будут ли они придерживаться энергетических или механистических идей – прийти к тожественным результатам и сообщить эти результаты всем. Она объективна постольку, поскольку объективно наше представление о внешнем мире, т. е. поскольку объективно все то, что мы называем предметом или реальностью.
Неважно то, что, согласно некоторым концепциям, теория не есть вовсе копия (decalque) опыта; так как теория неизбежным образом апеллирует к гипотезе, то это является делом интерпретации. Но есть нечто, не являющееся делом интерпретации – это то, что дается опытом и в чем, в конце концов, заключается всегда всякая ценная физическая теория.
Следовательно, нет никаких оснований извлекать из воззрений современных ученых, кто бы они ни были – а тем более из воззрений предшествовавших им ученых – того заключения, будто физика состоит из чисто спекулятивных теорий.
6. Уступим идеализму и субъективизму все, что они могут требовать. И вот, если мы хорошенько разберемся в вопросе, то мы увидим, что объект состоит – как с психологической, так и с философской точек зрения, если мы будем придерживаться данных положительного знания – просто из связной и неизменной системы отношений. Всякое восприятие, и даже более, всякий образ сонной грезы, как бы он ни был неясен и элементарен – ведь субъективизм принимает иногда за реальные данные то, что некогда считали неустойчивым и иллюзорным – является все-таки результатом некоторого отношения между еще более хрупкими и мимолетными элементами. И английские психологи, утверждавшие, что сознание есть ощущение различия, и психологи вообще, утверждающие, что акт познания и различения соотносителен с одновременным содержанием сознания, говорят этим попросту лишь следующее: всякое состояние сознания имеет своей материей отношение, а, следовательно, всякий объект есть отношение.
Физико-химические науки устанавливают просто отношения между явлениями. Но отношения не существуют. Значит, эти науки не имеют объективной ценности. – Простите, должны мы ответить на это: всякий объект есть не что иное, как некоторая система отношений. Физика, как и все прочие науки, ставить себе просто следующую задачу. Она выходит из тех систем отношений, которые составляют внешнее восприятие нормального человека. Она ищет, в свою очередь, существующие между ними отношения, т. е. условия, регулирующие их возникновение, их изменение, их исчезновение. Она, словом, продолжает тот основной процесс, путем которого конституируется реальное. Непосредственная интуиция сознания дана лишь благодаря ее отношениям к тому, что предшествует ей, и к тому что следует за ней (если бы она не отличалась от этого, то она бы и не ощущалась). Но оставим даже в стороне эти отношения: интуиция ощущается лишь потому, что она входит в связь отношения с тем, кто ее ощущает. Без этого она не существует. Она начинает существовать лишь как член некоторой двойственности, лишь как отношение. Без этого она не только была бы недоступна выражению, но была бы недоступна мышлению, была бы недоступна экспериментированию. Она была бы самым абстрактным, самым отвлеченным алгебраическим символом. Но почему это отношение следует считать более реальным, чем отношения, устанавливаемые химией между весами входящих в соединение элементов и весом самого соединения? Я не вижу здесь никакой разницы; а если я и вижу ее, то скорее в пользу химических отношений, которые, несомненно, более точны, более неизменны и всеобщи. Когда я становлюсь на самую абсолютную субъективную точку зрения, то мне кажется, что я в праве сказать: все наши познания, а, следовательно, все наши состояния сознания одного и того же порядка. Если объективны одни, то объективны и другие. Если реален опыт сновидений, то так же реален опыт лабораторий: я не могу найти между ними никакой разницы по существу. А различия в степени благоприятствуют скорее лабораторному опыту.
По поводу вопроса об объективности физики можно, как мне кажется, дать общий ответ на проблему о ценности научного познания. Оставим в стороне и субъективную и объективную точки зрения. Обе они, может быть, вытекают из частичного анализа. Станем на точку зрения обыденного здравого смысла. Сказать, что какая-нибудь вещь неизменна, что она необходима, это значит сказать, что у нее имеются определенные отношения с другими вещами. С помощью восприятия я получаю в общих и смутных чертах отношения между вещами. Задача науки сделать их более точными, более подробными, более полными. Наука тем самым увеличивает неизменность и необходимость этих отношений, т. е. то, что составляет их объективность.
Следовательно, какова бы ни была школа, к которой принадлежит физик, так как он всегда требует от физической теории совпадения следствий из нее с опытом, т. е. тождества выводимых с ее помощью отношений с отношениями наших представлений, то всякая физическая теория (и физическая наука целиком) имеет объективное значение. По мере развития физики объективность эта увеличивается, начинает превосходить по неизменности, точности и необходимости тех отношений, к которым она приводит, объективность своих прежних результатов, а, значит, и объективность восприятия, служившего отправным пунктом. Восприятие – и даже еще смутное чувство удовольствия или боли – было бессознательной физикой: оно было в человеческом роде началом подлинной физики. Наше восприятие – это специфический инстинкт, носящий следы психологического превосходства нашего вида. Наша наука продолжила его.
Различные ошибки и заблуждения, изменения точки зрения в теории, различия в истолковании, необходимость условных соглашений так же мало говорят против объективности физики, как обманы чувств говорят против объективности внешнего восприятия. Тот факт, что существуют ошибки, а, значит, и необходимые поправки, является скорее доказательством того, что объект существует. Существование субъективного заблуждения доказывает существование объективной истины. Тот факт, что опыт заставляет физика разрушать, а потом строить заново, если он хочет, чтобы результаты его теории сходились с результатами опыта, доказывает, что теория имеет объективную ценность и что она имеет смысл лишь благодаря этой своей объективной ценности.
– 1. Два смысла слова «объективный», смысл интуитивный и смысл эмпирический.
– 2. Интуитивный смысл уступает мало-помалу место эмпирическому смыслу.
– 3. Но он уступает его не без сопротивления: рационалистическое течение.
– 4. Эмпиризм и его понятие объективного.
– 5. Объективность физической науки должна – согласно воззрениям всех современных физиков – быть понимаема в эмпирическом смысле: Дюгем, Пуанкаре.
– 6. Доля духа, согласно этой эмпирической концепции; все физики признают ее; но роль духа не имеет ничего категорического. Все, что носит категорический характер, идет от опыта.
1. Итак, физическая теория имеет объективную ценность. Но слово «объективный», как и все наиболее общие термины, как и все философские выражения, истрепавшиеся в результате бесчисленных контроверз, довольно неопределенно, – и поэтому утверждение, что физическая теория имеет объективную ценность, не имеет само по себе большого смысла. Надо точнее формулировать, что понимают под ним.
Бесчисленные оттенки слова «объективный», полученные им в зависимости от различных систем, могут быть сведены к двум различным и до известной степени противоположным смыслам: смыслу интуитивному или рациональному, и смыслу эмпирическому.
Интуитивный (или рациональный) смысл слово «объективный» принимает в философии понятия и в схоластической философии, в реалистической теории универсалий. В этом случае, исходя из некоторого априорного данного нашего духа, превращают следствия спекулятивного рассуждения в абсолютные реальности. Субъект ставится мерой объекта.
2. Резкой реакцией против этого реализма является номинализм и исторически связанный с ним эмпиризм. Но и они верят в объективность познания, только они считают объективным не тот же самый элемент, что реализм. Согласно им, наоборот, логическое понятие, абстрактная или отвлеченная идея, априорная спекуляция, по существу субъективны. Это – точки зрения духа, символы, созданные им и получающие свою ценность лишь от того, что они покрывают собой. Объективно то, что дано извне, что навязывается нам опытом, чего мы не делаем, но что делается независимо от нас и до известной степени делает нас. В своем дальнейшем развитии эмпиризм будет все более выдвигать эту последнюю черту и под конец станет рассматривать дух как создание опыта.
3. Это течение, побуждающее придать слову «объективный» эмпирический смысл, устанавливается во всей своей цельности не сразу. Старые привычки мысли остаются, и с этой точки зрения можно сказать, что картезианство, лейбницианство, кантианство, идеализм XIX века всегда уделяют интуитивному объективизму его долю, но долю гораздо меньшую, чем та, которую признавала философия понятия.
Говоря по правде, они скорее обновляют интуитивный и рациональный смысл термина «объективный», чтобы установить согласие между ним и эмпирическими потребностями современной мысли, и многие из их истолкователей не обращают достаточного внимания на это новое усилие, ведущее за собой новую концепцию. Эти истолкователи пренебрегают всевозрастающим значением, приписываемым рационализмом опыту, и в результате они постепенно начинают смешивать опытный метод с рациональным методом. Но при всем том очевидно, что великая рационально-идеалистическая философская традиция сохранила интуитивное понимание объективности.
Абстрактная идея, понятие, создание духа в утилитарно-символических целях, – все это не имеет более объективной ценности. Познание не проистекает целиком из того, что привносится извне. Можно было бы почти сказать, что опыт имеет двоякое происхождение: чувственную или эмпирическую интуицию – то, что называют опытом в тесном смысле слова – и внутреннюю или рациональную интуицию, своего рода естественное просветление духа, которая также раскрывает перед нами объективные реальности. Чувственная интуиция имеет ценность лишь постольку, поскольку она гарантирована рациональной интуицией, поскольку она целиком проникнута ею.
Так как и здесь для получения чего-нибудь объективного мы должны, в конечном счете, восходить до рациональной интуиции и так как она имеет кардинальное значение, то перед нами здесь опять-таки интуитивное, а не эмпирическое значение термина «объективный». Я буду называть это новое интуитивное значение выражением: современная интуитивная объективность, чтобы отличать ее от интуитивной объективности философии понятия. Она противоположна, действительно, этой последней, и потому что она прямо отрицает объективность идеи, т. е. того умопостигаемого мира, который открыл Платон, когда он изгнал чувственный опыт, потому что она номиналистична и что, следовательно, она не только не противостоит чувственному опыту, чтобы утвердить его, но соединяется с ним, чтобы подтвердить его. Она противоположна также интуитивной объективности древней философии в том, что рациональная интуиция есть тоже своего рода опыт. Она не сверхчувственное откровение, но она, вместе с картезианцами и Лейбницем, ставит нас лицом к лицу с частной, индивидуальной, живой реальностью, а, вместе с кантианцами, с отношением, столь же реальным, как чувственные явления, и отделимым от них лишь путем позднейшего и искусственного анализа. Согласно Канту мы в самом опыте открываем общие формы опыта; в известном смысл это, значит, данные опыта. Для картезианцев эта интуиция своего рода высший опыт, более прямой и непосредственный, чем чувственное восприятие. Научное познание основано на этих интуициях. И, может быть, с исторической точки зрения будет не слишком смело сказать, что интуиция первых истин есть у всех этих философов результат более или менее сознательного усилия, чтобы обеспечить непоколебимым образом научную истину.
Итак, объективность науки имеет своей гарантией или прямую интуицию объекта или же (когда утверждают вместе с Кантом относительность науки и ее бесповоротный разрыв с метафизикой) общие и необходимые интуиции, полагаемые духом и придающие их форму всем эмпирическим отношениям, т. е. всем нашим познаниям. В занимающем нас теперь вопросе мы можем отвлечься от этого различия (с которым мы встретимся еще ниже) и мы приходим к следующему заключению: вся череда рационалистических философов верит в объективность науки, но основывает эту объективность на внутреннем опыте, на данных, находимых при анализе субъекта. Субъект находит в себе наряду с абстрактными и общими идеями, которые он ощущает как субъективные, изменчивые и мимолетные, следовательно, как не имеющие субстанции и реальности, понятия, которые сопротивляются ему, которые принудительно навязываются ему, хочет ли он этого или нет, которые неизменны, всеобщи и, значит, необходимы. Эти понятия обладают, таким образом, всей той реальностью, которую способно приобрести человеческое познание, всей той объективностью, которой мы можем достигнуть: целокупной, метафизической объективностью – от Декарта до Канта – относительной объективностью, начиная с Канта.
Но, хотя объект и не один и тот же, дело идет всегда об объективности, основывающейся на внутренней интуиции.
4. Наряду с этой концепцией существует другая, порывающая гораздо более радикально с интуитивной спекуляцией и наукой схоластики. Почти все ученые, начиная с XVIII века, принимают эту концепцию, а эмпирические философы излагают ее существенные черты.
Все, что исходит от субъекта, в некотором роде производно и вторично. Это – копия, а не модель. Его гарантия не в духе, а вне духа. При анализе известных понятий привычка может заставить нас верить в неизменный, устойчивый, сопротивляющейся остаток, который не вытекает из опыта и который не есть простое совпадение ощущений; но здесь перед нами только результат привычки. Станем анализировать этот остаток, и вскоре он разложится на ряд следов, оставленных чувственным опытом. Путем некоторого ряда усилий и ухищрений можно было бы уничтожить эту привычку, заменить ее противоположной привычкой (Стюарт Милль). Разве это не доказывает, что мы могли бы отлично мыслить и иначе, что ничто в мысли не носит всеобщего и универсального характера? Где же гарантия в истинности наших заключений? Возможна ли при этих условиях наука? Не является ли скептицизм конечным выводом из подобного эмпиризма?
Этот вывод был бы скороспелым. Все, что существует в нашем духе, происходит из опыта: как то, что неизменно, устойчиво, что принудительно навязывается нам в качестве необходимой привычки, так и все остальное. Из этого следует, что неизменное, устойчивое, принудительно навязывающееся нам, как необходимая привычка, показывает, что опыт неизменен, устойчив и представляет необходимый порядок (Спенсер). Сам тот факт, что субъективный мир, не имеющий сам по себе никакой оригинальности, разделяется на две области – область иллюзорного, мимолетного, область сновидения и заблуждения, и область постоянного, реального и истинного, показывает, что в опыте существуют необходимые и всеобщие отношения. Данные в опыте последовательности и одновременности отражаются в нашем уме. Дело науки – анализировать их. Если бы то, что мы называем опытом, если бы совокупность наших представлений имела постоянно форму образов сновидения, то никакая наука не была бы возможна. Не было бы ни иллюзий, ни реальности; все было бы иллюзорно и все было бы также реально. Так как субъективное и объективное сливались бы тогда, то проблема объективности никогда бы не была поднята. Но, так как в нашем духе – верном образе вещей – вырисовывается нечто, носящее систематический характер, то тем самым (это – логическое заключение, неизбежное, раз приняты посылки эмпиризма) условия наших представлений и их отношения образуют систему, которую поставленный методически опыт сумеет нам мало-помалу раскрыть. Отсюда вытекает возможность физико-химических наук, как и возможность всякой науки вообще. И в то самое время, как ставится проблема объективности, она и решается, потому что науки могут существовать лишь, поскольку он объективны. Знание заключается в том, чтобы найти нечто объективное, т. е. чтобы заметить нечто, не зависящее нисколько от тех комбинаций, которые может устроить наше воображение и наша спекулятивная способность с помощью заимствованных нами из опыта элементов, но принудительно навязывающееся нам, даже вопреки нам, нашим желаниям, нашим усилиям, потому что опыт представляет это нам в таком виде, а не иначе.
Таким образом, в современной критике познания интуитивному значению слова «объективный» противостоит еще второе значение, эмпирическое значение. «Объективный» здесь означает: то, что дано в нашем опыте восприятия и что противится всякой попытке представить его нашим чувствам иначе, чем оно представилось в первый раз. Нечто внешнее представляется нам и, представляясь, принудительно навязывается.
5. Какого из этих двух значений придерживаются современные физики, когда они утверждают, что физика объективна? Анализируя их взгляды, нетрудно найти ответ на этот вопрос. Все современные физики признают объективность физики и все также признают, что эта объективность по существу эмпирического характера. Объективность физики заключается в совпадении выдвигаемых ею отношений с отношениями, находимыми в нашем чувственном опыте.
Так, Дюгем, принимающий, что теория есть целиком надстройка, созданная духом и присоединенная им к результатам опыта, утверждает, что все, идущее от духа, произвольно: формы мышления, категории – а из них он упоминает всегда только одну, принцип тождества и противоречия – играют роль лишь при возведении этой теоретической надстройки.
Но теория, построенная с помощью этих категорий и при непременном условии подчинения им (всякая теория должна согласоваться с принципом тождества и противоречия и с другими принципами – буде таковые есть – обосновывающими математическое доказательство) не имеет объективного значения сама по себе. А это значит, что, если теория может иметь какое-нибудь объективное значение, то оно будет дано ей не категориями духа и не интуицией. Все, что идет от духа, по неизбежности субъективно.
Действительно, объективное значение теория получает – разумеется, с логической точки зрения, а не с точки зрения психологического генезиса – благодаря совпадению результатов ее с результатами опыта. Объективное значение физической теории безусловно эмпирического порядка.
Можно было бы, правда, подумать, что логические категории включены в опыт и придают ему необходимость и ценность логического порядка. Но это совсем не так. Наоборот, вся та школа, которую можно было бы связать с именем Дюгема, не допускает, что вещи совершаются согласно логическим законам. Было даже указано, что все открытые эмпирически отношения первоначально резко расходились с требованиями разума, противоречили общим привычкам мысли и тому, что можно было бы вывести из них согласно общепринятым логическим принципам. Дюгем заботливо отличает то, что согласно с принципом противоречия, что можно утверждать во имя этого принципа, и эмпирические результаты. Те следствия, которые можно утверждать во имя принципа противоречия, субъективны и произвольны. Не может быть речи об их объективной ценности. Объективную ценность имеет лишь то, что дается опытом. Все, что выводится согласно с законами духа, может быть принято или отвергнуто в зависимости только от даваемого опытом ответа. То, что привносит с собою дух, не только не придает объективной ценности теории, но, наоборот, уничтожило бы всю ее объективность, если бы затем теория не возвращала ей объективного характера.
То же самое можно сказать и относительно Пуанкаре. Условный характер придает принципам физики (при чем не следует забывать всех ограничений, связанных с смыслом слова «условный» в философии этого ученого) исправление духом опытного отношения, подстановка некоторого, полагаемого духом, термина на место эмпирического данного. Поскольку термин этот удаляется от эмпирического данного, постольку он субъективен и произволен. И здесь то, что исходит от субъекта, искажает объективность теории. А объективность эта основывается на той огромной роли, которую продолжает играть опыт. Следовательно, объективность здесь эмпирического характера, а не интуитивного и рационального. Но тогда мы, несмотря на критическую противоположность доктрин, становимся на ту самую почву, на которую стала современная механическая концепция.
Следовательно, объективность физической теории имеет своим единственным источником опыт. Она – эмпирического порядка.
6. Не следует, впрочем, считать этот эмпиризм слепым и неразумным. Теперь не найдется ни одного человека, который стал бы утверждать, что «идея» не играет никакой роли в науке и должна быть поэтому изгнана. В этом отношении классическая аргументация Клод Бернара имела решающее значение. Все концепции, даже наиболее непримиримые механистические концепции – и, может быть, именно наиболее непримиримые механистические концепции – утверждают, что дух играет необходимую роль в теоретической физике. Ведь последняя начинает всегда с предвосхищения опыта, с гипотезы. Механисты, в частности Больтцман, когда они критикуют энергетику, опираются не только на право, но и на необходимость делать гипотезы, иметь предвзятые идеи, чтобы подвергать их потом проверке опытом и вызывать таким образом открытия. Успехи науки непосредственно связаны с ролью идеи, с той долей, которую дух имеет, и не может не иметь, в опыте. Механистическая концепция, если взять ее в ее гипотетических элементах (например, в учении об атомистическом строении материи), есть лишь совокупность идей, необходимых для прогресса физико-химических наук. И Больтцману нетрудно доказать, что в так называемых им «математической феноменологии» (которая по содержанию своему соответствует приблизительно систематизации Дюгема) и «общей феноменологии»2(энергетике Маха или Оствальда) мы имеем постоянно обращение к гипотезе.
Но что, как мне кажется, особенно характеризует все развитие теоретической физики во второй половине XIX века, что окончательно устанавливает эмпирическое значение объективности физики – это то, что роль духа, хотя она и необходима, все же субъективна. Она нисколько не напоминает роли интуиции в картезианстве или роли категорий в кантианстве. Она не придает никакой точной формы, никакой частной особенности опыту. Опыт сам по себе независим, абсолютно независим от мысли. Законы духа царят в области произвольного. Они имеют силу для комбинации наших представлений, которая сама по себе не заключает ничего объективного и необходимого. Вопрос об истине или заблуждении поднимается лишь тогда, когда начинают сопоставлять или целиком всю эту комбинацию, или результаты ее с результатами опыта. Будет ли дело идти о теории произвольного у Дюгема, или формуле удобного у Пуанкаре, или об экономии мысли у Маха, или наконец, о гипотезе механистов – все эти теории могут быть отличными от того, что они суть, и все-таки превосходно согласоваться с законами духа. Если он будут признаны, то вовсе не в силу каких-нибудь соображений, касающихся рациональной или априорной необходимости. Решающее значение имеет здесь опыт. Эти теории могли бы даже – будь это возможным, – нарушать то, что мы считаем необходимыми законами духа; они могли бы не согласоваться с требованиями субъекта. И все-таки – по воззрениям всех современных физиков – это не было бы основанием для отвержения их. Основание, заставляющее принять или отвергнуть их, должно быть исключительно опытного порядка.
Таким образом законы, свойственные духу, могут иметь значение для логики или чистой математики; но они не имеют никакой принудительной силы для физики. Они не обосновывают ничего в области физики; один только опыт может сказать здесь свое решительное слово. Все современные физики в один голос утверждают, что по отношению к физико-химическим наукам единственным критерием правильности теории является опыт. Дух, конечно, тоже играет здесь известную роль. Он идет навстречу опыту и, следовательно, законам природы (переворачивая картезианское положение). Но эту роль он может играть различными способами, – лишь бы только он ее играл.
– 1. Влияние философии на науку в позитивистском смысле.
– 2. Картезианская концепция физической науки: ее метафизический догматизм.
– 3. Традиционная механистическая теория является наследницей этой концепции, даже когда она выступает в качестве чисто опытного учения.
– 4. Современная физика прямо противоположна этой концепции. В ней нет уже места интеллектуальной интуиции: опыт есть мера истины. Это, однако, не значит, что современная физика более уже не рационалистична. Но разум существует здесь лишь как некоторое зависимое от опыта.
– 5. Релятивизм современной физики: в каком смысле следует понимать его.
– 6. Элементы в современной механистической теории: это уже не реальности, не положения; они определяются лишь с помощью отношений.
– 7. Общий взгляд на опытный релативизм современной физики.
1. Все современные физики единогласно признают объективную ценность физико-химических наук, понимая это выражение: «объективная ценность» в чисто эмпирическом смысле. Из этого вытекает новое следствие: объективная ценность физико-химических наук – феноменального порядка. В этом пункте влияние Кондильяка, Юма, а в особенности Канта и позитивизма, пропитало собой совершенно научный дух второй половины XIX века.
Здесь, может быть, один из тех пунктов, в которых можно лучше всего наблюдать прямое влияние на частные науки тех общих размышлений, которые составляют философию. Это действие бесспорно логически, потому что всякая философская система занимается лишь тем, что сначала анализирует, а затем синтезирует в весьма общих формулах интеллектуальные потребности, или, лучше, интеллектуальные требования, предъявляемые движением и необходимым развитием идей. Это действие – в случаях, подобных рассматриваемому здесь – бесспорно и фактически. Нельзя сказать, что философия здесь последовала за наукой. Нельзя сказать, что философия волей-неволей писала то, что диктовала ей наука, ибо исторически философский релятивизм и позитивизм предшествовали на полстолетия, и больше, научному релятивизму и позитивизму.
Разумеется, лишь благодаря размышлению над наукой и ее результатами – и в особенности благодаря размышлениям над наукой Ньютона, более положительного или менее реалистичного, чем бывшие когда-либо до него или в его время ученые – разумеется, лишь благодаря этому размышлению Беркли, Юм, Кондильяк сумели дать критику реалистического остатка науки Возрождения. И Кант был пробужден от своего догматического сна соединенным влиянием Ньютона и Юма. Но, если философы нашли при анализе науки и ее результатов основы релятивистической и позитивистической теории, то в сочинениях ученых они вовсе не нашли выражения или хотя бы указания на эту теорию. Надо было истолковать путем методического размышления над науками той эпохи природу научного рассуждения и ценность его результатов. Это истолкование было совершенно философским и по качествам тех лиц, которые занялись им, и по их диалектическому и отвлеченному методу. Построив философскую теории науки, пришлось затем указать ясно ее область и ценность, в то время как большинство ученых оставались еще – и должны были довольно долго оставаться – наивно догматическими.
Но и этим наивным догматизмом они обязаны были философам и картезианскому влиянию. Таким образом, весь этот вопрос о ценности науки есть иллюстрация необходимых, постоянных и огромных по своему значению и результатам влияний друг на друга науки и философии. И даже более, это – иллюстрация того необходимого, постоянного и огромного влияния, которое оказывает непосредственно общий философский дух на научный дух. Если можно сказать, что великая философская традиция постоянно вдохновлялась современной ей наукой и что величайшие философы были и учеными, то к этому следует прибавить, что благодаря обратному действию философия способствовала утончению общего духа науки, в особенности физической науки. Она дала истолкование ее, которое неявно содержалось в результатах, полученных учеными, но которое не было выявлено и ясно формулировано ни у одного из них. Она анализировала ту атмосферу, в которой живут ученые и которой, по большей части, они живут, не отдавая себе в том, отчета, подобно тому как люди живут воздухом. Благодаря этому общие исследования науки и научная критика, которые, согласно Канту, составляют собственно философию и которые в значительнейшей мере составляли ее всегда у великих философов, оказали и оказывают бесспорную и необходимую услугу наукам.
2. До середины XIX столетия безраздельно царила, если не говорить о некоторых, крайне редких, исключениях (при чем эти исключения никогда не были выражены ясным и систематическим образом) картезианская концепция ценности физической науки. Ее можно резюмировать в двух весьма простых положениях: если рассматривать вещи по поверхности, с точки зрения протяжения, то у физической науки те же границы, что и у природы. Если же рассматривать вещи в глубину, с точки зрения содержания, то физическая наука проникает до самой субстанции. Будь наука завершена, ученый был бы потенциально тождественен творцу. Он не имел бы творческого могущества; но он знал бы до мельчайших подробностей все причины творения. Он обладал бы тем же самым знанием, если не тем же самым могуществом. Dum Deus calculat, fit mundus; и законы этого божественного исчисления формулируются Лейбницем. Для Ньютона время и пространство – атрибуты божества; и Ньютон думает, что он установил абсолютные принципы науки о времени и пространстве. Пойдем дальше, до настоящих картезианцев. Достаточно здесь назвать Спинозу и заметить, что, если, по словам Декарта, Бог сохраняет мир тем же самым актом и тем же самым способом, каким он создал его, то можно сказать и обратно, что Бог создал мир тем же самым актом и тем же самым способом, каким он сохраняет его. Но, согласно Декарту, наука точно указывает все те законы, благодаря которым сохраняется вселенная.
Философы, правда, различают сущность и существование, законы сущности и законы существования. Но надо ли указывать, что для них – в противоположность Аристотелю и философии качества и невыразимости индивида – существование есть лишь частный случай, лишь ограничение сущности. Даже для Лейбница, – ибо бытие представляет собой механизм в его мельчайших частях.
Отсюда следует, что наука может превзойти реальное, а не, обратно, реальное науку. Ведь наука может достигнуть сущности: это ее роль и ее определение. Наука имеет перед собой все поле возможностей. Если в мире есть место для случайного, то потому лишь, что не все следствия из принципов науки были осуществлены. Это случайное не мешает тому, чтобы весь мир был доступен нашей науке. Оно, может быть, мешает тому, чтобы мы a priori приняли, что все следствия из принципов осуществлены (а для Спинозы и это является спорным). Но оно предполагает фатально, что все реально и все реальное выводятся из сущностей, ясным и отчетливым уразумением которых является наука.
Если же мы покинем поле философии для науки, то мы увидим, что вопрос о различии между сущностью и существованием даже не ставится более. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть научную часть произведений Декарта, размышления Эйлера или Гюйгенса, а затем работы всех механиков и физиков XVIII века и первой половины XIX века, в особенности работы Лагранжа, Лапласа, Пуассона и пр.
Механик или физик – будет ли он сторонником непрерывного заполнения пространства или же сторонником атомистического учения с его допущением пустоты, примет ли он гипотезу вихрей в первоначально однородной жидкости или же столкновения мелких масс в пустом пространстве – всегда думает, что с помощью своей гипотезы он поднимается до принципов, которые являются необходимыми и достаточными условиями физической вселенной. Границы физики – это границы природы.
Нетрудно увидеть интимную связь этого догматического решения вопроса о ценности физической науки с догматизмом метафизических теорий познания вообще.
На чем основывается эта концепция об адекватности между наукой и реальностью, как не на концепции об адекватной идее и об интеллектуальной интуиции?
3. Ученые не догадываются об этом: все они считают себя добросовестными наблюдателями и экспериментаторами. Традиционный механист первой половины XIX века, возможные последователи его в настоящее время, все они энергично запротестовали бы, если бы на них стали смотреть, как на метафизиков, если бы им стали говорить об интуитивном интеллекте. Все они считают себя верными истолкователями опыта, и только этим и считают себя. И, однако… нужна была вся работа критики XVIII века, нужна была работа Канта и Конта, чтобы показать, что эмпиризм неизбежно ведет к релятивизму.
Когда физики-механисты формулировали свои гипотезы, то они говорили об опыте, они воображали, что никогда не выходят из рамок его. Разве они не занимались тем только, что восходили от следствия к принципам, что анализировали опытно данную реальность? И когда, таким образом, они приходили к вихрям или атомам, к принципам Галилея или Ньютона, к центральным силам, то что могло заставить их думать, что они выходят из границ опыта? Придя к этим основоначалам, они думали, что держат в руках нити, через посредство которых зарождаются, движутся и исчезают явления. Они исходили из эмпирической интуиции; им казалось поэтому, что они не выходили из ее области. И им казалось, что их уверенность, их догматизм покоятся на опыте. В действительности же эмпирическая интуиция попросту превратилась в интеллектуальную интуицию. Эти мнимые конечные результаты экспериментального метода они видели в своем уме, при свете картезианского разума. Они не заметили того, что на место опытных связей и детерминизма вещей стал рациональный механизм и дедуктивная связь идей. Желая оставаться эмпириками, они – сами того не зная – стали картезианцами, ибо представления у них уступили мало-помалу место чистым понятиям. В сущности, единственной гарантией первых принципов, служивших основой физики, была рациональная интуиция.
Если резюмировать в грубых чертах эту интуицию, то она сводилась к вере в простоту и симметрию естественных явлений, понимая эти термины: «простота» и «симметрия» в абсолютном смысле. Свойственные духу требования ясности и отчетливости сами по себе объективировались, и реальность – не отдавая себе отчета в том – стали понимать, как кристаллизацию логических понятий. Этим объясняется глубокое согласие между механизмом и рационализмом в XVII, XVIII и в течение всей первой половины XIX века. Курно – хотя он и испытал влияние Канта и философской критики XVIII века, хотя он и почувствовал глубоко всю сложность реальности – является еще представителем этой концепции, как бы сливающей в одно нераздельное целое рациональную интуицию и экспериментальную интуицию. «Рациональный порядок зависит от вещей, рассматриваемых сами в себе… Идеи разума и сущность вещей могли бы пребывать в интеллекте, который имел бы отличное (от нашего) психологическое сложение».
По существу в научной практике остались значительные следы того умонастроения, которое породило философию понятия, а затем – правда, в виде сильной реакции против последней – картезианский догматизм. Идея, как эмпирическое представление, это восприятие объекта. Понятность – это своего рода опыт. Между чувственным опытом и опытом интеллектуальным есть непрерывность, тождество.
4. От этой-то концепции и отказался – по-видимому, навсегда – современный дух физики.
Это не значит, что она – как весьма часто утверждали – окончательно разрывает с рационализмом. Все физики, даже и энергетисты – концепции которых можно было бы легче всего истолковать в иррациональном смысле – признают, что физическая теория должна, прежде всего, быть верной формальным принципам мышления и особенно принципу противоречия. Всегда можно рационально объяснить опыт: таков постулат теории познания этой физики. Для нее опыт прежде всего понятие. Наука продолжает желать удовлетворения нашего разума. Но разум потерял свой прежний реалистический и объективный смысл. Разум уже более не мера вещей, не интуиция реальности (как определял его еще Курно). Он более не независим от психологического сложения. Ничто не побуждает придавать ему абсолютного значения.
Разум – это орудие познания, созданное, вероятно, и во всяком случае выкованное и усовершенствованное эволюцией, – эволюцией, т. е. подбором и приспособлением, потребностями действия, понимания, взаимного сообщения. Рациональные принципы необходимы и для связного синтеза Дюгема, и для экономии мышления энергетики, и для формулы об удобстве Пуанкаре, и для учения об адекватности опыту современных механистов.
И концепция эта является прямым наследием философской критики познания, нападок Юма и эмпиристов против интеллектуальной интуиции. Эта критика изменила глубоко дух современной физики.
5. Современная физика уже не думает, будто она в состоянии построить систему, сопротяженную с физической вселенной. Она уже не думает, будто она в состоянии достигнуть реальности, и не только в силу психологических или метафизических оснований, которые выходят из сферы ее компетенции, но в силу чисто физических и экспериментальных оснований, которые одни только и занимают нас здесь. Современная физика уже не думает, будто в один прекрасный день она будет в состоянии сказать: «вот система физической вселенной»; вдохновляясь одним только опытом, она не может знать, все ли физические действия могут быть даны в нашем опыте. Неизвестные и недоступные прямо нашим чувствам действия раскрываются перед нами благодаря косвенным последствиям из определенных опытов. В эмпирической системе список этих действий должен всегда оставаться незакрытым. Его можно было бы закрыть, лиши приписавши человеческому разуму способность проникнуть до первых принципов, до всех первых принципов и следствий. Поэтому наша физическая систематизация останется навсегда неполной систематизацией; открытым, а не замкнутым, циклом. В то время как для картезианца наш реальный мир был лишь частным случаем мира, построенного наукой, для современного физика наши теории охватывают всегда лишь частные случаи реального мира. Реальность переливается через них со всех сторон. И физические теории развиваются, видоизменяясь, дополняя друг друга, объединяясь, все более и более сжимая своим кольцом реальность, не имея, однако, надежды быть в состоянии утверждать когда-либо, что они заключают ее в себе целиком3.
Но если мы не в состоянии проникнуть до первых принципов, если даже механистическая концепция в настоящее время рассматривает принципы как принципы относительные, доступные пересмотру, дополнениям, ограничениям или новым расширениям, то отсюда следует, что мы не в состоянии проникнуть до последних элементов действительности. Из того факта, что физическая теория будет всегда относительной, вытекает, как следствие, на почве опыта, что она никогда не сможет признать какой-нибудь результат опыта за последний член исследования. Учение об абсолютной и простой единице, из которой физическая вселенная составляется путем простого сложения, учение об атоме и однородной жидкости, этой универсальной модели всякого материального существования – все это представляет собою орудия познания, могущие фигурировать лишь в музее исторических древностей.
Пусть опыт откроет нам когда-нибудь непосредственно зернистое строение материи, или вернее, некоторых физических реальностей – и все-таки «неделимый» атом прежних физиков не будет нами рассматриваться как неделимый, как непреходимый предел; он будет элементарным лишь для наших наличных средств исследования. То же самое можно сказать и об однородности той универсальной среды, из вихрей которой образуются видимые частицы материи. И, действительно, современные физики, химики и, в особенности, физико-химики – даже и не имея еще прямого доказательства зернистого строения материи – принимаюсь, что единство зернистости – относительно. Под давлением опыта и теории, относящихся к электричеству, мы начинаем рассматривать и атом, как нечто, подобно молекуле, сложное, и притом гораздо более сложное. Это целый мир, в сравнении с которым наша солнечная система весьма проста. Кроме того, масса (недавно еще считавшаяся самым существенным элементом нашего представления о материи, становится, по-видимому, функцией других, более основных, представлений, – в последнем счете, согласно чисто кинетической теории, вероятно, движения.
Но здесь нужно предупредить возможное недоразумение. Если школы, отказавшиеся от механистической концепции, утверждают со всей желательной ясностью, что физика ограничивается лишь установлением отношений между элементарными данными опыта, то механистическая концепция основывается, по-видимому, в последнем счете, на рассмотрении реальных элементов. Не противоречит ли это предыдущим заключениям? И если принять в расчет, что огромное большинство физиков придерживается механистической концепции – настолько, что Больтцманн мог называть все остальные школы сецессионистскими – то ясно, что невозможно пройти мимо этого вопроса, не разобравшись в нем.
6. Чтобы устранить это противоречие, достаточно придать слову «элемент» совершенно новый, релятивистский смысл.
Элемент, данное опыта, или предполагаемое данное опыта, если дело идет об элементе, существование которого еще гипотетично, тождествен со всеми другими данными опыта. Он – элементарное явление, методологически аналогичное всем другим явлениям, более простое, чем они – и все. Он, следовательно, отношение. Это, в частности, хорошо выяснил Ганнкен по вопросу об атоме4. Это же утверждает – как мы только что указали – все современные физические концепции атома. Атом – относителен, он образное представление некоторого опытного отношения. Легко видеть, что таким же точно образом будут понимать в настоящее время силу – в особенности центральные силы, роль которых была так значительна в ньютоновской физике – и что таким же точно образом понимают картезианские вихри, воскресшие в теориях Гельмгольца и лорда Кельвина.
Следовательно, если механистическая концепция удерживает элементы, например, движение – и на примере движения лучше всего наглядно выяснить смысл слова «элемент» – то она их определяет через посредство отношений; элемент имеет лишь значение, придаваемое ему этими отношениями. Он не имеет иной объективности. С современной физикой мы повсюду находимся в области отношений. Физика не знает материи в метафизическом смысле слова, и то, что механистическая концепция понимает под материей, это не реальная и последняя субстанция, это – синтез наиболее общих, наблюдаемых в опыте, отношений, это – некоторое данное опыта, т. е. совокупность отношений.
Пуанкаре в своей книге о «Ценности науки» для характеристики периода, который только что прошла физика и в котором, впрочем, согласно ему, мы еще находимся, употребляет выражение: физика принципов. Принципов, – следовательно, непременно отношений, ибо принцип не может быть ничем иным.
Следовательно вся физика основывается на отношениях. И если этот ученый предвидит другой начинающейся период – предвестником которого как бы является кинетическая теория газов – то он представляет собой не возврат к механистическому реализму, но движение вперед по направлению к релятивистическому эмпиризму, ибо он знаменует торжество современной механистической концепции, целиком пропитанной эмпиризмом и релятивизмом.
Итак, современную физику можно определить, как совершенный феноменализм или позитивизм в том смысле, какой придавали этим словам Стюарт Милль или Конт. Ее нельзя было бы определить так в тот момент, когда эти философы определяли феноменализм и позитивизм по трудам и идеям современных им физиков. В этом пункте философия самым определенным образом предвидела и предвосхитила дальнейшее движение науки.
7. Для современной физики мир, в конечном счете, сводится к ощущениям или, правильнее (в виду неопределенности понятия об ощущении), к представлениям внешнего восприятия. Объект физики – это отношения, определяющие эти представления. Что же касается свойств, составляющих качественно каждое из них, что касается вопроса о том, чем были бы (пользуясь психологической терминологией) сами по себе ощущения, дающие в своих синтезах и отношениях эти восприятия – то этим современная физика вовсе не интересуется.
Следует, действительно, заметить, что позитивизм и феноменализм физики имеют (как это и нужно было ожидать от научной концепции) более полный и точный смысл, чем философский позитивизм и феноменализм. Если философ и предшествовал ученому, то путем крайне общего и неопределенного предвосхищения. Ученый придал более конкретный и точный смысл утверждению философа. Он дополнил его и ярко выдвинул вперед. Действительно, позитивизм утверждает лишь то, что мы не можем познавать абсолютное, ибо мы замкнуты в сфере наших состояний сознания, наших ощущений, ибо последние зависят столько же, если не более, от строения нашего духа, сколько и от строения вещей (предполагая, что вещи существуют независимо от духа). Он прибавляет еще, в качестве неизбежного вывода, что все, что мы знаем, не есть объект, но отношение субъекта к объекту.
Современная физика принимает оба эти утверждения – и невозможность полного познания и ограничение нашего познания отношениями. Но эти утверждения следует понимать здесь в более позитивистском и более экспериментальном смысле, чем при их философском признании. Современная физика утверждает, что то, что мы рассматриваем, как элементарные репрезентативные единицы, может быть определено лишь через отношения. Слово «абсолютный», употребляемое в выражениях, вроде: абсолютная температура, абсолютное движение, абсолютное время и пр., означает лишь, если анализировать эти выражения, неизменное, необусловленное и необходимое отношение, – но все-таки отношение. Иначе говоря, всякий опыт устанавливает отношение, и может установить только его, ибо всякий опыт есть измерение.
Нельзя не заметить мимоходом, насколько согласуется эта точка зрения физики с самыми последними выводами психологии познания. Согласно также и этой последней ощущение есть то, чем оно является нам, чем мы его знаем, лишь благодаря его многочисленным отношениям к предшествующим, сопутствующим и последующим состояниям. Оно может быть определено, в свою очередь, лишь в функции этих отношений.
Итак, элементы всякой физической теории, какова бы ни была рассматриваемая школа, сводятся к отношениям. И в механистической теории гибкое и обратное представление есть лишь конкретизация с помощью данных восприятия наиболее общих отношений, принципов.
Опыт, доступный всегда проверке и поправкам, всегда двигающийся вперед, – физика, рассматриваемая, как функция опыта и, следовательно, в любой момент относительная к этому опыту: такова картина современной физики.
– 1. Парадокс: физика желает быть лишь копией опыта, а между тем никогда гипотеза не играла такой значительной роли.
– 2. Дело в том, что гипотеза и свобода гипотезы представляют существенный момент экспериментального метода и характеризуют позитивистскую точку зрения по сравнению с донаучной, догматической точкой зрения.
– 3. Двоякая роль гипотезы в современной физике. Она не только орудие открытия, но и средство, к которому приходится обращаться при современном положении вещей для установления основ физических теорий.
– 4. Эволюция теоретической физики: прежде согласие было насчет общих вопросов, а разногласие насчет частностей. Напротив, в последовательном экспериментализме современной физики мы наблюдаем согласие насчет частностей, а разногласие насчет общих вопросов.
– 5. Следовательно, в физической науке есть неизменный, неуничтожимый экспериментальный остаток, который непрерывно возрастает.
1. Если все предыдущее верно, то можно сказать, что физика со времени Возрождения развивалась в направлении все большего экспериментализма. В настоящее время она, по-видимому, достигла конечного пункта этой эволюции. Она стала в полнейшем смысле слова положительной наукой.
Из физики исчезли горделивые конструкции, диктовавшие свои условия опыту, исчезло все то, что может напоминать априоризм или необходимость, отличающуюся от эмпирических совпадений. Ничто не способно теперь удивить физика, лишь бы это было дано в опыте. Физик привык высказывать свои утверждения лишь на основании опыта и готов принять от него указания, которых он даже не подозревал или против которых он восстал бы из всех своих сил. Поэтому частные гипотезы, механические и временные модели, вырастают во все большем количестве насчет обширных и преждевременных систематизаций.
Физико-химические науки представляют в настоящее время картину специализации, кажущуюся даже иным ученым чрезмерной и опасной5.
Каждый ученый облюбовывает лишь небольшую часть сферы науки и выставляет свои гипотезы и научные конструкции, не заботясь особенно о представляемой целым картине. Случается, как мы видели, что теоретические построения и гипотезы могут привести к противоречивым следствиям. Философы часто пользуются этим как аргументом против объективности и ценности физического знания. Физики же мало думают об этом. Они рассчитывают на позднейший опыт, благодаря которому удастся или устранить одно из противоречивых положений или раскрыть – путем создания более общей теории – что противоречие было лишь кажущимся.
Эта вера в опыт, с одной стороны, относительность и тесные границы нашего настоящего опыта, с другой, повели к тому важному и, на поверхностный взгляд, парадоксальному заключению, что гипотеза играет все растущую роль в физике. Никогда еще не считались так тщательно с фактами, как теперь, и никогда в то же время не оставляли столько простора для предвосхищающих опыт догадок. Теперь экспериментируют всегда для проверки какой-нибудь гипотезы, а гипотеза есть существенный момент экспериментального метода.
2. Пока ученые оставались верными методу интеллектуальной интуиции, теоретические конструкции для их авторов (а часто и для современной им эпохи, если брать лишь построения, встретившие сочувствие у огромного большинства физиков) не были гипотезами. Некоторые части их могли признаваться гипотетическими, но основные черты казались имеющими окончательное значение. История традиционной механистической концепции является хорошей иллюстрацией этого. Каждая эпоха характеризовалась какой-нибудь господствующей формой механистической теории, и форма эта всегда рассматривалась, как имеющая абсолютную ценность. Если Ньютон сказал свое «Hypotheses non fingo», то он имел в виду картезианскую гипотезу и не догадывался, что закладывал основы другой гипотезы, – гипотезы центральных сил. С точки зрения его догматизма эта гипотеза была выражением самой действительности; она вовсе и не была гипотезой. То же самое мы заметим впоследствии и у тех ученых, которые будут утверждать, что понятие о силе темно. Они не имеют конкретного представления силы; следовательно, оно гипотетично. Наоборот, движение, столкновение материальных масс представляются им ясными понятиями и чем-то данным эмпирически. И они отвергают понятие о силе, становясь на точку зрения кинетического атомизма, всегда во имя того, чтобы не сочинять гипотез. Мы вправе поэтому сказать, что в этих физических теориях, где все, с нашей теперешней точки зрения, есть гипотеза, место, которое сознательно хотели предоставить гипотезе творцы этих теорий и их ученики, было крайне ничтожно. Гипотеза была для них и их метода чем-то случайным и второстепенным.
Если вдуматься в это, то мы заметим, что это было логическим следствием того взаимопроникновения интеллектуальной и эмпирической интуиций, которое, по-видимому, характеризовало метод прежней физики в середине XIX века. Физики имели тогда неразрушимую веру во всякую простую, ясную, отчетливую идею; рациональная очевидность была для них бессознательным критерием истинности и действительности. Поэтому они и не могли представить себе какого-нибудь предела для системы, раз она была основана на простых, ясных и отчетливых идеях. При их уверенности в основах теории гипотеза не могла иметь большого значения в развитии науки. Она играла лишь подготовительную роль в воображении ученого по поводу какого-нибудь частного исследования.
3. Такие притязания оказались, однако, несовместимыми с сознательным и точно определенным экспериментализмом. Опыт должен оставлять открытый простор для дальнейших изысканий. Следовательно, область гипотезы практически беспредельна. Если к этому прибавить, что, вероятно, нельзя считать полученные до сих пор результаты особенно значительными по сравнению с тем, что остается еще получить, то легко понять, какую роль и место занимает гипотеза в современной физике. Она является существенным элементом ее в двояком отношении: с одной стороны, наука может двигаться вперед, лишь формулируя гипотезы и вызывая исследования, необходимые для проверки их; с другой же стороны, при современном состоянии науки большинство положений ее – и особенно общих положений – может быть только гипотезами.
На этом последнем пункте следует остановиться несколько долее, ибо здесь опять-таки мы встречаем прямую противоположность между духом старой и духом новой физики.
Схоластическая физика имела притязания достигнуть прямо тех общих положений, из которых выводилась вся система природы. Против этого притязания восстала физика Возрождения; она, однако, имела достаточно веры в наш естественный разум, чтобы утверждать, что мы в состоянии достигнуть самой природы вещей. Эта природа вещей для нее уже не существенное свойство, охватывающее все частные свойства; это – факт, который находится во всех других фактах и который, складываясь сам с собой, воспроизводит их.
Этот основной факт дух замечает прежде всего, ибо он проще, чем все другие факты, а, раз он замечен, то физическая проблема сводится к следующему: найти, как другие факты вытекают из основного факта, воссоздать другие факты с помощью его. Для этого достаточно применить здесь общие правила математического доказательства, с помощью которых из уже известных элементов находят решение еще неразрешенных вопросов. Традиционная механистическая концепция, благодаря уже одному тому, что она основывается на очевидности простого отношения, этого ключа к своду физической теории, не сомневается и не может сомневаться в основах своих теории.
Теперешняя физика отказалась от всего этого. Она принимает, что наши первые открытия относятся, действительно, к крайне простым фактам; благодаря их простоте и удалось формулировать законы. Она принимает также, что эти законы играют очень важную роль в физике, потому что, благодаря обобщениям и приспособлениям их, удалось поднять обширнейшие участки поля физики. Но прошлый и будущий опыт являются единственной гарантией правильности этих обобщений и приспособлений. Из этого следует, что они не считаются больше окончательными, неизменными; они способны развиваться в качеств гипотез, которые – какими бы основными они были – непрерывно уточняются, дополняются, улучшаются.
Они, значит, всегда могут быть пересмотрены и ограничены. Нельзя отрицать того, что открытия эти – благодаря самой простоте их, которой они обязаны своим приоритетом перед другими открытиями – находятся в привилегированном положении. Они образуют особенно устойчивую область физики. Но никто ныне не думает, что эта область есть вся физика. В ней видят, наоборот, лишь совокупность необходимых условий, которых ничто не заставляет нас считать достаточными. Это очевидно в случае с Дюгемом: для него основные факты классической механистической концепции представляют основы частичной теории физики, теории самых простых или, вернее, самых упрощенных явлений. Это очевидно и в случае с Махом, который желает лишь систематизировать наипростейшим образом опыт и который всегда готов допустить новые принципы для новых фактов. Это очевидно также в случае с Пуанкаре, который полагает, что применение общих принципов может всегда быть ограничено новыми опытами, для объяснения которых недостаточны эти принципы и нужны другие.
Но это верно также и для современной механистической концепции. Она, правда, признает, что те простые отношения, в которых прежняя механистическая теория видела необходимые и достаточные условия объяснения природы, должны оставаться в этом объяснении. Но они составляют лишь или часть, и даже производную часть его, или же крайне общие, следовательно, крайне гипотетические, неполные и неопределенные черты его. Механистическая концепция предполагает, что тот способ, каким они были получены в опыте, является гарантией их устойчивости. Но исповедуемый ею эмпиризм запрещает ей видеть в этом что-нибудь иное, чем догадку, особенно пригодную для современной совокупности опыта, и запрещает видеть в этой догадке что-нибудь иное, чем простое начало: начато дело хорошо, но еще важнее хорошо продолжать его. И физиономия физики, если будут продолжать таким образом, должна будет измениться.
Иными словами, те элементы, которые старая физика, представленная традиционной механистической концепцией, считала особенно достоверными, новая физика считает гипотетическими. И считает она их такими именно в виду приписываемой им основной и общей роли. Того же взгляда придерживаются и современные механисты, хотя они гораздо больше, чем представители других школ, верят в эти гипотезы.
Основы, принципы, общие положения физики считаются теперь – в согласии с духом господствующего эмпиризма – менее достоверными, чем частные законы и факты.
4. Все современные концепции физики настаивают на одном, неизвестном или же едва замеченном классической физикой, факте: на эволюции теоретической физики. Но эволюция теоретической физики понятна лишь в том случае, если основы теории не установлены непоколебимым образом, – по крайней мере, во всех их подробностях. Теория может эволюционировать лишь тогда, когда она заключает в себе гипотезу.
Теперь мы понимаем, почему современные физические теории, как только они отходят от частных явлений, становятся крайне гибкими и пластичными, – мы понимаем, почему они скорее касаются поверхностно явлений, чем стремятся углубить их. В современной физике всякая общая теория действует путем общих указаний. Показывают возможность теории, как в «Трактате по электричеству» Максуэлля. Остерегаются дать полную и конкретную разработку ее. Стараются, одним словом, найти то, что – несмотря на неизвестность будущих опытов – может быть предположено в силу опытов прошлых. И огромная доля этой неизвестности заставляет неизбежно прибегать к весьма неопределенным общностям и к очень поверхностной систематизации.
Роль, играемая теперь гипотезой, характеризует не только современную физику, но и встречающееся в различных школах различие точек зрения. До тех пор, пока можно было думать, что основы физики установлены непоколебимым образом, не могло быть места для расхождений по вопросу о принципах. Физики спорили между собой по поводу частностей, а не общих проблем, и если какие-нибудь частные открытия, как, например, в теории теплоты или света (гипотеза теплорода и истечения) вызывали среди физиков разногласия, то эти разногласия касались лишь частной формы теории по частному же пункту, и эпоха позднейшая была столь же единой, сколько и предыдущая эпоха. Споры никогда не касались всей совокупности физики; ее видоизменяли в отдельных пунктах, рассматривая эти видоизменения, как специальные видоизменения, ни в чем не затрагивающая perennis physica. Тогда существовала традиционная физика.
Теперь, наоборот, думают – и это логически вытекает из предыдущего – что согласие возможно в частных вопросах, ибо эти вопросы могут быть решены опытом. Но что касается общих теорий, то здесь должна иметь место величайшая свобода и терпимость, ибо эти теории могут быть лишь гипотезами. Эта свобода гипотез повлекла за собой неизбежно во всей области обобщений, т. е. во всей теоретической физике, разногласия школ. Эти разногласия имеют свой raison d'tre в том, что общая физика рассматривается вполне сознательно, как гипотетическая физика. Теперь мы знаем цену той критики объективной ценности физики, которая основывается на этих разногласиях. Эти последние затрагивают не содержание физики, но предвосхищения опыта в области, особенно далекой от единственного источника нашего знания. Не из уважения ли к теоретической ценности физики, к ее ценности, как знания, тщательно провели разделение между объективностью опыта и субъективностью гипотез? И не это ли объясняет многообразие, противоположность, противоречие гипотез? Можно было бы сказать без тени парадоксальности, что никогда не была так достоверно и ясно установлена объективная ценность науки, никогда она не была так достойна нашего доверия, как теперь, когда в области теоретической физики наступила эра полнейшего разногласия мнений. Это показывает, действительно, ясное и отчетливое понимание того, что реально и что гипотетично, что верно и неверно, объективно и субъективно, дано и создано.
5. Прогрессивная эволюция физики, проведя это разделение, установила в то же время, благодаря единодушному согласию всех физиков, наряду с сферой гипотетическою, части постоянные и окончательные. Это опять-таки следствие того цельного эмпиризма, который характеризует современный дух физики. Если опыт есть собственная гарантия самого себя, если нет иного критерия истинного и объективного, помимо опыта, то ясно, что при всех изменениях физики в будущем должны все-таки сохраниться нетронутыми сырые результаты опыта (разумеется, произведенного правильно), и должны, понятно, сохраниться со всеми предосторожностями и поправками экспериментального метода и также со всеми оговорками, вытекающими из ограниченности наших экспериментальных приемов. И в этом пункте все физики согласны между собою. Экспериментальная физика – это неподвижный центр, на который не влияет никакое изменение теории, никакое видоизменение толкования. Завтрашняя физика застанет все наши опыты (правильно произведенные) и вынуждена будет строго согласоваться с ними, как и нынешяя физика.
Поэтому надо отказаться от формул, вроде: «опыт завтрашнего дня может оказаться противоречащим опыту сегодняшнего дня». Нет, на той почве, на которой желает остаться наука и на которой мы вынуждены следовать за ней, завтрашний опыт не может вступить в противоречие с сегодняшним опытом. Он может показать, что опыт был плохо произведен, но, найдя путем нового опыта причину ошибки, он не только не ослабляет значения экспериментального критерия, но, наоборот, подтверждает его. Он дает ему все необходимое для борьбы со скептицизмом. Два противоречащих друг другу опыта – это два опыта, для которых мы не знаем одного из существенных условий опыта. И их противоречие побуждает нас отыскивать его. Метод остатков есть на практике лишь постоянная иллюстрация этого замечания.
Трудно найти что-нибудь менее честное, чем критика, избирающая объектом своего нападения тот факт, что экспериментальный метод оперирует средними, что он произвольно исправляет опыты во имя мнимых ошибок опыта, что всякий опыт как бы фальсифицирован благодаря самому методу ученого. Но меж какими пределами колеблются эти поправки? Все, что можно заключить из них, это что наши инструменты и наши чувства не совершенны, что нашей технике есть еще над чем поработать, и что это изменит полученные результаты лишь крайне ничтожным образом. Разве выведенная из опыта средняя не имеет столько же значения для установления и измерения отношений двух явлений, сколько и опыт, произведенный с бесконечно более точными инструментами? Работа здесь более продолжительна и более трудна, но она имеет ту же объективность. Этот аргумент так же софистичен, как и аргумент от мнимых противоречий опыта. Нет такого физика, который усомнится – как в настоящее время, так и в будущее – в результатах методически разобранного опыта.
– 1. Проблема, вытекающая из тесной связи между теоретической и практической частями в современной физике.
– 2. Ее разрешение: методологическая концепция физической теории.
– 3. Физическая теория есть методологическое орудие в двояком смысле: в целях выражения, систематизации, и в целях открытия.
– 4. Новый вид физики, рассматриваемой под этим углом зрения.
– 5. Следствие: не следует разбирать гипотетических элементов физических теорий с точки зрения их объективности; это было бы метафизикой, а не физикой. Надо ограничиться анализом их экспериментальной роли.
– 6. Возможное недоразумение; как избежать его.
– 7. Физическая теория систематизирует опыт, чтобы продолжить его, ибо, чтобы она могла быть полезной, она должна опираться на добытых экспериментально результатах.
– 8. Современное многообразие физических теорий и идеальное единство, к которому они тяготеют. Если физическая теория есть метод, то легко понять, почему физические теории многообразны и различны.
– 9. Понятно также, почему, несмотря на это многообразие, остаются нетронутыми единство и объективность физики.
1. Если бы было легко решить вопрос о том, что является результатом опыта и что привносится теорией, то проблема объективности физической науки была бы тем самым сразу порешена. Но здесь имеется особое затруднение: все физики единогласно утверждают, что различить оба эти вида элементов можно лишь путем искусственного и в известной мере произвольного анализа. В реальной, конкретной науке они перемешаны между собой во все моменты ее развития.
Все физики-механисты признают в настоящее время гипотезу за составную часть физико-химических наук, примешивающуюся ко всем их операциям и оставляющую повсюду некоторый остаток. Физики-практики, работающие в лабораториях, которые должны были бы быть особенно враждебными этой точки зрения, в действительности поддерживают ее самым энергичным образом6. Физики, занимающее критическую позицию относительно механистической концепции – как, например, Пуанкаре – показывают, что опыт всегда переплетается с теорией, продолжающей его7. Наконец, энергетика вместе с Дюгемом устанавливает строго, что всякий опыт предполагает теоретические элементы, что всякий экспериментальный результат требует вмешательства разума.
Но если это так, то не существует ли непримиримое противоречие между этой новой концепцией и предшествовавшими ей теориями?
Как возможен тот парадоксальный факт, что современные физики утверждают с равным авторитетом и равным единодушием, с одной стороны, что наука их объективна благодаря своей связи с опытом, а, с другой, что опыт никогда не независим от теоретических и субъективных концепций?
2. Так как они утверждают одновременно оба члена этой антиномии, то надо пытаться выйти из противоречия, поднявшись на такую точку зрения, с которой возможны оба утверждения.
Какую роль играет в науке теоретическая часть? И раз она не складывается механически с экспериментальной частью, а внутренне соединяется с ней, то как может она соединяться с ней, не искажая ее? Решение заключается в следующем: теория представляет по существу метод. Она переплетается с экспериментальными результатами, она находится в них точно таким же образом, каким известный объект – в той или иной форме – носит на себе след того орудия, с помощью которого он был изготовлен. Единство теории и экспериментального результата – это не единство соединения, в котором в беспорядке перемешаны между собою составлявшие элементы. Это не единство положения, не статическое единство. Это динамическое, функциональное единство. Физическая теория есть один из фактов экспериментального изыскания. Она – орудие.
Рассматриваемая таким образом теория не субъективирует опыта, не отнимает у него его постоянства и истинности. Опыт, наоборот, объективирует теории, вливая в нее мало-помалу ту же степень достоверности, которой обладает он сам. Ибо, если какая-нибудь теория преуспевает, если она оказывается полезной, плодотворной, «удобной», как охотно выражаются некоторые физики, если она по истине производительна, то потому, что она имеет сродство с эмпирически-данным, что она приспособляется к нему, что она недалека от абсолютного слияния с ним, что она более адекватна, более истинна во всем значении слова «истинный». Теоретическое исследование совершается сперва в полном согласии с экспериментальным исследованием, которое оно толкает на дальнейшую работу. Но затем оно сливается с ним еще более глубоким и реальным образом. В экспериментальном результате остается всегда кое-что от теории, кое-что неразрушимое и окончательное, и остается не потому, что теория искажает его, но потому, что, послужив для получения его, она способна также и выразить его. Не все умирает в орудии научной работы. В нем умирает то, что было в нем субъективного и произвольного; остается то, что объективно и необходимо, что согласуется с проверенным опытом, составляющим теперь одно целое с ним.
Таким образом, теория играет в современной физике по существу методологическую и эвристическую роль. Физик пользуется ею в своих изысканиях как орудием, позволяющим ему упреждать современное положение физических знаний, предвидеть результаты какого-нибудь опыта, вызвать условия, при которых он обнаружится. Опыт, говорил Декарт, служит для того, чтобы с помощью следствий идти навстречу причинам. Эту фразу можно было бы передать следующим образом: опыт служит для того, чтобы с помощью чувственной интуиции идти навстречу теории, рациональной интуиции. Утверждение, обратное этому предложению, представит довольно точно теорию физической теории согласно воззрениям современных физиков: теория служит для того, чтобы идти на встречу опыту; субъективная интуиция подсказывает мысль о возможности чувственной интуиции; и эта последняя будет служить ей мерой и нормой. Но ведь тогда ясно, что в опыте от теории остается лишь то, что было предвосхищением опыта.
3. Мы в праве поэтому сказать, что всякий экспериментальный результат допускает наличность теоретических и субъективных элементов; оп не мог бы существовать без них. Мы вправе также сказать, что тем не менее экспериментальный результат сохраняет всю свою объективность. Согласно этой концепции физическая теория есть одновременно и то, что подсказывает открытие, и то, что служит потом – теми из своих элементов, которые сохраняются в открытии – для систематизации его в совокупности физических знаний. Теория методологична в двояком отношении: во-первых, как средство, с помощью которого обнаруживают отношение, еще неизвестное в опыте, во-вторых, как средство, с помощью которого это отношение связано с уже известными отношениями. Она освещает неизвестное, бросая на него свет известного, и она амальгамирует прежние и новые результаты исследования в едином и гармоническом построении. Она орудие открытия и орудие систематизации.
4. Но эта концепция физической теории не просто только согласуется со всем тем, что мы знаем об утилизировании современной физикой физической теории. Она выставляет ее в совершенно новом свете. Когда рассматривали гипотезу как переходный момент метода, устранявшийся в результате успехов науки, тогда гипотеза оставалась как бы вне науки, подобно костылю, от которого следовало как можно скорее избавиться. Когда же гипотеза была поднята до степени постоянной теории, конца науки, то довольно быстро забыли о том, что она гипотеза. Напирая на постоянных элементах теории, ей тем самым придавали онтологическое значение. Отсюда вытекли все крайности классической механистической концепции; отсюда – интуитивная и картезианская концепция науки; отсюда – все то, что вызвало изнутри самой физики, а затем – с новыми крайностями – извне современную критику физики и науки вообще.
Методологическая концепция физической теории противоположна первым делом чисто психологической концепции ее, согласно которой она является некоторым скоротечным образованием в воображении ученого, в индивидуальном воображении. Она противоположна затем той концепции, которой придерживались великие системы философии науки и вся механистическая традиция – именно онтологической концепции, делавшей из теории интуицию реальности, возвышающуюся над опытом, почти независимо от него и на его счет.
Физическая теория не имеет сама по себе, независимо от опыта, реальной ценности. Она имеет лишь методологическое значение. Она не чисто индивидуальная фантазия, которой может пользоваться или не пользоваться по своей доброй воле всякий ученый.
Она необходимое орудие физика. Физик не может заниматься физикой, не имея какой-нибудь теории. И если в настоящее время мы имеем перед собой нисколько форм физики, то он не противостоят друг другу как фантазия одного индивида фантазии другого индивида; они противостоят друг другу как концепция одной школы противостоит концепция другой школы, т. е. как нечто, имеющее притязание на постоянство, на объединение различных умов. Таким образом, физическая теория представляется нам в виде общего метода, а не индивидуального приема мысли. Она не случайное, изготовленное на авось орудие, она необходимый, жизненный орган.
Понятно, поэтому, что теория – сколько бы в ней ни заключалось искусственных уловок и гипотез – ничуть не изменяет и не уменьшает прочности результатов физики. Ведь ее роль – роль орудия, и в приобретенных благодаря ей результатах остается лишь акцептированная и гарантированная опытом часть, которая, значит, не искусственна и не гипотетична. Таким образом, научные завоевания остаются – под гарантией опыта и в меру этой гарантии – нетронутыми.
5. Если этот взгляд на физическую теорию правилен – а даже в концепции механистов он, по-видимому, вытекает из анализа идей физиков – то отсюда получается важное следствие: споры о реальности некоторых, употребляемых в теориях, понятий теряют многое в своем значении. Вопрос отныне не будет уже идти о том, существует ли реальность, адекватная нашему понятию силы или нашему понятию атома, или нашему понятию энергии. Споры эти переходят в разряд схоластических споров.
Я не желаю сказать этим, что какое-нибудь из этих понятий не может иметь реального значения. Я желаю лишь сказать, что решение этого вопроса зависит не от чисто теоретического анализа и исследования. Решение его может быть дано лишь опытом. С того дня, как опыт раскроет перед нами атомы, мы будем вправе говорить об объективном существовании атомов. До тех же пор атом есть теоретическое понятие. Мы должны заниматься вопросом не о его объективном значении, но о его методологическом значении, о плодотворности, пользе и правдоподобности атома, – плодотворности, пользе и правдоподобности, являющихся функциями друг друга.
Систематизация, присоединяющая к отношениям, непосредственно данным в опыте, общие отношения, являющиеся результатом умственного построения (пример: энергетика), или же систематизация, присоединяющая к отношениям, непосредственно данным в опыте, гипотетические отношения и различные предвосхищения опыта (пример: все теории, близкие к механистической концепции), могут – по крайней мере, в настоящее время – претендовать лишь на техническое, утилитарное значение, а не на объективное значение. Физическая теория, или, лучше, теоретическая физика, эта совокупность физических теорий одной и той же формы, есть лишь органон.
Итак, критическое исследование физических теорий не относится к ведению ни непосредственной научной проверки, ни той части философии, которая переходит за наиболее общие результаты науки. Оценка значения физической теории не должна также учитываться при оценке значения полученных физической наукой результатов, ибо теория представляется не результатом, добытым из фактов, а лишь орудием метода. Это значение может быть определено лишь по отношению к результатам, которые можно получить с помощью этого метода, по отношению к его удобствам, пользе, плодотворности. Физическая теория относится по существу – рассматриваемая с точки зрения позитивизма – к ведению логики наук, т. е. к исследованию предлагаемых физиками методов и их критического анализа последних.
6. При рассмотрении физических теорий как методов мы наталкиваемся, однако, на некоторое недоразумение, которое следует предупредить.
Когда говорят о методах в физических науках, то всегда думают о методах экспериментирования, указанных сперва Бэконом, а затем развитых Стюартом Миллем и всеми современными логиками. Но ясно, что физическая теория не имеет ничего общего с этими методами ни сама по себе, ни по своей роли, ни по своим приложениям; она существует наряду с ними и преследует совершенно иные цели. Классические методы, указанные для физических наук, это методы экспериментирования, т. е. контроля. Если в мозгу возникла какая-нибудь идея, то с помощью этих методов можно проверить основательность ее. Иногда они могут даже подсказать нам новые идеи, но это они смогут сделать лишь тогда, когда дух будет более или менее сознательно возбужден теми теоретическими концепциями, которые присоединяются к полученным из опыта указаниям. Этим указана методологическая роль теории; теория или гипотеза образует по существу метод открытия и изобретения. Она именно порождает те предвзятые идеи, о которых говорит Клод Бернар. Поэтому она обнаруживается в науке в совершенно иной момент, чем методы экспериментирования, и с совершенно иной целью: она порождает ту идею, которую должны будут контролировать затем методы экспериментирования.
7. Но для того, чтобы теория могла играть свою роль метода открытия, она не должна быть простой фантазией или химерой; в этом случае она была бы совершенно бесплодной, и это было одной из причин бесплодия схоластики. Она должна сконцентрировать в себе всю ту реальность, которую развертывает к моменту провозглашения ее перед нами опыт. Следовательно, научная теория будет орудием открытия лишь постольку, поскольку она сама окажется резюме приобретенного опыта, т. е. предыдущих открытий. Поэтому-то всякая физическая теория есть систематизация опыта: она систематизирует и классифицирует известные факты и законы, с одной стороны, с другой же она приспособляет эту систематическую классификацию для новых открытий.
8. Если физические теории являются по существу методами, то легко понять, что они могут быть многообразными. Это тем легче понять, что взятая в целом физика – несмотря на все великие открытия в ней – по-видимому, еще недалеко ушла от своего начала. Еще и теперь спорят о той форме, которую следует придать систематизации математических истин. И эта систематизация начинает устанавливаться лишь в настоящее время. И, может быть, мы принимаем – по обычной человеческой иллюзии – современный момент эволюции за момент завершения ее, ибо мы не знаем завтрашнего дня. Но, допустим, что математические факты получили, взятые в общем, свою окончательную классификацию.
Но разве предмет математики не бесконечно проще, чем предмет физико-химических наук? Разве математика не сложилась в положительную науку, т. е. разве не представляется она вполне определенной по своему предмету и своим общим методам наукой уже более двух тысяч лет, в то время как физико-химические науки сложились таким образом лишь всего три века? Что же удивительного в том, что теоретическая форма физики не установлена окончательно? Что же удивительного в разногласиях физиков по этому вопросу? Удивительным было бы, наоборот, отсутствие разногласий.
Можно сказать даже более: отсутствие этих разногласий свидетельствовало бы об оказываемом физической наукой сопротивлении положительному духу современности.
9. Это замечание выясняет нам общий дух современной физики. Многообразие мнений и разногласия между физиками существуют и могут существовать лишь в области гипотезы. Гипотеза же играет роль метода исследования. Физические теории многообразны и различны лишь в том, что они имеют прежде всего методологическое значение и что с этой стороны они носят в себе черты произвольного построения, черты выбора, гипотезы, каким бы именем ее ни называли. Из этого следует, что разногласие теорий никогда не может послужить аргументом против объективности и единства физической науки. Из этого же, в свою очередь, следует, что это единство и объективность ставят довольно узкие пределы произволу в выбор теории, а, значит, и вытекающим из него разногласиям.
– 1. О двух точках зрения, на которые можно стать при оценке какой-нибудь науки: о точках зрения теоретической и практической.
– 2. Как воспользовались практической ценностью науки, чтобы критиковать ее теоретическую или познавательную ценность.
– 3. Физики же, наоборот, всегда обращали особенное внимание на теоретическую ценность их науки.
– 4. Проверка этого утверждения на примере современных физиков: а) Дюгем; b) Мах; с) Пуанкаре; d) механистическая концепция.
– 5. Современные физики согласны между собой даже в утверждении, что в физической науке мы имеем единственно возможное позввссавввааввм анание материальной природы, какова бы ни была относительность этого познания.
– 6. Практическая ценность науки может вытекать лишь из теоретической ценности и поэтому она доказывает последнюю.
1. Из всего предыдущего вытекает, что физико-химические науки имеют реальную познавательную ценность. Под познавательной или теоретической ценностью я понимаю их значение с точки зрения все более расширяющегося и углубляющегося познания природы, исключая их ценность с точки зрения практического утилизирования сил природы.
Чтобы судить о ценности какой-нибудь науки можно, действительно, стать на две точки зрения – чисто научную, теоретическую точку зрения, и точку зрения практическую, техническую, или еще иначе, точку зрения знания и точку зрения пользы.
Нет никакого сомнения, что всякая система знаний имеет практические следствия; всякое знание материально полезно: это одно из наиболее ясных и законных утверждений ученых и философов Возрождения. До того времени польза знания была чисто духовного порядка. Когда греки говорили – с моральной или спекулятивной точки зрения – о пользе, то они имели в виду лишь эту духовную и почти эстетическую концепцию пользы. Для них дело шло не о материальном интерес, но об интересе духовном, если можно так выразиться, бескорыстном. Понятие о пользе соприкасалось с понятием о красоте и совершенстве, подобно тому, как удовольствие утончалось до степени ясной радости и счастливой мудрости. Наука, теоретическое созерцание, было для них высшей ступенью этой мудрости и определением этого совершенства. Поэтому наука и была по существу удовлетворением любопытства, любознательности. Она была наукой для науки, подобно тому, как их искусство было искусством для искусства. Возрождение, продолжая по-прежнему прославлять духовное могущество науки, выдвинуло, вместе с Бэконом, Галилеем и Декартом, также материальное могущество ее. В своих дифирамбах науке оно тесно связало ее силу знания с ее силой действия.
Большинство философов и ученых продолжали оставаться на этой точке зрения, и лишь в последней трети XIX века обнаружилась довольно сильная реакция против приписываемого науке духовного значения. Дело в том, что наука, утверждаясь как положительная наука, стала подвергать критике – часто нетерпимой и поверхностной – философские идеи и метафизические системы. Она часто оказывалась агрессивной. Позитивизм, казалось бы, должен был провести резкую демаркационную линию между областью научно-достоверною и областью метафизических гипотез. Тем не менее ученые не раз переступали в эту запретную область. Они не раз оказывались одновременно и плохими учеными и плохими философами. Критические умы, философы, указали им на это. И в результате после нападок философии против науки мы увидели обратное вторжение метафизики в чисто научную область, прямое нападение мистицизма на положительную науку. Смешение понятий продолжалось, но в обратном направлении.