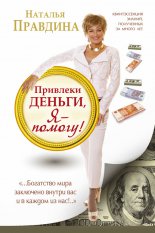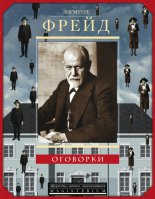История профессионального музыкального образования в России (XIX – XX века) Федорович Елена

А. А. Брандукову были свойственны импровизационная свобода исполнения, певучесть звука. Менее сильной была виртуозная сторона. Его очень ценил П.И. Чайковский, посвятивший ему Pezzo capricciozo. Ряд пьес посвятили ему С.В. Рахманинов и А. С.Аренский. Брандуков является автором виолончельного концерта, виолончельной сюиты, ряда транскрипций и других произведений.
С 1921 г. А. Брандуков работал в Московской консерватории, где у него занимались С. Ширинский, А. Георгиан, С. Броун и др. Он требовал от учеников темпераментной, масштабной, артистически яркой игры. А. Брандуков много показывал ученикам; владея фортепиано, аккомпанировал их исполнению.
Творческая деятельность Анатолия Брандукова имела большое значение для распространения традиций уже сложившейся русской виолончельной школы на Западе и проложила пути к дальнейшему синтезу русских и европейских традиций.
Таким образом, к началу ХХ в. Россия обладала не только сложившейся системой профессионального музыкального образования, включавшей, помимо консерваторий, также ряд постепенно возникших музыкальных училищ и школ, но и высокоразвитыми исполнительскими школами по основным направлениям музыкального искусства. Вторая половина ХIХ в. сыграла выдающуюся роль в этом процессе. В этот период было переосмыслено и развито все лучшее, что несли в себе российские традиции фольклорного, канонического и светского музыкального образования, русская композиторская школа, а также синтезированы российские традиции с высшими достижениями зарубежной музыкальной педагогики и исполнительства.
ГЛАВА 2. НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Петербургская и Московская консерватории положили начало системе профессионального музыкального образования светской ориентации в России. Кроме них, еще в последней трети ХIХ в. начали создаваться другие профессиональные музыкальные учебные заведения: музыкальные училища и школы. Такие учебные заведения организовывались по линии РМО, и их общее количество в предреволюционные годы приближалось к шестидесяти. Расширялась и география профессионального музыкального образования: в число его центров постепенно входили, помимо Петербурга и Москвы, также Одесса, Киев, Харьков, Тверь, Тифлис и другие крупные российские города.
Однако все это постепенно становилось недостаточным для удовлетворения растущей потребности в музыкальном образовании с его постоянно расширяющейся социальной базой. В ответ на эту потребность в России в большом количестве начали создаваться частные музыкальные школы. На рубеже ХIХ – ХХ вв. в России действовало уже несколько тысяч частных музыкальных учебных заведений. Большинство из них вели обучение музыке на уровне дилетантизма, но были и учебные заведения, решавшие профессиональные задачи.
Музыкально-образовательные учреждения этого периода отличались чрезвычайным разнообразием уровня, содержания и форм подготовки. Организаторами и ведущими преподавателями музыкальных училищ и школ могли быть высококвалифицированные музыканты: к примеру, ученица В.И. Сафонова и С.И. Танеева В.Ю. Зограф-Плаксина, основавшая в Москве в 1891 г. музыкальное училище (впоследствии – Музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского); сестры Ел. Ф. и Евг. Ф. Гнесины, также окончившие Московскую консерваторию по классу В.И. Сафонова и открывшие в Москве в 1895 г. музыкальное училище (оно также и ныне является одним из ведущих в стране). Профессиональный характер носило музыкальное обучение в таких частных школах, как школы Е. Рапгофа и С. Шлезингера в Петербурге, С. Майкапара в Твери, П. Столярского в Одессе и ряде других.
Вместе с тем подавляющее большинство частных музыкальных учебных заведений преследовало, по словам Г.М. Цыпина, «не столько художественно-просветительские, сколько сугубо коммерческие цели, их владельцы и руководители небезуспешно использовали в своих интересах популярность рояля в любительской среде; в то же время наладить всерьез процесс массового музыкально-инструментального обучения, придать ему должную направленность и эффективность им, как правило, оказывалось не под силу» [60. С. 23].
В результате складывалась противоречивая ситуация: будучи по своей природе учебными заведениями любительской направленности, призванными осуществлять общее музыкальное воспитание, эти учебные заведения с такой задачей не справлялись, так как декларировали цель профессионального музыкального обучения (как отмечает Г.М. Цыпин, учили «по А. Рубинштейну», «по Есиповой», «по Лешетицкому» и т.д.) Тем более они не справлялись с профессиональными целями: учебный план, как правило, не содержал дисциплин, необходимых для формирования музыканта-профессионала (если он вообще был); методы обучения зачастую были примитивными и преследовали, как правило, узкотехнические цели; приемы инструментального обучения не соответствовали уровню развития исполнительской техники; репертуар был художественно неполноценен и т.д. В целом количественное распространение профессионального музыкального образования в России в тот период сопровождалось некоторым снижением его качества на начальной и средней ступенях.
Музыкальные учебные заведения России, которые принадлежали к лучшим (прежде всего, ряд училищ и школ в столицах) и, несомненно, являлись профессиональными, также испытывали ряд серьезных трудностей и подвергались справедливой критике. Эти трудности были вызваны отсутствием четких представлений о разграничении начальной, средней и высшей ступеней образования; иначе говоря, было непонятно, чем школа отличается от училища, а училище – от консерватории.
Долгое время в России существовало только две консерватории. Но, скромно называя свои учебные заведениями училищами или школами (понятие «консерватория» очень долго связывалось с фамилией «Рубинштейн» и не применялось), их организаторы пытались копировать учебный план тех же консерваторий.
Так, устав музыкального училища В.Ю. ЗографПлаксиной свидетельствовал, что училище «имеет целью подготовлять путем систематических занятий артистов и педагогов». Ни уровень квалификации будущих артистов и педагогов, ни сфера их деятельности были не определены и не ограничены, следовательно, сама цель, которую ставило перед собой училище, ничем не отличалась от цели, преследуемой консерваторией [3]. Учебный план этого училища был рассчитан на те же сроки (девять лет для пианистов, пять – для певцов и т.д.), что и учебные планы консерваторий. Более того, при сопоставлении программы по классу пения, утвержденной В.Ю. Зограф-Плаксиной в 1913 г., с программой по классу пения, действовавшей в том же году в Московской консерватории, обнаружилось буквальное совпадение. Почти не отличалась от консерваторской по общему объему технологических навыков, уровню сложности репертуара и фортепианная программа [Там же. С. 12 – 13].
Одной из основных причин такой организационной путаницы был принцип организации самих консерваторий, при котором, как уже отмечалось выше, объединялось профессиональное музыкальное образование сразу трех ступеней. В начальный период существования консерваторий такой принцип был полезен, так как практически не существовало профессиональных музыкальных учебных заведений начальной и средней ступеней, могущих осуществлять подготовку учащихся для их последующего поступления в консерваторию, и консерваториям приходилось брать на себя эти задачи.
В дальнейшем, с появлением ряда музыкальных училищ и школ, стала ощущаться потребность в реформе российского профессионального музыкального образования. Так, уже в 1891 г. в Москве вышла брошюра В.П.Гутора «В ожидании реформы», где автор настаивал на разграничении задач консерваторий и училищ, так как «одно и то же учреждение не может быть в одно и то же время и элементарной школой и высшей школой искусств» [3. С. 12].
Выдвигались и другие проекты реформы музыкального образования, связанные не только с разграничением ступеней профессионального обучения, но и, что было не менее важным, с решением задач общего музыкального образования, выявлением содержания, форм и методов массового музыкального воспитания. Окончательное организационное решение этих проблем произошло уже после революции.
Социалистическая революция, разделившая историю России на «до» и «после», глубоко затронула все сферы жизни общества, в том числе и музыкальное образование. Резкая смена всего социального уклада породила изменения и в системе музыкально-образовательных учреждений, и в содержании образования.
В ходе всеобщей национализации были национализированы и музыкально-образовательные учреждения. Декретом Совета народных комиссаров от 18 июля 1918 г., подписанным В.И. Лениным, Петроградская и Московская консерватории были освобождены от подчинения РМО и получили статус гуманитарных вузов. РМО, сыгравшее колоссальную роль в истории музыкальной культуры России, перестало существовать. Прекратили существование Придворная певческая капелла и Синодальное училище. Закрылось огромное количество частных музыкальных школ. Прекратил работу целый ряд общеобразовательных учебных заведений – гимназий, женских институтов; вместе с ними было утрачена система преподавания игры на музыкальных инструментах, существовавшая в этих заведениях. Гимназии были превращена в школы, и платные музыкальные классы в них, как правило, уже не функционировали. Необходимо добавить, что с уничтожением высшего сословия и почти полной ликвидацией среднего в России были утрачены традиции домашнего обучения детей музыке, игравшего значительную роль и в общем музыкальном воспитании, и в начальном профессиональном музыкальном образовании.
Тяжелейшей потерей для профессионального музыкального образования, как и для всей российской культуры, была эмиграция ряда выдающихся музыкантов.
Вместе с тем следует отметить, что в первые годы Советской власти предпринимались усилия – не только со стороны ведущих музыкантов, но и со стороны власти – сохранить лучшие традиции и одновременно произвести реформирование системы музыкального образования, ее упорядочивание, необходимость в котором возникла еще до революции. На этом пути существовало множество сложностей. Основными задачами были: 1) создание системы общего музыкального образования; 2) упорядочивание системы профессионального музыкального образования.
Задачи эти были очень трудны по причинам как профессионального, так и социального характера. Нередко они смешивались (во многом из-за некомпетентности властей), и музыкантам приходилось вести борьбу с попытками, к примеру, введения группового обучения игре на музыкальных инструментах. Так, в редакционной статье «Народные музыкальные школы», опубликованной в журнале «Народное просвещение» в мае 1919 г., содержалась рекомендация: «Все знания о способах исполнения… об устройстве инструмента, о движениях рук и пальцев играющего, о том, как играть или петь по нотам, руководитель должен уметь сообщить лекционно» (цит. по: [3. С.15]). Сохранились свидетельства о том, что в Пятом государственном музыкальном техникуме имени Скрябина в Москве (так после национализации стала называться бывшая музыкальная школа В.А. Селиванова, учрежденная в 1903 г.), одно время внедрялся метод группового обучения игре на фортепиано [3. С. 25].
Важным фактором сохранения не только профессионального музыкального образования, но и музыкальной культуры в целом, было продолжение деятельности Петроградской и Московской консерваторий. Несмотря на тяжелые потери, вызванные отъездом многих замечательных музыкантов, а также подчас невыносимые бытовые условия, консерватории продолжали обучение на высоком уровне.
В Петроградской консерватории, которую вплоть до своего отъезда за рубеж в 1928 г. возглавлял А. К.Глазунов, работали такие музыканты, как С.М. Ляпунов, Б.В. Асафьев, М.О. Штейнберг, В.В. Щербачев, Н.Н. Черепнин, Л.В. Николаев, В.П. Калафати и др. В 1918 г. Петроград оказался отрезанным от периферии, число учащихся консерватории вследствие этого, а также из-за массового отъезда и преподавателей, и студентов сократилось до 600 человек; занятия проходили в экстремальных условиях. Здание консерватории не отапливалось совсем. Занятия были нерегулярными. Сидели в пальто, шапках, перчатках, которые снимали лишь для написания диктанта мелом на настенной грифельной доске или для проигрывания хорала на ледяных клавишах. В этих условиях консерватория не просто функционировала, но продолжала развивать отечественное профессиональное музыкальное образование. С 1919 по 1925 гг. в ней учился Д.Д. Шостакович. В 1921 г. в один и тот же день Петроградскую консерваторию окончили два крупнейших пианиста ХХ в. В.В. Софроницкий и М.В. Юдина – ученики Л.В. Николаева. М.В. Юдина сразу же вошла в число профессоров консерватории.
В эти же годы выдающийся русский дирижер Н.Н. Черепнин одним из первых в мире стал обучать студентов основам оперно-симфонического дирижирования (занятия велись в группах).
В Московской консерватории продолжали работу или начали ее в разное время такие музыканты, как соученики Скрябина и Рахманинова К.Н. Игумнов и А. Б. Гольденвейзер, композитор и органист А. Ф. Гедике, ученик Гольденвейзера С.Е. Фейнберг, ученики Ауэра Л.М. Цейтлин, К.Г. Мострас и Б.О. Сибор, теоретики И.И. Дубовский, И.В. Способин и А. Ф. Мутли; приехавшие из Киева Ф.М. Блуменфельд и Г.Г. Нейгауз; виолончелист С.М. Козолупов и другие видные музыканты.
Синодальное училище в 1918 г. было преобразовано в государственную народную хоровую академию; она, в свою очередь, в 1923 г. влилась в состав Московской консерватории. Так в Московской консерватории появились мастера хорового дирижирования: А. Д.Кастальский, А. В. Никольский, Н.М. Данилин, П.Г. Чесноков, А. В. Александров.
Другим крупнейшим центром музыкального образования еще в предреволюционные годы, а затем и в 20-е гг. стала Одесса. В 1913 г. здесь была открыта консерватория (в первые годы Советской власти она называлась Музыкально-драматическим институтом). Работало в Одессе множество музыкальных школ, из которых самой известной была скрипичная школа П.С. Столярского, давшая миру плеяду блестящих скрипачей во главе с Д. Ойстрахом. Школа Столярского, впоследствии преобразованная в специальную музыкальную школу для особо одаренных детей, послужила прообразом специальных музыкальных школ-десятилеток, создаваемых впоследствии при консерваториях.
В целом в Одессе в это время интенсивно развивалось профессиональное музыкальное образование, в особенности подготовка юных виртуозов – скрипачей и пианистов. В период с первых послереволюционных лет до середины тридцатых годов музыкальное образование в Одессе получили (в разных формах) такие «звезды», как Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Яков Зак, Мария Гриберг, Берта Маранц, Елизавета Гилельс, Борис Гольдштейн, Михаил Фихтенгольц и мн. др.
Лучшие из дореволюционных частных музыкальных школ и училищ после национализации продолжали подготовку профессиональных музыкантов. К примеру, бывшее музыкальное училище ЗографПлаксиной стало называться сначала Шестой государственной музыкальной школой, а впоследствии Четвертым государственным музыкальным техникумом имени братьев Рубинштейнов; бывшая «селивановская» музыкальная школа – Пятым государственным музыкальным техникумом имени Скрябина и т.п. Однако задача разграничения ступеней профессионального музыкального образования, встававшая еще до революции, была решена далеко не сразу.
В октябре 1919 г. в Москве состоялась конференция музыкантов-педагогов, созванная Музыкальным отделом Наркомпроса для обсуждения проектов реформы музыкального образования. В состав комиссий по подготовке материалов входили такие музыканты, как А. Д. Кастальский, А. Б. Гольденвейзер, Н.К. Метнер, Н.Я. Брюсова, В.А. Селиванов, К.Р. Эйгес и др.
Предполагалось, что работа конференции приведет к отделению высшего музыкального образования от среднего и уравнению этих типов музыкальных учебных заведений с соответствующими типами общеобразовательных учреждений Наркомпроса. Однако конференция лишь частично разрешила эту проблему. Это решение было зафиксировано в «Основном положении о Государственном Музыкальном Университете» (под Государственным Музыкальным Университетом подразумевалась вся сеть школ по общему и профессиональному музыкальному образованию в РСФСР). Там, в частности, говорилось:
«Все музыкальное образование в Государственном Музыкальном Университете подразделяется на три ступени: а) первая ступень специального музыкального образования, давая начальный курс музыкального образования, является в то же время периодом испытания способностей учащегося к специальному музыкальному образованию, после которого учащийся либо продолжает свое музыкальное образование в школе 11 ступени, либо выбывает из школы, как немогущий стать полезным работником в области музыкального искусства;
б) вторая ступень специального музыкального образования дает законченное профессиональное образование и готовит руководителей для школы 1 ступени и по музыкальному просвещению (дошкольному, школьному и внешкольному);
в) третья ступень специального музыкального образования завершает музыкальное образование» (цит. по: [3. С. 17]).
Таким образом, было принято решение о подразделении всех специальных музыкальных учебных заведений на три типа: одноступенные (низшие), двухступенные (средние) и трехступенные (высшие). Специфика решения заключалась в том, что двухступенные заведения (училища или, как их тогда называли, техникумы), должны были представлять не одну ступень, то есть собственно техникум, а две: школу и техникум; соответственно этому консерватории включали в себя и школу, и техникум, и вуз. Следовательно, сохранив в консерватории все три ступени, конференция не осуществила принцип отделения высшего музыкального образования от среднего и не уравняла консерваторию с немузыкальными вузами. Остался неустраненным параллелизм среднего и высшего музыкального образования; не давалось объяснения, в чем состоит разница между «законченным музыкальным образованием» (итог двухступенной школы) и «завершенным музыкальным образованием» (итог высшего образования).
Решение имело и другие недостатки. Так, окончание музыкальной школы первой ступени без перехода во вторую ступень расценивалось как «выбывание из школы» в силу невозможности «стать полезным работником в области музыкального искусства». Этим принижалась роль музыкальной школы, способной не только готовить кадры для дальнейшего профессионального обучения, но и выполнять просветительскую функцию, давать общее музыкальное развитие. Возможно, этим принижением музыкальной школы первой ступени объясняется и непропорциональный рост учебных заведений второй ступени; руководители школ первой ступени стремились преобразовать их в техникумы. Эта диспропорция в дальнейшем принесла много вреда музыкальному образованию.
Кроме того, при перечислении профилей специалистов, выпускаемых школой второй ступени, все внимание было сосредоточено на подготовке педагогов и музыкально-просветительских работников, а о подготовке исполнителей не говорилось ничего. Это противопоставление существовало долгое время; нередко появлялись в печати статьи о том, что подготовка инструкторов (педагогов) несравненно важнее, чем подготовка исполнителей, «виртуозов, уделяющих чрезмерное внимание игре на своем инструменте» (цит. по: [3. С. 24]). Следующий этап реформы музыкального образования связан с именем Б.Л. Яворского, который с 1921 г. являлся руководителем музыкального отдела Главпрофобра. Он вновь поставил вопрос о пересмотре организационной структуры консерватории и доведении до конца типизации, то есть об осуществлении организационного и административного разъединения трех ступеней, при этом вуз должен был представлять только третью. После долгих дебатов, продолжавшихся до 1925 г., разъединение было произведено. Консерватории превратились в пятикурсовые вузы; среднее звено осуществляло четырехлетнее обучение.
Не сразу были определены сроки обучения в музыкальной школе. Некоторое время в школах учили 3 – 4 года, а так как (начиная с 1926 г.) в техникумы принимали только на основе общего семилетнего образования, образовывался временной промежуток в 3 – 4 года между школой и средним звеном. Это противоречие было преодолено к 1933 г., когда Наркомпрос утвердил «Положение о детской семилетней музыкальной школе». Таким образом, была создана структура параллельного общего и музыкального образования. Она оказалась в целом удачной: об этом свидетельствует факт существования такой структуры в течение 70 лет.
Одновременно продолжались поиски и эксперименты в двух направлениях. Первое было связано с необходимостью ранней специализации особо музыкально одаренных детей; второе – с подготовкой педагогических кадров для общего музыкального образования.
Давно известные музыкантам примеры раннего развития музыкальных способностей у некоторых детей свидетельствовали о необходимости раньше начинать их профессиональное обучение и заниматься по индивидуальной программе для достижения высокого результата. В Одессе выдающихся результатов в этом направлении добился П.С. Столярский. В Москве проблемами, связанными с обучением одаренных детей, много занимался А. Б. Гольденвейзер (в 1920-е – 1940-е гг. бывший заместителем директора и директором Московской консерватории). По его инициативе в 1932 г. была создана Особая детская группа при Московской консерватории, которая вскоре была преобразована в ЦМШ. В Особой детской группе занимались такие в будущем известные музыканты, как Т. Николаева, Р.Тамаркина, А. Каплан. По примеру ЦМШ позднее были созданы подобные школы при ГМПИ (ныне РАМ) имени Гнесиных, Ленинградской консерватории, других консерваториях. Этот вид профессионального музыкального образования можно причислить к элитарному (не по социальному, а по профессиональному признаку). Такие школы, в особенности ЦМШ, дали стране и миру огромное количество музыкантов высшей квалификации.
Помимо школ-десятилеток, совмещающих первую и вторую ступени музыкального образования, некоторые средние учебные заведения наиболее высокого уровня были прикреплены к консерваториям (не входя, как ранее, в их состав). Это было не соединение второй и третьей ступеней музыкального образования, а сохранение их раздельности при установлении тесного контакта и преемственности. Одним из первых таких учебных заведений стало Музыкальное училище при Московской государственной консерватории.
Другое направление – подготовка педагогических кадров – определилось как кардинальное с первых же послереволюционных лет. Музыкантам, осуществлявшим реформу музыкального образования, было ясно, что подготовка учителей музыки (по современной терминологии) или кадров для просветительской работы, как говорили тогда, должна осуществляться иным образом, чем подготовка исполнителей и педагогов для системы профессионального музыкального образования. При этом, осуществляя разделение подготовки кадров, важно было сохранить высокий профессиональный уровень и в этой ветви музыкального образования.
Уже в первые послереволюционные годы, наряду с государственными музыкальными техникумами, создаются инструкторско-педагогические техникумы, или инструкторско– педагогические отделения при музыкальных техникумах. Вначале разделение исполнительского и инструкторско-педагогического направлений было достаточно примитивным. Часто при общем учебном плане те учащиеся, кто демонстрировал виртуозные данные, обучались как «исполнители», а менее способные – как «инструкторы» (музыкальный техникум имени Стасова). Позднее определился тот профессиональный комплекс, который и сейчас составляет основу подготовки учителей музыки: историко-теоретическая, вокально-хоровая, инструментальная, методическая подготовка.
Важным событием было открытие в 1924 г. в Московской консерватории инструкторско-педагогического факультета. В него в виде хорового подотдела влилась Московская государственная народная хоровая академия (образованная на базе Синодального училища), где преподавали выдающиеся музыканты А. Д. Кастальский, П.Г. Чесноков, Н.М. Данилин и др. В 1930 г. инструкторско-педагогический факультет был разделен на отделы профессионального образования («Профобр») и общего музыкального воспитания («Соцвос»). На базе первого в 1932 г. была образована кафедра хорового дирижирования Московской консерватории. Задачей второго была подготовка педагогов-музыкантов высшей квалификации для общеобразовательных школ.
Позднее в состав факультета вошло музыкально-педагогическое отделение при Московском государственном вечернем педагогическом институте; оно было объединено с «Соцвосом», в результате чего возник музыкально-педагогический факультет Московской консерватории. Этот факультет послужил прообразом всех позднее созданных музыкально-педагогических факультетов страны. Первая завкафедрой музыкального воспитания В.Н. Шацкая (выпускница Московской консерватории по классу В.И. Сафонова) была одним из первопроходцев музыкального воспитания детей не только в стране, но и в мире. Первые выпускники музыкально-педагогического факультета (О.А. Апраксина, Н.Л. Гродзенская, В.А Румер и др.) сыграли важнейшую роль в становлении общего музыкального образования.
Подготовка учителей музыки осуществлялась и в среднем звене музыкального образования. В конце 1920-х гг. был создан инструкторско-педагогический техникум имени Октябрьской революции (позднее – музыкальное училище имени Октябрьской революции; сейчас – Московский государственный институт музыки имени А. Г.Шнитке); в музыкальном техникуме при Московской государственной консерватории было открыто отделение общего музыкального воспитания; эти учебные заведения осуществляли подготовку кадров для инструкторско-педагогического (музыкально-педагогического) факультета Московской консерватории и послужили прообразами будущих музыкально-педагогических училищ (колледжей).
Таким образом, итоги социальных преобразований в стране для профессионального музыкального образования были неоднозначными. С одной стороны, потрясения революций, гражданской войны, идеологическое давление, принижение роли интеллигенции не могли не сказаться отрицательно на культуре в целом, в том числе на музыкальном образовании. Невосполнимыми были потери от эмиграции. Утраченными оказались традиции частного домашнего преподавания музыки, что резко понизило уровень музыкальной культуры подрастающего поколения.
С другой стороны, российским музыкантам удалось в труднейших условиях не только сохранить основу профессионального музыкального образования, но и укрепить его организационную структуру. В результате многочисленных преобразований были найдены удачные формы профессионального обучения музыке, сохранившиеся в целом на протяжении всего ХХ столетия. Расширение социальной базы способствовало притоку в музыкальные профессии талантливых людей. Тоталитарная система, установившаяся в советском обществе, при своих многочисленных отрицательных сторонах имела (в частности, для музыкального образования) и положительные: государственная поддержка учебных заведений и четкая организация сыграли несомненно благоприятную роль для развития профессиональных музыкально-образовательных учреждений.
Была решены организационные и профессиональные основе вопросы всеобщего музыкального обучения детей и создана система профессиональной подготовки кадров музыкантов-педагогов для общеобразовательных школ, базирующаяся на лучших традициях российского профессионального музыкального образования.
К середине ХХ в. в СССР была создана система профессионального музыкального образования, которой по праву можно гордиться. Она впитала богатые российские традиции, благодаря которым содержание образования на всех ступенях и по всем направлениям находится в целом на высоком уровне. Стройность системы, определенная взаимная соотнесенность всех ее звеньев также способствуют успешной подготовке музыкантов.
Профессиональное музыкальное образование на всем протяжении советского периода интенсивно развивалось, причем в первую очередь росло количество учебных заведений. В 1994 г. в России насчитывалось свыше 5800 музыкальных школ, 260 средних и 50 высших музыкальных учебных заведений [14. С. 371]. Такой масштабной сети государственных музыкальных учебных заведений не имеет ни одна страна.
Документ об окончании российского (советского) музыкального вуза высоко ценится во всем мире; этой репутации способствовало получение нашими соотечественниками звания лауреатов престижных международных конкурсов. Диплом российской консерватории неизменно свидетельствует о высоком исполнительском уровне музыканта и его солидной общемузыкальной и гуманитарной подготовке. Диплом музыкального факультета педагогического вуза является подтверждением того, что музыкант-педагог владеет уникальным комплексом музыкальных специальностей: музыкальный инструмент, хоровое дирижирование, вокал, теория и история музыки. Выпускники данных факультетов имеют также хорошую психолого-педагогическую и гуманитарную подготовку. В каждом из музыкальных направлений, взятом в отдельности, учитель музыки уступает выпускнику консерватории, но в комплексе ему нет равных. Важно и то, что каждое из этих направлений подготовки учителя музыки зиждется на соответствующей российской исполнительской традиции.
Вместе с тем в современном музыкальном образовании, в том числе профессиональном, имеется ряд серьезных проблем. Они находятся в различных плоскостях, что естественно для такого масштабного и сложного явления, как российское профессиональное музыкальное образование, но их объединяет значение для дальнейшего развития профессиональной музыкально-образовательной системы.
Серьезной проблемой не только музыкального образования, но и всей российской культуры является существующий разрыв между высоким уровнем профессиональных музыкальных достижений и низкой музыкальной культурой основной массы населения. Эта проблема может быть кардинально разрешена только с помощью комплекса социально-экономических и культурно-педагогических мер. В частности, один урок музыки в неделю не только не может удовлетворить духовные потребности ребенка (а к этому еще необходимо добавить низкий престиж данного урока; в ряде школ его пытаются частично заменять другими дисциплинами), но и не позволяет полностью реализовать профессиональный потенциал учителя музыки по отношению к каждому конкретному ученику. И хотя эта проблема в большей мере относится к общему музыкальному образованию, она касается и профессионального. Готовя квалифицированных музыкантов-профессионалов, образовательная система не готовит в должной мере слушателей. Музыканты-исполнители – выпускники консерваторий – оказываются в известной мере оторванными от реальности. Их подготовка в очень малой степени предусматривает возможность музыкально-просветительской работы в непрофессиональной аудитории.
Кроме того, имеется и количественный дисбаланс. Выпускникам консерваторий подчас трудно найти работу. Вместе с тем учителей музыки не хватает даже в крупных городах, не говоря о периферии. Выпускникам консерваторий трудно переориентироваться на работу учителя музыки по двум причинам: из-за отсутствия должной психолого-педагогической подготовки и из-за низкого престижа профессии учителя музыки в музыкально-исполнительской среде. Эта проблема наметилась давно, и следовало бы увеличить количество выпускаемых учителей музыки и соответственно ограничить прием в консерватории. Регулировать соотношение музыкально-исполнительских и музыкально-педагогических кадров в советское время было сложно, так как ими ведали различные министерства: Министерство культуры и Министерство просвещения. Тем не менее, тенденция к сокращению набора в консерватории наметилась в 1980-е гг., но несколько лет спустя появилась возможность платного обучения с зачислением вне конкурса. При выборе платного обучения в консерватории или педвузе выпускники средних музыкальных учебных заведений зачастую предпочитают первое с реальной перспективой остаться без работы. Проблема невысокого социального статуса учителя музыки, и экономические проблемы, и проблема низкого уровня музыкальной культуры масс, остаются нерешенными. Проблемы количественного соотношения выпускаемых специалистов существуют не только между музыкально-исполнительскими и музыкально-педагогическими учебными заведениями, но и между ступенями профессионального музыкального образования.
Исследуя вопросы подготовки музыкальных кадров, П.Л. Волк устанавливает, что в процессе развития системы музыкального образования в советский период были допущены две основные ошибки.
Первая из них относится к 1930 – 1940 гг., когда было произведено непропорциональное расширение среднего звена. Это было вызвано резко возросшей потребностью в музыкантах средней квалификации: артистах оркестров, хоров, театров, концертмейстерах и др. В результате к середине 1940-х гг. сложилась абсурдная ситуация: выпускников музыкальных школ страны было в два раза меньше, чем устанавливал план приема в музыкальные училища. О конкурсном наборе не могло быть и речи; в музыкальные училища стали принимать людей вообще без музыкального образования. Затем выпущенные специалисты пришли работать в начальное звено, переживавшее столь же бурный и непропорциональный рост, так как в 1960 г. сессия Верховного Совета РСФСР приняла решение об открытии в каждом сельском районе ДМШ [14]. П.Л. Волк видит выход в регионализации музыкального образования, позволяющей сбалансировать все его ступени. Но, несомненно, последствия такого количественного дисбаланса, проявляющиеся в первую очередь в низком профессиональном уровне многих, в особенности периферийных, музыкальных училищ и школ, будут ощущаться еще долго.
Другая серьезная проблема современного отечественного профессионального музыкального образования в равной степени касается и общего музыкального воспитания значительной части детей. Речь идет о том, что современные ДМШ (ДШИ) являются одновременно и первой ступенью профессионального музыкального образования, и учреждениями, в которых более интенсивно, по сравнению с музыкальным обучением в общеобразовательной школе, осуществляется общее музыкальное воспитание и развитие учащихся. Причем последняя функция ДМШ (ДШИ) не менее важна, чем первая, особенно если учесть, что в музыкальные и музыкально-педагогические училища (колледжи) по окончании музыкальной школы поступает лишь небольшой процент детей. Остальным ДМШ должна дать общее музыкально-эстетическое развитие. Что же происходит на самом деле?
В 1980-е гг. в центральной советской печати Г.М. Цыпин неоднократно поднимал вопрос о том, чему учат детей в музыкальных школах. Он доказывал, что система, при которой всех детей – независимо от того, станут они музыкантами-профессионалами или нет, – обучают по одного программе как будущих профессионалов, неправильна и вредна. Дети, призванные в будущем стать музыкантами, получают при этом недостаточное количество умений и навыков. Но еще хуже то, что остальные дети, не имеющие профессиональных способностей или склонностей, вместо музыкального развития и любви к музыке получают комплекс ненужных им профессиональных упражнений и, соответственно, выносят из стен школы равнодушное, а иногда и негативное отношение к музыке.
Сейчас, по прошествии двух десятилетий, Г.М. Цыпин констатирует следующее: принявший массовый характер отток детей из музыкальных школ имеет, помимо социальных и материальных причин, еще и следующие: «…многие учащиеся бегут от своих педагогов просто потому, что им не под силу выдерживать то, как их учат» [59. С. 109].
Вместо того, чтобы приобщиться к миру музыки, выучиться играть любимые мелодии и т.д., ребенку приходится месяцами выполнять непонятные и неинтересные ему академические упражнения и программы. В результате влечение к музыке сменяется ее неприятием, и ребенок формально завершает обучение или вообще покидает школу.
«К сожалению, – пишет Г.М. Цыпин, – в России традиционно получалось так, что всех детей, учащихся музыке, пытались вести практически по одной и той же колее. Ко всем учащимся, независимо от их природных данных и профессиональных возможностей, предъявлялись примерно одинаковые требования… Хотя, казалось бы, совершенно очевидно, что учить “фронтально”, по одной “максималистской” схеме тех, у кого есть шансы стать впоследствии музыкантом-профессионалом, и тех, у кого таких шансов нет, – по меньшей мере неразумно. Разные перспективы у учащихся, следовательно, разными должны быть цели и задачи преподавателя, а отсюда и методы учебной работы» [59. С. 109 – 110].
Дифференциация обучения в зависимости от профессиональной перспективы на практике осложняется трудностью ранней диагностики профессиональных музыкальных способностей. Тем не менее такая диагностика возможна, следовательно, необходимо приобщать значительную часть учащихся к музыке, исключив усиленный технический тренинг и нормативные мероприятия на оценку.
Данным перечнем проблем, разумеется, не исчерпываются все трудности системы современного российского профессионального музыкального образования. Тем не менее традиции, заложенные в предшествующем веке и развитые в исполнительских школах ХХ в., обеспечивают отечественному профессиональному музыкальному образованию в целом высокий уровень и хорошие перспективы.
ГЛАВА 3. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ХХ ВЕКА
В российской фортепианной педагогике ХХ в. выделяются ветви, основанные родоначальником ленинградской фортепианной школы Л.В. Николаевым и возглавлявшими московскую фортепианную школу К.Н. Игумновым, А. Б. Гольденвейзером, С.Е. Фейнбергом и Г.Г. Нейгаузом. Несмотря на принятое в искусствоведческой и фортепианно-методической литературе деление на ленинградскую и московскую фортепианные школы, в них прослеживаются общие черты, позволяющие объединить их как крупнейшие российские фортепианные школы ХХ в. Обращает внимание также следующее обстоятельство: несмотря на то, что последний из корифеев – Г.Г. Нейгауз – ушел из жизни в 1964 г., за оставшиеся 36 лет ХХ века не появилось не только равновеликой, но даже сколько-нибудь приближающейся к названным фигуры. Можно говорить о продолжении традиций в деятельности многочисленных учеников и учеников учеников Л.В. Николаева, К.Н. Игумнова, А. Б. Гольденвейзера, С.Е. Фейнберга и Г.Г. Нейгауза; качество этих традиций подтверждается блестящими успехами российской-советской фортепианной школы на всем протяжении ХХ столетия (можно назвать многие десятки отечественных лауреатов многочисленных престижных международных соревнований), однако вслед за фамилией лауреата ставятся, как правило, две – его непосредственного педагога и одного из основоположников, чьи традиции данный лауреат представляет. Это также серьезный повод для осмысления общего и особенного в содержании деятельности корифеев российской фортепианной педагогики ХХ века.
После ухода А. Н.Есиповой центр петербургской (ленинградской) фортепианной педагогики переместился в класс Леонида Владимировича Николаева (1878–1942). Расцвет его деятельности пришелся на советский период, когда основные силы постепенно стали сосредоточиваться в новой столице – Москве. Этим, по-видимому, объясняется то, что ленинградская фортепианная педагогика ХХ в., основоположником которой был А. Г. Рубинштейн, представлена только одной – николаевской – ветвью.
Л.В. Николаев продолжал традиции сразу нескольких направлений. Он учился в Киеве у В.В. Пухальского – ученика Т. Лешетицкого, виднейшего фортепианного педагога, преподававшего в Петербурге и Вене, а затем в Москве у В.И. Сафонова (по классу фортепиано) и С.И. Танеева (по композиции). И.Т. Лешетицкого, и В.И. Сафонова, при всем различии их облика, объединяло требование максимально осмысливать процесс работы над фортепианным репертуаром. С.И. Танеев продолжал в педагогике традиции Н.Г. Рубинштейна, который, как было отмечено выше, шел от мысли к чувству. Самому Л.В. Николаеву был свойствен прежде всего высочайший интеллектуальный уровень (помимо диплома консерватории, он имел диплом юриста, свободно владел тремя иностранными языками, мог на память цитировать многочисленные поэтические и прозаические произведения и т.д.) Николаев в высокой степени воспринял все то, что давали ему учителя (так, В.И. Сафонов говорил о нем: «Я не успевал его учить, так быстро он всему выучивался» (цит. по: [51.С.7]). Все это в соединении с блестящими общемузыкальными и пианистическими способностями сделало Л.В. Николаева музыкантом и педагогом ярко выраженного интеллектуального типа, шедшего в исполнительстве и педагогике преимущественно рациональным путем.
Среди личных особенностей Л.В. Николаева отмечали его необычайно развитую способность внутреннего представления музыки. Он читал без инструмента произведения любой сложности, все слыша внутренним слухом. Будучи композитором, Николаев сочинял без инструмента и даже без нотной бумаги. Как утверждает его ученик, видный теоретик фортепианной игры С.И. Савшинский, огромная сила внутреннего представления музыки в сочетании с феноменальной памятью давали Л.В. Николаеву возможность сочинять даже крупные произведения, вынашивая их в уме до полной законченности – почти не сохранилось черновиков, позволивших бы воссоздать его творческий процесс [Там же. С. 21]. Эта особенность, несомненно, влияла на содержание занятий Л.В. Николаева с учениками, от которых он требовал внутреннего представления исполняемой музыки, предваряющего реальное звучание инструмента. «Раньше, чем произведение будет готово в пальцах, оно должно быть готово в голове», – говорил он [Там же. С. 45].
Как это ни парадоксально, педагогическому успеху Л.В. Николаева частично способствовали его относительные композиторские неудачи. Как отмечает С.М. Хентова, «…то, что для Николаева явилось травмой, приносило пользу его педагогике, составляло ее силу и своеобразие. За фортепиано сидел подлинный музыкант, знавший всю литературу, игравший на память любое сочинение, моментально схватывавший особенности композитора, безошибочно разбиравшийся в логике музыкальной ткани, словно умевший “читать мысли” композитора: ведь он сам прошел через муки и радости творчества» [56. С. 16].
Исследуя сочетание «пианист – педагог – композитор» в Л.В. Николаеве, Л.А. Баренбойм отмечает, что идеалом Николаева было воспитание пианиста-исполнителя, который обладал бы глубиной и широтой композиторского мышления. По свидетельствам учеников, Леонид Владимирович переживал периоды, когда он начинал тяготиться воспитанием только пианистов и готов был приняться за обучение сочинению музыки; очевидно, его привлекала возможность полностью погружаться в музыкальную мысль, приучать к размышлениям, анализу и обобщению [6. С. 121 – 122].
Отличительной особенностью педагогики Л.В. Николаева была конкретность педагогических рекомендаций. Как вспоминал С.И. Савшинский, все педагоги говорят, что нужно сделать, но немногие объясняют и показывают, как этого добиться данному ученику с присущими ему особенностями; Николаев же неизменно объяснял и показывал, как нужно работать. Форма произведения, гармония, полифония, модуляции, динамические изменения, фразировка и т.д. – все подвергалось анализу, после чего следовали рекомендации по конкретным приемам, с помощью которых студент мог выразить содержание музыки [51].
Рациональность, приоритет интеллектуального начала, явственно прослеживавшиеся в педагогике Л.В. Николаева, породили ряд острых дискуссий вокруг его имени, начавшихся еще в 1930-е гг. и продолжившихся десятилетия спустя после смерти музыканта. Дискуссии были порождены следующим противоречием: с одной стороны, в педагогике Николаева наличествовал несомненный приоритет рационального начала, из-за которого его порой упрекали в «гипертрофированной системности» и попытке «втиснуть все намерения в постоянную систему» (В.Ю.Дельсон, цит. по: [6. С.105]). С другой стороны, имена наиболее крупных учеников Николаева говорят сами за себя: Д.Д. Шостакович (как пианист), В.В. Софроницкий, М.В. Юдина, С.И. Савшинский, Н.Е. Перельман, П.А. Серебряков, В.И. Разумовская и мн. др. Эти музыканты, во-первых, не могут быть ни в коем случает отнесены к представителям рационального начала в исполнительстве (В.В. Софроницкий, к примеру, один из ярчайших в истории исполнительского искусства представителей субъективного, эмоционального направления). Во-вторых, они вообще не укладываются в рамки какого-либо одного определения, так как представляют не только различные, но порой диаметрально противоположные направления (к примеру, Софроницкий – Юдина). Единственное, что объединяет учеников Николаева, – блестящая школа. Естественно, педагога, воспитавшего такое количество ярчайших музыкантов совершенно разных индивидуальностей, невозможно упрекнуть в какой-либо односторонности.
Ряд исследователей в данной дискуссии придерживались даже такой точки зрения, что выдающиеся ученики Л.В. Николаева стали таковыми не благодаря, а скорее вопреки влиянию своего педагога; что, к примеру, В.В. Софроницкий и М.В. Юдина, восприняв от учителя только основы, в дальнейшем преодолевали в своем искусстве его влияние и что только так можно объяснить становление столь разных музыкантов в классе одного педагога (В.Ю. Дельсон, Я.И. Мильштейн).
Эта точка зрения выглядит весьма странной; неясно, почему у одних педагогов нужно говорить о преемственности, а у Николаева – о том, что все крупнейшие ученики не похожи на своего педагога, все – исключение из правила. Возможно, в данном случае следует говорить о новом правиле. Нам представляется, что пути разрешения этой дискуссии следует искать в наблюдении, сделанном уже в 1970-е гг. выдающимся теоретиком фортепианной педагогики Л.А. Баренбоймом.
В статье «Л.В. Николаев – основоположник ленинградской пианистической школы» Л.А. Баренбойм, в частности, обращает внимание на то, что термин «фортепианно-педагогическая школа» еще не получил общепринятого определения и трактуется по-разному. Одни ассоциируют понятие «школа» с определенным комплексом фортепианно-технических навыков, прививаемых ученикам; другие имеют в виду, помимо этого, также музыкально-выразительные приемы; третьи – всю сумму эстетико-стилевых взглядов, художественно-выразительных средств и черт пианистического мастерства в их единстве. Несомненно, что именно последнее определение ближе к современной трактовке понятия «фортепианно-педагогическая школа». Однако и этого, по мнению Л.А. Баренбойма, с которым мы полностью согласны, недостаточно: в данном определении в поле зрения находится лишь то, чему обучают, а то, как обучают, остается без внимания; между тем взаимосвязь обоих этих начал во многом определяет жизнеспособность школы.
Таким образом, Л.А. Баренбойм обращает внимание исследователей творчества Л.В. Николаева, а также фортепианной педагогики вообще именно на общепедагогическую составляющую работы педагога-музыканта, в то время как ранее было принято – и во многом остается таковым до сих пор – исследовать главным образом фортепианно-методическую часть занятий.
Развивая эту мысль, Л.А. Баренбойм приводит рассуждения одного из первых отечественных теоретиков пианизма М.Н. Курбатова (тоже ученика В.И. Сафонова), который еще в конце ХIХ в. обратил внимание на то, как порой быстро вырождаются и заканчивают свое существование многие школы, даже те, создателями которых были видные пианисты. «Школу, – писал М.Н. Курбатов, – создает выдающийся музыкальный деятель. Богато одаренный от природы, искренне преданный искусству, он на технику смотрит как на средство для выражения художественных идей; он ищет ее для себя наполовину бессознательно и находит благодаря талантливости сравнительно легко. Как же он может ясно объяснить другим, чего и как надо добиваться? Художественные требования для него просты до необычайности и так очевидны, что ему и в голову не приходит возможность их непонимания» (цит. по: [6. С. 113 – 114]). Баренбойм далее указывает, что ученик в таком случае, уверовав в непогрешимость учителя и в то, что тот показывает ему самую суть искусства, лишь выполняет указания, в результате усваивая лишь внешнюю сторону явления – приемы и правила – и их передавая своим ученикам в дальнейшем. На этом школа и замыкается.
В чем же причина того, что школа гибнет, едва успев расцвести? На этот вопрос Л.А. Баренбойм отвечает следующим образом: «…причина короткого, как жизнь мотылька, существования школы не в том, что исчерпали себя ее художественные идеи и устарели ее технические средства. Первопричина в другом: педагог не способен передать ученику самую суть музыкального явления, научить его самой сути музыкальных занятий, заставить понять “степень внимания”, необычайную сосредоточенность» [Там же. С.115]. Подчеркивая определения «передать», «научить» и «заставить понять», Л.А. Баренбойм тем самым подчеркивает то, что речь идет не о содержании фортепианного искусства, а о педагогических и психологических механизмах, позволяющих передать это содержание ученикам. Именно это всегда было слабой стороной занятий с учениками многих крупных музыкантов. И именно это было сильной стороной Л.В. Николаева, который был категорически не согласен с неизбежностью вырождения любой фортепианно-педагогической школы по причинам, указанным М.Н. Курбатовым. «Все то, что Курбатов выводил за рамки фортепианного обучения, Леонид Владимирович именно к этому обучению относил и в понятие “школа” неукоснительно включал не только эстетическую и техническую, но и педагогическую сторону дела», – писал Баренбойм [6. С. 115] (курсив мой – Е.Ф.)
Именно в этом, по нашему убеждению, состоит коренное отличие педагогики Л.В. Николаева от педагогики большинства как российских, так и зарубежных музыкантов-исполнителей (не только пианистов). Будучи крупным музыкантом, Николаев одновременно со свойственной ему способностью анализировать и систематизировать все явления определил наиболее слабую сторону традиционного фортепианного обучения и сделал педагогические методы и приемы неотъемлемой частью понятия «фортепианная школа». То, что лучшие из отечественных педагогов-пианистов – А. Г. Рубинштейн, Н.Г. Рубинштейн, В.И. Сафонов, А. Н.Есипова, Ф.М. Блуменфельд – делали отчасти интуитивно, наметив основные пути нового наполнения понятия «фортепианная школа», Л.В. Николаев синтезировал и реализовал наиболее полно и систематизированно, чем это кому-либо удавалось до него.
В этом, по-видимому, и заключается ответ на вопрос о том, как в классе одного педагога, причем многими относимого к «рациональному» типу педагога и музыканта, могли вырасти столь разительно несхожие между собой и непохожие на своего учителя ярчайшие индивидуальности, как его крупнейшие ученики. Николаев учил не только мастерству, пониманию стилистических закономерностей и многому другому, что входит в содержание пианистического искусства в широком смысле, – хотя и этому он учил великолепно. Но диапазон его работы с учениками был значительно шире. Будучи не только музыкантом, но и педагогом, он прежде всего развивал личность ученика, понимая, что личность перед ним каждый раз другая, непохожая на предыдущие.
Конечно, Николаев признавал, что есть некие общие для всех требования, касающиеся прежде всего мастерства. Но за рамками собственно мастерства его действия как педагога становились каждый раз иными. Поэтому Л.В. Николаев придавал большое значение (он не раз писал об этом) самостоятельности обучающихся. Не оставив после себя труда, в котором обобщался бы его многолетний опыт работы по обучению пианистов, Л.В. Николаев выступал в печати с лаконичными, но чрезвычайно емкими по содержанию статьями. В 1935 г. он опубликовал в небольшой статье своеобразные «тезисы», в которых сконцентрировано его понимание фортепианно-педагогических проблем. Тезис первый гласит: «В области музыкального исполнительства учитель должен дать ученику основные общие положения, опираясь на которые последний сможет пойти по своему художественному пути самостоятельно, не нуждаясь в помощи» (цит. по: [6. С. 132]). Позднее он писал в другой статье: «Учебное заведение только может поставить человека на рельсы, катиться же по этим рельсам куда угодно будет сам музыкант в своей дальнейшей деятельности… Каждый педагог и каждое учебное заведение должно научить учащегося обходиться без них, без этого учебного заведения, без педагога… Это первая и самая главная задача, которая стоит перед каждым педагогом» [Там же].
Это же качество Л.В. Николаева – стремление дать учащемуся не готовый перечень знаний, умений и навыков, а основу, методологию познания, «научить учиться», – подчеркивал Л.А. Баренбойм: «Он понимал, конечно, что педагог обязан преподать ученику умение ориентироваться в музыке, воспитать его музыкально-эстетический вкус, обучить мастерству и что усвоение закономерностей, системы – фундамент, на котором только и может ученик развиваться. Понимал он также, что вся педагогическая работа с молодым пианистом протекает и не может не протекать в определенных рамках – рамках эстетической позиции обучающего и его взглядов на фортепианно-техническое мастерство. Но вместе с тем он был убежден, что обучение приносит плодотворные и “долгодействующие” результаты в том и только в том случае, если одновременно в сознание ученика закладываются и другие основы: желание и умение самому искать и способность… нарушать заветы учителя» [Там же. С. 116].
Только осмыслив собственно педагогическую работу Николаева, можно понять то, что до сих пор вызывает удивление у музыкантов: как у одного педагога могли вырасти сотни профессионалов, похожих друг на друга только мастерством, десятки совсем непохожих друг на друга музыкантов экстра-класса и три музыканта, к которым применяют уже проверенное временем определение «гений» – Д.Д. Шостакович, М.В. Юдина и В.В. Софроницкий. Попытки «отлучить» учеников от своего профессора, сказать о том, что они не следовали его методам, ничего не дали: об этом свидетельствует, в частности, письмо четырех крупнейших музыкантов – С.И. Савшинского, Н.Е. Перельмана, П.А. Серебрякова и Д.Д. Шостаковича – в редакцию журнала «Советская музыка» в 1961 г., в котором ученики, защищая память учителя, заявили, что Л.В. Николаев был для них не только «мудрым учителем фортепианной игры», но и человеком, сыгравшим решительную роль в их художественном формировании [6. С.108]. Это письмо, как и то, что будущие крупнейшие музыканты попадали в класс Николаева, как правило, подростками, не сформировавшимися ни музыкально, ни личностно, а выходили из него зрелыми музыкантами и людьми, говорят о несомненном сильном влиянии педагога на своих учеников, а также о том, что личности его учеников формировались не вопреки его педагогике, а напротив, являлись непосредственным ее результатом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что выдающиеся результаты педагогики Л.В. Николаева, подтвержденные именами и результатами работы его многочисленных учеников, порождены сочетанием в нем высокопрофессионального музыканта и столь же высокопрофессионального педагога, впервые осознанно и систематизированно применявшего в работе с учениками педагогические методы, направленные на развитие личности: расширение кругозора, воспитание умения мыслить и действовать самостоятельно, поощрение индивидуальности; а также делавшего это в безупречно корректной форме.
О методах работы Николаева, направленных на развитие интеллекта ученика, вспоминают многие. В.В. Софроницкий говорил о том, что он много играл с Николаевым в четыре руки (это действенный, а в эпоху отсутствия звукозаписи один из наиболее эффективных способов общемузыкального и общеинтеллектуального развития) [16]. С.И. Савшинский писал о том, что Николаев осознанно не только делал открытыми все свои уроки, но и настаивал на том, чтобы его студенты посещали занятия других профессоров. В первые годы своей работы он организовывал встречи учеников с А. Н. Скрябиным, Н.К. Метнером, В.И. Сафоновым, А. К. Глазуновым, понимая, какое влияние на молодых музыкантов способно оказать общение с выдающимися творческими личностями. «Не довольствуйтесь тем, что вы получаете в классе от меня, – говорил Л.В. Николаев. – Интересуйтесь всем, что есть на свете значительного в нашей области: ходите в концерты, садитесь поближе к исполнителю, внимательно прислушивайтесь и присматривайтесь к тому, что и как делает мастер. И без стеснения присваивайте все ценное» [51. С. 48].
Н.Е. Перельман, сам впоследствии выдающийся педагог, определял занятия Л.В. Николаева как «интеллектуальные пиры» [6. С. 150]. Отмечая емкость и точность этого определения, Л.А. Баренбойм приводит свою запись одного из уроков Л.В. Николаева: «Изучалась одна из поздних бетховенских сонат. Николаев обратил внимание на то, что у позднего Бетховена можно найти предвосхищения и Шумана, и Брамса, и даже Дебюсси. Последовало обобщение, аналогичное тому, которое было сделано на одной из его тогдашних лекций: “…великие люди часто не считались со своей эпохой. Часто говорят, что Глинка “обворовал” русских композиторов на 100 лет вперед. То же самое делал Бах и другие. <…> Но все это было “воровством” не назад, а вперед, это был “плагиат” из будущих времен”. После этих слов началось воистину музыкальное пиршество: Леонид Владимирович, державший в своей прямо-таки феноменальной памяти чуть ли не всю музыкальную литературу – старую и новую, инструментальную и вокальную, симфоническую и оперную, – стал приводить, начиная с Баха и Генделя, примеры “предугадываний”, “плагиатов из будущих времен”, давая попутно меткие, лаконичные характеристики всему, что попадалось по пути: музыкальным произведениям, откуда брались цитаты, композиторам, строению музыкальной речи, отдельным музыкальным оборотам. Неисчерпаемые музыкальные иллюстрации к высказываемым мыслям сыпались, как из какого-то рога изобилия. Это было путешествие по необъятной музыкальной литературе, по ходу которого Николаев проявлял тонкий ум, широту гуманитарных знаний, дар глубочайшего проникновения в музыку и способность увлеченно о ней говорить…» [6. С. 155 – 156].
О том, какое значение придавал Л.В. Николаев развитию индивидуальности учеников, свидетельствует «тезис четвертый» из его уже цитированной статьи: «В области художественного развития ученика учитель должен стараться развивать и расширять его индивидуальность, не давая ученику останавливаться на уже достигнутом. Со своей стороны учитель не должен замыкаться в рамках симпатии к какому-либо одному типу пианиста и, не считаясь с индивидуальностью учеников, изо всех сил стремиться выработать исполнителей именно этого типа» (цит. по: [Там же. С. 139]).
В этом тезисе предельно кратко сформулирована суть одного из основных недостатков, обычно свойственных педагогам, являющимся одновременно музыкантами-исполнителями: неспособность положительно оценивать проявления творческой индивидуальности иной направленности, нежели его собственная. С этой точки зрения, казалось бы, целесообразнее становиться педагогами тем музыкантам, которые в собственной исполнительской деятельности не достигают заметных успехов. Но справедлива и иная точка зрения: именно музыкант-исполнитель, сам владеющий художественным даром и мастерством, должен обучать молодежь. На пути разрешения этого противоречия и протекает обычно фортепианно-педагогический процесс. Большинство исполнителей решают это противоречие с ущербом для творческой индивидуальности учеников. Но выдающиеся музыканты-педагоги интуитивно берегут индивидуальность молодых музыкантов: так, можно вспомнить «педагогический» показ Н.Г. Рубинштейна, приспосабливавшегося не только к особенностям личности учеников, но и к уровню их мастерства, или то, как А. Г. Рубинштейн не позволял И. Гофману приносить на урок одно и то же произведение более одного раза, боясь смутить юношу богатством и многообразием своих художественных концепций.
Л.В. Николаев не только продолжил лучшие традиции предшественников в этом направлении, но фактически первым из музыкантов такого ранга осознанно и точно сформулировал свою позицию, пролагая, таким образом, пути для последователей. Как справедливо отмечает Л.А. Баренбойм, «Николаев принадлежал к тем истинным педагогам, кто способен был, с одной стороны, ликовать, наблюдая, как из его школы выходит яркий музыкант, вовсе на него не похожий, но выращенный именно его педагогическими стараниями; с другой стороны, испытывать удовлетворение и тогда, когда видел, как из сырого, иногда неподатливого материала его педагогические руки “формуют” пусть и не оригинального, но умелого музыканта-практика, рамки художественной индивидуальности которого, поначалу узкие, постепенно раздвигаются» [6. С. 140].
Ученики Л.В. Николаева и все, кому доводилось с ним общаться, вспоминают о его интеллигентности, сдержанности и величайшей корректности. По воспоминаниям С.И. Савшинского, Николаев никогда не повышал голоса; самым большим наказанием для студентов было огорчение профессора. Он всегда выслушивал исполнение студента до конца, как бы несовершенно оно ни было, что являлось не только методом формирования умения играть до конца в любой ситуации, ощущать целостность произведения и т.д., но и формой проявления уважения к ученику.
Л.А. Баренбойм называет стиль общения Л.В. Николаева «истинной интеллигентностью, проявлявшейся прежде всего в способности всегда и во всем быть самим собой – изысканно учтивым, доброжелательным и ироничным (подчас даже чуть саркастичным), ни перед кем не заискивающим и никому не угождающим. Он наделен был даром учить собой, своей личностью…» [Там же. С. 101].
Необходимо помнить, что Л.В. Николаев вел занятия на высоком уровне трудности, ставя перед учениками максимально сложные задачи. Ситуации, в которых ученики не справляются со своими задачами, как правило, вызывают раздражение или даже гнев педагогов. Неизменная подчеркнутая корректность Николаева в таких условиях являлась не только следствием его интеллигентности, но и выступала как целенаправленный метод обучения. Л.В. Николаев, очевидно, полагал, что педагогическое воздействие будет более эффективным в том случае, если обстановка на занятиях отличается доброжелательностью.
Подводя итог характеристике педагогической деятельности Л.В. Николаева, можно сделать следующие выводы.
Л.В. Николаев является не только основоположником ленинградской фортепианной школы, но педагогом-музыкантом, чья деятельность знаменует собой важный этап в профессиональном музыкальном образовании, связанном с обучением исполнительскому искусству. Л.В. Николаев воспринял от своих учителей и предшественников – педагогов-музыкантов ХIХ в. А. Г. Рубинштейна, Н.Г. Рубинштейна, В.И.Сафонова, С.И. Танеева и др. – традиции, основными принципами которых являлись приоритет содержания музыкального произведения над техническими средствами его воплощения; необходимость общемузыкального и общеинтеллектуального развития ученика; максимальная осознанность процесса освоения произведения; акцент на самостоятельность обучающихся; бережное отношение к творческой индивидуальности. Эти принципы, в деятельности предшественников Николаева прослеживавшиеся в виде интуитивного озарения, Леонид Владимирович систематизировал и применял осознанно и последовательно.
Принципы приоритета содержания над техническими средствами его воплощения, осознанности процесса освоения музыкального произведения и необходимости общемузыкального и общеинтеллектульного развития можно определить как предваряющие принципы развивающего обучения в фортепианной педагогике.
Л.В. Николаевым сформулирован принцип самостоятельности обучающихся фортепианной игре как необходимое условие их дальнейшего успешного профессионального развития. Этот принцип можно определить как предваряющий проблемное обучение.
Первым в педагогике музыкального исполнительства Л.В. Николаев отчетливо сформулировал принцип культивирования творческой индивидуальности ученика. В сочетании с доброжелательностью и корректностью атмосферы занятий, выступавшей в педагогике Николаева как педагогический метод, данный принцип позволяет говорить о предвосхищении им таких взаимоотношений педагога и ученика, которые в настоящее время определяются как педагогика сотрудничества.
Кроме того, Л.В. Николаев также первым в педагогике музыкального исполнительства определил основной недостаток школ, возглавляемых мастерами исполнительского искусства. Этот недостаток заключается в отсутствии педагогической базы, вследствие чего мастера способны передать ученикам только элементы собственного мастерства и собственное художественное видение мира. В процессе такой работы развитие индивидуальности ученика заменяется подражанием учителю; тормозится их самостоятельность; развитие интеллекта осуществляется бессистемно. Усвоив лишь ряд догматических положений, в слабой мере отражающих особенности личности учителя, ученики в большинстве оказываются неспособными передавать традиции далее. В результате постоянно, из поколения в поколение теряется ценный опыт мастеров исполнительского искусства.
Л.В. Николаев фактически заявил о необходимости того, чтобы музыкант, занимающийся преподаванием, владел не только собственным искусством, но и системой педагогических методов, направленных в первую очередь на развитие разных сторон личности ученика и только как следствие этого – на формирование мастерства. Применение им самим продуманной системы таких методов дало блестящие результаты.
Педагогической деятельности мастеров московской фортепианной школы (московской пианистической школы) – К.Н. Игумнова, А. Б. Гольденвейзера, С.Е. Фейнберга, Г.Г. Нейгауза – посвящено большое количество исследований (Д.Д. Благой, В.Ю. Дельсон, Б.Л. Кременштейн, Я.И. Мильштейн, А. А. Николаев, Т.Н. Хлудова, В.Н. Хорошина и др.) В этих исследованиях воссоздается творческий и педагогический облик мастеров московской фортепианной школы, выявляются их индивидуальные манеры и закономерности стиля преподавания. Однако предметом данных исследований является прежде всего творческий и исполнительский облик К.Н. Игумнова, А. Б. Гольденвейзера, С.Е. Фейнберга и Г.Г. Нейгауза, что естественно, так как в историю культуры они вошли в первую очередь как музыканты. Их педагогическая деятельность, во-первых, рассматривается чаще всего как одна из граней творчества мастеров, а не как самостоятельная ценность; во-вторых, при исследовании содержания педагогической деятельности изучаются преимущественно принципы и методы формирования фортепианно-исполнительского мастерства, а не принципы и методы формирования личности. Между тем, на наш взгляд, именно последние принципы и методы особенно важны в педагогическом наследии мастеров московской фортепианной школы.
Поиску общих закономерностей процесса обучения в классах К.Н. Игумнова, А. Б. Гольденвейзера, С.Е. Фейнберга, Г.Г. Нейгауза посвящено диссертационное исследование Е.И. Львовой «Выдающиеся советские педагоги-музыканты 30-х – 50-х годов (“московская пианистическая школа”) – их принципы и методы преподавания». Данное исследование представляет большую ценность, так как в нем на основе анализа способов работы над различными сторонами фортепианного мастерства (ритмом, звуком, техникой в широком смысле) делаются выводы о формировании в ходе этого процесса качеств личности учащихся: их эстетическом и духовном развитии, воспитании творческой активности и самостоятельности, развитии в ходе исполнительской работы всего комплекса музыкальных способностей, сферы эмоций и волевых качеств. В исследовании выявлены и обозначены методы работы К.Н. Игумнова, А. Б. Гольденвейзера, С.Е. Фейнберга, Г.Г. Нейгауза: наглядно-иллюстративный, словесный, метод действий «по образцу» и художественно-эвристический (поисковый). Все это дает возможность рассмотреть работу мастеров московской фортепианной школы в широком педагогическом ракурсе.
Константин Николаевич Игумнов (1873– 1948) – старший представитель московской фортепианной школы, соученик А. Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, Н.К. Метнера. Он учился в Московской консерватории у Н.С. Зверева, А. И. Зилоти, П.А. Пабста, В.И.Сафонова, С.И. Танеева, вобрав таким образом московские музыкальные и пианистические традиции конца 80 – 90-х гг. ХIХ в.
Игумнов никогда не принадлежал к пианистам-виртуозам, и, хотя он окончил Московскую консерваторию с золотой медалью, а в 1895 г. получил почетный диплом на конкурсе пианистов имени А. Рубинштейна, собственно техническая сторона его исполнения была относительно скромной. В его исполнении привлекало совсем другое: искренность чувств и необыкновенная простота, простота в высшем понимании этого слова. «Искусство его заключало в себе лучшие черты русской художественной культуры: оно было сильно своей глубокой жизненной правдой, в нем не чувствовалось ничего нарочитого, ложного, надуманного. Никогда не стремился он поразить публику фейерверком звучания, техническими трюками, никогда не пытался разукрасить и расцветить произведение, сделать его внешне более занимательным. Он словно вбирал в свою душу музыкальные образы, созданные композитором, и по-своему, по-игумновски, мягко, просто, без нажима раскрывал их слушателям», – писал ученик К.Н. Игумнова, видный пианист, педагог и исследователь Я.И. Мильштейн [18. С. 40].
Наиболее близка была исполнительскому таланту К.Н. Игумнова русская музыка, в особенности произведения П.И. Чайковского. Его исполнение «Времен года», «Большой сонаты» и других произведений Чайковского до сих пор остается непревзойденным по чистоте, искренности и непосредственности выражения, а также звуковому мастерству.
Все эти качества Игумнова-музыканта как продолжение его личностных качеств: скромности, аскетичности, высоких нравственных принципов, важны для понимания феномена игумновской педагогики. К.Н. Игумнов в течение почти 50 лет (с 1899 по 1948 гг.) являлся профессором Московской консерватории, дав начало целому направлению фортепианной педагогики, которое так и называют «игумновским». Он воспитал в общей сложности свыше 500 учеников, среди которых – такие выдающиеся музыканты разных поколений, как Н. Орлов, И. Добровейн, Л. Оборин, Я. Флиер, М. Гринберг, Я. Мильштейн, А. Бабаджанян, Б. Давидович, Н. Штаркман и др.
Его ученики Л. Оборин (первый советский победитель международного конкурса, получивший первую премию на 1 Международном конкурсе имени Шопена в 1927 г.) и Я.В. Флиер (лауреат Всесоюзного, Венского и Брюссельского конкурсов) сами стали выдающимися педагогами, продолжив «игумновское» направление фортепианной педагогики как «оборинское» и «флиеровское». «Оборинскую» ветвь в фортепианном исполнительстве и педагогике представляют такие мастера, как А. Бахчиев, Т. Алиханов, М. Воскресенский, Д. Сахаров, Э. Миансаров и др. Представители «флиеровской» ветви – Л. Власенко, Р. Щедрин, В. Постникова, В. Камышов, В. Фельцман, М. Плетнев и др. Несмотря на свой собственный высочайший исполнительский и педагогический статус, Л.Н. Оборин и Я.В. Флиер, как и другие крупнейшие ученики К.Н. Игумнова, всегда продолжали именовать себя «игумновцами», подчеркивая преемственность основных педагогических и исполнительских принципов.
Школа К.Н. Игумнова охватила весь мир (в пространственном отношении) и весь ХХ век (во временном). Его ученики работали и работают во многих странах мира. Первые выпускники К.Н. Игумнова покинули его класс в начале ХХ века; его самые младшие ученики Б.М. Давидович (профессор Джульярдской школы в США) и Н.Л. Штаркман (профессор Московской консерватории) перенесли традиции учителя в ХХI век, являясь ведущими профессорами наиболее авторитетных музыкальных учебных заведений мира.
Все это позволяет считать фортепианную педагогику К.Н. Игумнова крупнейшим явлением в мировой музыкальной педагогике и требует тщательного ее анализа. Масштабный труд об исполнительской и педагогической деятельности своего учителя создал Я.И. Мильштейн. Воссоздавая облик К.Н. Игумнова – музыканта и педагога – Я.И. Мильштейн основное внимание уделяет творческому облику учителя и его фортепианно-методическим принципам. Наблюдения о педагогических принципах и методах К.Н. Игумнова, его взаимодействии с учениками, работе, направленной на формирование качеств личности учеников, сделанные Я.И. Мильштейном, представляют большую ценность.
Основой исполнительской концепции Игумнова было стремление к содержательному исполнению. Это определяло и приоритеты его педагогической работы. Он, по воспоминаниям Я.И. Мильштейна, органически не выносил чисто виртуозной, бессодержательной, быстрой и громкой игры. «Громкая игра, – говорил Константин Николаевич, – признак пустоты» [37. С. 44]. Другой его ученик, Н.Л. Штаркман, поступил в класс Игумнова, имея репутацию юного виртуоза и увлекаясь быстрой, громкой игрой. На одном из первых занятий Игумнов сказал ему: «Что ты шумишь? Ты ведь лирик!» [53. С. 12]. Штаркман вспоминал, как его поразили слова профессора. «Я этого не знал, – говорил он впоследствии, – и как он сумел во мне это почувствовать, для меня остается загадкой» [Там же]. Впоследствии Штаркман стал одним из крупнейших пианистов лирико-романтического направления.
От всех учеников К.Н. Игумнов требовал при работе над любым произведением подходить к нему «изнутри». Это означало, что цель занятий не тренировка пальцев, а тренировка слуха и внимания. «Тренировать ухо гораздо сложнее, труднее, чем тренировать пальцы», – говорил Константин Николаевич [37. С. 147].
Большое значение Игумнов придавал умению охватить целостность формы музыкального произведения. Он требовал от студентов умения «выстроить» крупные сочинения, – например, сонату Листа h-moll. Игумнов говорил: «Ты должен чувствовать себя полководцем, сидящем на командном пункте, и в нужный момент давать команды: “Кавалерия! Артиллерия! Танки! Пехота”», то есть настолько владеть формой, чтобы уметь в нужный момент делать все необходимое. Но это не означало, что в каждом исполнении нужно одинаково повторять предыдущее. Игумнов говорил: «Одинаково каждый раз можно играть первую и последнюю ноту и вовремя построить кульминацию. Все остальное должно меняться, жить. Это не значит, конечно, что грустное можно играть весело, а веселое – грустно. Все должно быть логично» [53. С. 13].
Если сопоставить К.Н. Игумнова с Л.В. Николаевым или их общим учителем В.И. Сафоновым, то Игумнов и как исполнитель, и как педагог отличается от них приоритетом эмоционального начала над рациональным. Однако приведенные выше высказывания (и многие им подобные) свидетельствуют о том, что принятое противопоставление «рационального» и «эмоционального» в педагогике исполнительства носит во многом внешний характер. Подобно тому как Л.В. Николаеву его «рационализм» не помешал воспитать учеников, отличавшихся преимущественно эмоциональным отношением к искусству, К.Н. Игумнов – при всем своем интуитивно-эмоциональном артистическом складе – и в построении собственного интерпретаторского плана, и в занятиях с учениками отличался систематичностью и продуманностью. Все это свидетельствует о той важной роли, которую он отводил интеллектуальному развитию учеников, поскольку и для глубокого постижения содержания музыки, и для построения плана интерпретации необходимо постоянное интенсивное развитие интеллекта.
Важнейшим отличительным свойством школы Игумнова является звуковое мастерство. Об этом невозможно не упомянуть, несмотря на то, что звуковое мастерство на первый взгляд не имеет отношения к формированию качеств личности и является одной из составляющих профессионального мастерства пианиста.
По воспоминаниям Н.Л. Штаркмана, у Игумнова было в общей сложности более 500 учеников; все очень разные, но всех объединяло одно – хорошее звучание рояля. «Рояль – клавишный инструмент, а не ударный, – говорил Константин Николаевич. – Не надо бить клавиши, надо их ласкать!» [Там же. С. 12]. Умение «петь» на рояле было главным отличительным свойством и самого Игумнова, и его учеников. Он учил извлекать бесконечное число оттенков f и p, тончайшим градациям педали, приемам, позволяющим достичь тембрового разнообразия. Опытные музыканты даже сейчас, спустя более чем полвека после смерти Игумнова, отличают его учеников и даже в ряде случаев учеников его учеников только по звучанию инструмента.
На наш взгляд, в данном случае нельзя относить работу над звуком к составляющим «чистого мастерства». Игумнов не позволял ученикам искать колористические эффекты, оторванные от содержания музыки. Звучание рояля для Игумнова было категорией не только эстетической, но в первую очередь содержательной; на первый план выступала интонация как носитель смысла в музыке. Именно осмысленностью музыкальной речи и умением воплощать этот смысл благодаря тонкому мастерству звукоизвлечения отличаются ученики Игумнова. В этом отношении Игумнов и его школа в наибольшей мере воплотили и развили традиции «пения на инструменте», свойственные русской исполнительской школе вообще и в фортепианной педагогике идущие главным образом от А. Г. Рубинштейна. Эти традиции в целом и школа Игумнова в частности требуют от исполнителя и обучающегося исполнительскому искусству осмысленного отношения к содержанию музыки, сложного сплава рационального и эмоционального (поскольку интонация воплощает и то, и другое), а также мастерства в передаче этого смысла, причем такого мастерства, где умение передать нужное звучание ценится более, чем распространенное умение играть «громко и быстро». Игумнов, таким образом, на высочайшем уровне мастерства (и исполнительского, и педагогического, так как сумел передать свое мастерство ученикам) проводил такие принципы, как приоритет содержания музыки над техникой и развитие интеллекта обучающихся.
Еще одним важным отличительным признаком педагогики Игумнова было стремление научить ученика работать самостоятельно. Он никогда не подменял подлинное воспитание ученика «натаскиванием», говоря, что «начинка рано или поздно все равно вывалится» [37. С. 142]. «Нет, это ужасно, – говорил он в свойственной ему образной манере, – … что ученики смотрят на меня как на какой-то склад, как на универмаг, из которого в случае нужды можно получить все, что в данный момент нужно… А я не хочу быть универмагом: пускай они сами находят то, что им нужно; мое дело – им помочь, а не давать свои чувства напрокат» [Там же]. И еще добавлял: «У меня не набор отмычек» [Там же].
Н.Л. Штаркман, поступивший в класс Игумнова в 1944 г., в последний период жизни и творчества профессора, вспоминает, что за три с половиной года занятий с ним было пройдено большое количество произведений, но работа над многими из них не доводилась до конца. Игумнов не занимался мелочной отделкой произведений, как говорят исполнители, не «вылизывал» репертуар. Он стремился успеть подготовить Штаркмана к самостоятельному концертированию, научить его «играть разную музыку по-разному», то есть самостоятельно разбираться в различных формах и стилях. Штаркман часто слышал от Игумнова слова: «Ты будешь потом играть это произведение» [53. С. 14].
Игумнов не просто бережно относился к индивидуальности своих учеников, но буквально культивировал ее, «растил индивидуальные ростки» [53. С. 18]. Более всего он боялся превращения художественного процесса обучения в механическое фабричное производство, где ученики – сырой материал, а педагоги лишь формируют этот материал и выпускают его «потоком». Ничто он не уважал так глубоко, как индивидуальность ученика (Я.И. Мильштейн).
Игумнову, как и его предшественникам – братьям Рубинштейнам, В.И. Сафонову – было свойственно сочетание интерпретаторской свободы с бережным отношением к авторскому тексту. В статье «Мои исполнительские и педагогические принципы» Игумнов писал: «Автор и исполнитель. Необходимо подчеркнуть значение исполнительского творчества. Авторский текст – лишь архитектурный чертеж. Разгадка и выполнение его – в этом роль исполнителя. Основой для исполнительского творчества являются все авторские (но не редакторские) указания (темп, лиги, динамика)» [18. С. 144]. В этом высказывании коротко сформулирована диалектическая суть отношения к авторскому тексту: основа – незыблема, все остальное (относящееся к компетенции редактора) интерпретатором должно быть переосмыслено в соответствии со своей индивидуальностью. Того же Игумнов требовал и от своих учеников, пресекая попытки произвольного изменения авторского текста, достаточно распространенные и даже «модные» в тот период.
Анализируя общие педагогические принципы мастеров московской пианистической школы, Е.И. Львова, в частности, делает вывод о том, что одним из принципов являлось «постижение авторского (композиторского) замысла – в его художественно-объективной сущности вне каких-либо субъективных отклонений и искажений» [31. С. 14]. «Тем самым, – пишет далее автор, – приобретает большое значение не только профессиональный, но и морально-этический аспект в процессе воспитания учащихся-музыкантов» [Там же]. Следует подчеркнуть важность этого вывода. Отношение исполнителя к авторскому тексту – феномен не только эстетический, но и нравственный. Одной из причин многочисленных отступлений, искажений, дополнений и т.д., как правило, является самолюбование исполнителя, его желание «поднять» себя (при отсутствии более достойных средств). Подлинно бережное отношение к тексту служит методом воспитания не только исполнительской, но и человеческой скромности.
Сам Игумнов, по воспоминаниям тех, кто его близко знал, являл собой образец и музыканта, и человека. «Несмотря на внешнюю сдержанность и даже суховатость, Константин Николаевич был очень добрым человеком, всегда помогал ученикам, – вспоминает Н.Л. Штаркман. – Правда, он не умел “устраивать” своих учеников… Игумнов мог помочь только материально, причем делал это так деликатно, чтобы студент ни о чем не догадался. Сам он жил чрезвычайно скромно. Его называли совестью консерватории» [53. С. 15].
Отношение Игумнова к ученикам, внешне сдержанное, отличалось человеческой теплотой, и это служило основой особой атмосферы искренности и совместного творчества ученика и учителя. Игумнов никогда не повышал голоса и не хвалил учеников. После классных концертов, имевших, как правило, успех, ученики, слушая многочисленные похвалы и замечания, более всего ждали реакции своего учителя. Игумнов обычно произносил одну и ту же фразу: «Ну вот и сыграли» [Там же. С. 14]. По тому, как он это произносил, а также по его глазам они определяли, как именно они сыграли. Официальные оценки практически не имели для учеников Игумнова значения по сравнению со столь немногословной оценкой учителя. Это характеризует степень их доверия и своеобразной ученической преданности.
Подводя итоги, можно следующим образом сформулировать содержание основных педагогических принципов К.Н. Игумнова:
приоритет содержания музыки над техническими средствами. Этот принцип в педагогике Игумнова реализовывался и путем всестороннего анализа произведения, и неприятием «внешних», чисто виртуозных моментов (при высокопрофессиональной работе по выработке технического мастерства), и достижением особого, «игумновского» звучания как основного средства передачи смысла музыки;
интеллектуализация процесса обучения. Этот принцип тесно связан с предыдущим и служит условием его реализации;
активизация познавательной деятельности учеников, направленная на развитие их творческой активности и самостоятельности;
индивидуализация процесса обучения и воспитания;
взаимное доверие и совместное творчество учителя и учеников на занятиях;
нравственная направленность обучения исполнительскому искусству, выражающаяся в бережном отношении к авторскому тексту и воспитании исполнительской и человеческой скромности учащихся.
Таким образом, несмотря на различия исполнительского и педагогического облика, несомненно существовавшие между Л.В. Николаевым и К.Н. Игумновым, выявляются не вызывающие сомнения точки соприкосновения, общие педагогические принципы. Различия в меодах их реализации, отражающие индивидуальность музыкантов (приоритет рационального начала у Николаева, преимущественно эмоциональное отношение к музыке и акцент на звуковую сторону в ее передаче у Игумнова), с педагогической точки зрения носили частный характер. Александр Борисович Гольденвейзер (1875–1961) – основатель другой ветви московской фортепианной школы, которая, имея общие корни с игумновской, обладает присущими только ей отличительными особенностями. Эти особенности проистекают из свойств личности Гольденвейзера.
Уникальность личности Александра Борисовича прослеживается сразу по нескольким направлениям: разносторонности его деятельности (композитор, пианист, педагог, редактор, ученый-искусствовед, публицист, общественный деятель), причем в каждой из этих сфер он действовал чрезвычайно активно; творческому и педагогическому долголетию – он прожил 86 лет, из которых 55 лет был профессором Московской консерватории, а общий педагогический стаж его составлял 71 год; наконец, по невероятной широте, богатству и разнообразию творческих контактов. В юности он был знаком с П.И. Чайковским и слушал игру Антона Рубинштейна; Н.А. Римский-Корсаков, А. К.Глазунов, С.И. Танеев, В.И.Сафонов, А. С.Аренский, А. И. Зилоти были его учителями и впоследствии друзьями; С.В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Н.К. Метнер, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, К.Н. Игумнов, Г.Г. Нейгауз – коллегами-ровесниками. Конечно, такое богатство профессиональных контактов оказывало огромное влияние на содержание педагогической деятельности А. Б. Гольденвейзера.
Среди его учеников (которых в целом более 200) – такие выдающиеся музыканты, как С.Е. Фейнберг, Г.Р. и Я.Р. Гинзбурги, Д.Б. Кабалевский, Д.Д. Благой, Т.П. Николаева, А. А. Николаев, Л.Н. Берман, Д.А. Башкиров, Р.В. Тамаркина и мн. др.
Не менее разнообразен был и круг внемузыкальных знакомств А. Б. Гольденвейзера: в него входили Л.Н. Толстой, М.Горький, А. П.Чехов, И.А. Бунин, а также многочисленные ученые, артисты, художники, кинематографисты. Жизнь Гольденвейзера вобрала в себя все самое яркое и интересное в отечественной культуре на протяжении почти столетия.
А. Б. Гольденвейзер учился, как и К.Н. Игумнов, у А. И.Золоти и П.А. Пабста по фортепиано, у В.И. Сафонова по камерному ансамблю и у С.И. Танеева по теории и композиции и также был удостоен по окончании консерватории золотой медали. Как и Игумнов, Гольденвейзер не отличался пианистической виртуозностью. Его игра привлекала строгой логической выверенностью конструкции в целом и всех деталей, пониманием стиля, пианистическим мастерством в широком смысле этого слова. На его исполнение накладывали отпечаток и собственное композиторское мышление, и опыт редактора.
Из многочисленных редакторских работ А. Б. Гольденвейзера наиболее известна его редакция 32 сонат Бетховена. Для Гольденвейзера-редактора свойственно прежде всего скрупулезное отношение к авторскому тексту. Его редакции основаны на тщательном изучении всех авторских указаний и сравнении имеющихся редакций. В сонатах Бетховена Гольденвейзер проставил от себя только педализацию и аппликатуру, объяснив при этом их относительность: он полагал, что учащимся эти указания принесут пользу на определенном этапе их развития, а зрелые артисты все равно не будут воспринимать готовые указания, так как их возможности применения аппликатурных вариантов и в особенности педали значительно шире, чем это в принципе можно зафиксировать в записи.
Отношение к авторскому тексту Гольденвейзераредактора составляло также одну из концептуальных основ его педагогики. Он подходил к педагогическому процессу как исследователь и одну из своих первых задач видел в определении сущности искусства интерпретации, что давало ученикам ключ к их последующей работе над любым музыкальным произведением.
Педагогические и нравственные аспекты проблемы отношения к авторскому тексту уже затрагивались в нашем исследовании. Российским музыкантам свойственно было бережное отношение к воле автора, зафиксированной в нотной записи, а также неприятие модного в конце ХIХ – первой половине ХХ вв. стремления ряда музыкантов проявлять свою индивидуальность путем искажения композиторского замысла.
А. Б. Гольденвейзер со свойственными ему методичностью и способностью к научному анализу проблемы (качествами, редкими среди музыкантов-исполнителей) суммировал многочисленные разрозненные высказывания своих предшественников и коллег по этому вопросу и создал собственную концепцию. Анализируя сущность музыки как вида искусства, он указал, что, в отличие от живописи, архитектуры и других видов искусств, где произведение, созданное автором, целиком готово к восприятию, композитор фиксирует музыкальное произведение с помощью сложной системы знаков, выработанной в течение столетий. Произведение в том виде, как написал его композитор, является лишь потенциально звучащей музыкой, и для того, чтобы оно зазвучало реально, необходим посредник-исполнитель. Роль этого посредника чрезвычайно велика, поскольку всякая музыкальная запись является приближенной. В полной мере замысел автора не поддается фиксации, так как и взаимоотношения звуков по высоте могут быть записаны лишь условно, и живой ритм невозможно записать с помощью метрической схемы. Существуют также всевозможные обозначения ритмических и динамических оттенков и темпов, где композиторы далеко не в равной мере ясно и подробно выражают свои намерения. Вообще всякое обозначение – allegro, andante, forte, piano и т.д. – зависит в конце концов от исполнителя, и абсолютная его значимость никаким обозначением точно зафиксирована быть не может.
На основании этого Гольденвейзер сделал вывод, что обязанностью исполнителя является прежде всего точное воспроизведение того минимума, который зафиксирован в нотах, а уже на этой основе проявление своей творческой индивидуальности. Гольденвейзер горячо протестовал против ложного понимания свободы в интерпретации. «Индивидуальность исполнителя, – говорил он, – никогда не убьешь самым точным выполнением указаний автора, если эта индивидуальность действительно яркая. Проявляется она в таких бесконечно малых штрихах, которые нельзя обозначить никакими нотными знаками и с которых, собственно, только и начинается истинное искусство исполнителя. Те же исполнители, которые прежде всего стараются идти во что бы то ни стало вразрез с указаниями автора, обнаруживают этим по большей части только отсутствие у них собственной яркой индивидуальности» [21. С. 15].
По мнению Гольденвейзера, проявление индивидуальности, то есть собственно интерпретация, будет значительно только тогда, когда музыкант обладает широкими и разносторонними знаниями и внутренней культурой. «Музыкант-исполнитель, – говорил он, – должен стремиться к тому, чтобы быть на уровне духовной культуры и внутренней значительности автора. Как бы хорошо исполнитель ни владел мастерством, если он сам незначительный человек и ему самому нечего сказать слушателю, его воздействие будет ничтожно» [21. С. 55].
Энциклопедические знания А. Б. Гольденвейзера, его наблюдательность и исключительная память поражали учеников и коллег. Глубочайший знаток творчества русских и зарубежных классиков, редактор всех фортепианных произведений Бетховена и Шумана, сонат и ряда концертов Моцарта, сонат Скарлатти и многих других сочинений, Гольденвейзер приучал студентов к тщательному анализу произведений, разъяснял стилевые особенности, приводя примеры из других сочинений данного автора, сравнивая различные толкования текста.
Гольденвейзер диалектически подходил к проблеме соотношения развития личности учащегося и обучения необходимым техническим умениям и навыкам. Он говорил: «Основная проблема педагога – воспитание музыканта. В то же время педагог должен дать исполнителю то, что называется школой, то есть сообщить ему технически целесообразные принципы использования своего тела, добиваясь того, что является целью всякой техники, то есть максимальной экономии времени, силы и движений; воспитывать в нем умение работать и слушать себя и, главное и одно из труднейших, – сообщив ему общие, основные принципы и установки, в то же время не помешать естественному развитию его индивидуальности» [Там же. С. 54].
Подчеркивая взаимосвязь развития индивидуальности и самостоятельности мышления ученика, Гольденвейзер говорил: «Величайшей опасностью всякого обучения музыканта-исполнителя является сообщение ему какого-то трафарета, шаблона, штампа, это – смерть для искусства. Таким образом, работа педагога, помогающего музыкальному человеку развиваться в профессионала-музыканта, является своеобразным диалектическим процессом, который, с одной стороны, определяется стремлением к сохранению его личности, его неповторяемой индивидуальности, с другой стороны, подчиняется необходимости привить ему общие принципиальные установки, которые способствовали бы естественному развитию индивидуальности» [Там же].
Среди педагогов, являвшихся крупными музыкантами, А. Б. Гольденвейзер выделялся тем, что любил и умел заниматься не только со взрослыми студентами, но и с детьми. По его инициативе в 1931 г. была создана особая группа для одаренных детей, впоследствии преобразованная в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. В классе Гольденвейзера в 1930-е гг. занимались совсем юные музыканты – Р. Тамаркина, А. Каплан, позднее – Т. Николаева (все впоследствии – известные музыканты). Гольденвейзер, по воспоминаниям его ученицы и ассистента Л.М. Левинсон, «…очень любил свою работу с детьми, говорил с ними просто… чрезвычайно терпеливо с ними занимался. Удивительно правильно оценивал он и одаренность каждого ребенка, безошибочно ставил “диагноз”. Дети его прекрасно понимали, любили и уважали» [21. С. 378 – 379].
А. Б. Гольденвейзер говорил, что молодые педагоги слишком «разжевывают», «прилизывают», «лакируют» исполнение учащихся-детей [Там же. С. 379]. Его озабоченность этой проблемой свидетельствует о том, что Гольденвейзер считал необходимым развитие самостоятельности учеников начиная с самого раннего этапа обучения. Принятая в педагогической практике, в особенности в работе с детьми, практика, при которой педагог тщательно «отделывает» с учеником произведение, то есть сообщает ему готовую к усвоению информацию и приучает «с рук» перенимать навыки, приводит к формированию инертных, способных только усваивать готовое студентов. «Я стараюсь научить своих учеников работать и уметь достигнуть положительных результатов в работе с максимальной экономией времени и сил», – говорил он (курсив мой – Е.Ф.) [Там же. С. 379].
Анализируя содержание педагогической деятельности А. Б. Гольденвейзера, нельзя не остановиться на таком методе, как метод парадоксальных сравнений. Многие ученики отмечали, что Гольденвейзеру не были свойственны поэтизированные словесные описания музыки; он изъяснялся точно и лаконично. Однако при этом Гольденвейзер часто, для того чтобы показать ученику его ошибку, прибегал к следующему методу: приводил далекий от музыки жизненный пример и неожиданно сопоставлял описываемую ситуацию с исполнением студента. Это неизменно оказывало молниеносное воздействие двоякого рода: студент ясно видел ошибку, а комичность сравнения заставляла его в последующем избегать ее повторения. Вот примеры таких парадоксальных сравнений (в записи учеников А. Б. Гольденвейзера Л.И. Ройзмана, Д.А. Паперно и В.П. Папандопуло):
Проаккомпанировав студенту 1 часть Пятого концерта Бетховена, Гольденвейзер не спеша говорит: «Я знал одного глухонемого, который прекрасно научился понимать речь по губам и сам выучился говорить. Он посещал лекции, слушал профессоров, но когда сам говорил, то не менял интонации, держась все время как бы на одной ноте. Это было очень утомительно для окружающих. Вот Ваша игра производит на меня точно такое же впечатление. Больше пяти минут невозможно слушать!» [21. С. 329].
По поводу несколько судорожного, нервного и неритмичного исполнения концерта Моцарта Ми-бемоль мажор: «…К нам летом пристала собака, белая лайка. Хорошая собака… но иначе, как на цепочке, с ней гулять нельзя. Так вот, когда я играю с Вами концерт Моцарта, у меня полное ощущение прогулки с моей лайкой – меня куда-то неудержимо тащит, и я не в силах сопротивляться!» [Там же].
Студент принес на урок «Игру воды» Равеля и играет пьесу очень тяжеловесно. Гольденвейзер внезапно спрашивает: «Ты видел картину “Советские китобои”»? – «Да, Александр Борисович, – отвечает озадаченный ученик, – а что?» – «Видишь ли, твое исполнение могло бы служить хорошей музыкальной иллюстрацией к этому фильму» [Там же. С. 402].
«У тебя на первом месте руки, потом мозги, а потом Бах, а надо как раз наоборот: сначала Бах, потом мозги и только в последнюю очередь руки. Так потрудись, пожалуйста, сделать эту маленькую перестановку» [Там же. С. 388 – 389].
По поводу исполнения «Карнавала» Шумана: «Впечатление, как будто Флорестан с Эвсебием подрались, и мы явились свидетелями этой драки» [Там же. С. 390].
Эти и другие многочисленные примеры свидетельствуют не только об остроумии, а о продуманном методе, позволяющем чрезвычайно лаконично и образно разъяснить суть сложного явления.
Все, кто писал воспоминания о Гольденвейзере, отмечали его необыкновенную любовь к ученикам, в которой его нередко даже упрекали. «Об А. Б. Гольденвейзере часто говорили, что он “слишком любит своих учеников и всегда стремится их выдвигать”, – писал его ученик, известный пианист и органист Л.И. Ройзман. – Мне кажется, что это высшая похвала, которую может заслужить педагог. Чего стоит учитель, бесстрастно, формально относящийся к своим ученикам, педагог, честно, но холодно выполняющий свои обязанности, профессор, начиняющий студентов знаниями, но не пытающийся зажечь их сердца собственным душевным пламенем? Ведь такая отдача создает взаимную привязанность; не только ученики тянутся к учителю, но и учитель начинает ощущать внутреннюю связь с каждым из своих питомцев» [Там же. С. 328].
Вот что говорил А. Б. Гольденвейзер об отношении к ученикам: «Я призываю вас любить своих учеников. Равнодушный учитель – это уродливо. Если педагог при появлении в классе еще одного ученика думает: “Черт, еще один, а ведь пора обедать”, – ему следует менять профессию. Нехорошо, когда учитель раздражителен, нервничает, кричит на учеников. Но это много лучше, нежели педагог безучастный. Ученики простят учителю вспыльчивость, резкость, даже иной раз грубость, если они идут от желания, чтобы ученик играл хорошо. Но ученики ненавидят учителей равнодушных. Если вы не любите детей, откажитесь от профессии учителя» [21. С. 403].
Для Гольденвейзера это были не просто слова; он постоянно подтверждал их на протяжении всей своей 70-летней педагогической работы. Наблюдением о том, что ученики простят учителю резкость и даже грубость, если они идут от желания, чтобы ученик хорошо играл, Гольденвейзер объясняет наблюдавшийся в классах многих выдающихся музыкантов парадокс: несмотря на периодическую резкость и вспыльчивость педагога, в классе царит атмосфера сотрудничества. Об этом, в частности, свидетельствовали и многие ученики Н.Г. Рубинштейна, который мог вспылить и накричать на ученика, но которого ученики очень любили. Так, Э. Зауэр, написавший множество восторженных слов о Н.Г. Рубинштейне, всю жизнь бережно хранил ноты, в которых рукой Н.Г. Рубинштейна было вписано «Осел» (26. С. 17). Это означает, что внешняя резкость не мешает ученикам увидеть внутренние качества учителя: неравнодушие и страстное желание научить их тому, что он знает и умеет сам, идущее от желания принести ученику добро.
Об атмосфере сотрудничества, характерной для класса Гольденвейзера, свидетельствует то, что его ученики, как правило, не интересовались отметками, которые выставила им комиссия. Вот что пишет Л.И. Ройзман: «Современные студенты, вероятно, очень удивятся, если узнают, что мы – студенты тридцатых годов – никогда не знали, а главное – совершенно не интересовались тем, какую отметку нам поставили на том или ином закрытом или открытом вечере!
Теперь, когда среди студентов непомерно развит, я бы сказал, узкопрактический интерес к отметке, когда студент с остроуязвленным самолюбием воспринимает какую-нибудь “четверку”, – вероятно, очень странно прозвучит утверждение, что тридцать лет тому назад в классе А. Б. Гольденвейзера студента интересовало (и глубоко интересовало!) лишь мнение профессора, его отзыв и его критика. Никому и не приходило в голову спрашивать учителя: “А что мне поставили?” Это было бы просто дико. Зато всегда спрашивали: “Александр Борисович, а как я играл?” И с трепетом ждали ответа» [21. С. 332–333]. И далее: «Ничего, конечно, нет удивительного, что большинство учеников любило А. Б. глубоко и горячо. Эта привязанность, в которой сочетались многие сложные чувства, обычно была, что называется, “на всю жизнь” и не прекращалась, конечно, с окончанием учебы в консерватории» [Там же].
При этом Гольденвейзер отнюдь не был «добреньким» к своим ученикам; он отличался непримиримостью к серьезным недостаткам как исполнения, так и поведения учеников. Реагировал он на них в свойственной ему язвительной манере, что оказывало действие порой более сильное, чем резкий окрик или нравоучения. Л.И. Ройзман вспоминает эпизод, в котором студенты, находящиеся в классе во время исполнения концерта Моцарта, стали громко разговаривать. «Вдруг их уши уловили негромкую фразу А. Б. (он не повернулся к ним, продолжая спокойно играть): “Так как мы не можем перейти вместе с роялем в коридор играть концерт Моцарта, то те, кому мешает концерт Моцарта, пускай уж перейдут сами в коридор”» [Там же. С. 330].
Ученик и воспитанник А. Б. Гольденвейзера, впоследствии крупнейший пианист, профессор Г.Р. Гинзбург обратил внимание студентов на педагогическое мастерство своего учителя. «Посмотрите, что делается в классе Александра Борисовича, – сказал он. – Несмотря на огромную загруженность, ученики его класса всегда точно и безоговорочно делают все, что им скажет Гольденвейзер. Казалось бы, как ученик может ослушаться своего учителя? Однако я, как профессор консерватории, должен вам сказать, что не только в детской школе, но даже и в вузе далеко не всякому педагогу удается добиться безоговорочного выполнения учениками своих указаний. А вот у Александра Борисовича и дети и взрослые не только безоговорочно, но всегда на большом подъеме, с энтузиазмом выполняют его указания. Я не помню, чтобы у Александра Борисовича кто-либо из учеников не приготовился вовремя к назначенному им концерту» [Там же. С. 405].
Без сомнения, огромное воздействие на учеников всех возрастов оказывал личный пример Гольденвейзера. «Личный пример Александра Борисовича, человека необычайно точного и обязательного, его знания, его душевная теплота, часто скрытая внешней суховатостью, но всегда ощущаемая его учениками, гигантская его воля, целеустремленность оказывали на учеников огромное влияние, формировали их характер, мировоззрение, жизненные привычки», – вспоминал Н. Гончаров [21.С.405].
Незадолго до своей кончины, в преклонном возрасте, А. Б. Гольденвейзер обратился к большой детской аудитории со словами, которые можно считать его духовным завещанием: «Дорогие ребята! Преклонные годы позволяют мне обратиться к вам с некоторыми советами. Как-то выдающийся пианист Иосиф Гофман сказал, что подходить к роялю нужно с чистыми руками. Я бы сказал, что у музыканта должно быть прежде всего чистое сердце. Только тот человек, у кого сердце чистое, наполненное любовью к людям, чей ум пытливо всматривается в жизнь, чье сердце способно горячо чувствовать, руководится высокими идеалами и горит желанием вторгаться в жизнь, чтобы сделать ее прекраснее, кто хочет служить своему народу, – способен стать настоящим музыкантом. Поэтому позаботьтесь прежде всего о своем умственном и нравственном совершенствовании. На долгом жизненном пути я встречал немало музыкально одаренных людей, но в силу того, что мир их духовной жизни был скуден, а нередко и убог, их способности оказывались пустоцветом» [21. С. 407]. В этих словах сконцентрирована суть понимания Гольденвейзером миссии музыканта и педагога, а также основного содержания работы по воспитанию музыканта. Если сопоставить педагогический стиль А. Б. Гольденвейзера со стилями Л.В. Николаева и К.Н. Игумнова, то обращают на себя внимание внешние различия и внутреннее сходство. К различиям можно отнести то, что Л.В. Николаев и А. Б. Гольденвейзер в исполнительстве и педагогике шли преимущественно рациональным путем, а К.Н. Игумнов – преимущественно от эмоционального постижения музыки. В то же время Л.В. Николаева и К.Н. Игумнова объединяла предельная сдержанность, а А. Б. Гольденвейзер отличался подчас резкостью.
Вместе с тем в педагогическом облике всех названных мастеров много общего, причем общее принадлежит к особенностям их художественного и человеческого мировоззрения и выражается в определенной системе принципов и методов.
Всех названных педагогов-музыкантов отличало неприятие внешнего, поверхностного в искусстве, выражающееся в приоритете содержательного начала над техническим. Отсюда – важнейший общий педагогический принцип, который можно сформулировать как движение от внутреннего к внешнему, от художественного образа к его воплощению. С этим принципом тесно связан другой – принцип интеллектуализации обучения. Интеллектуальное развитие учащихся ставилось мастерами выше, чем фортепианно-техническое (в то время как именно последнее столетиями доминировало в фортепианной педагогике).
Реализация этих принципов осуществлялась разными мастерами по-разному. В классе Николаева преобладающее значение имел детальный разбор содержания и формы произведения, а также осознанный выбор методов и приемов педагогического взаимодействия с учениками. В классе Игумнова все названное имело место, но главная роль отводилась работе над звучанием как основным носителем музыкального смысла (при том, что и в классах Николаева и Гольденвейзера, разумеется, работе над звучанием также отводилась важная роль). Гольденвейзер в работе с учениками шел от своей концепции, выражающей сущность искусства интерпретации и определяющей степень интерпретаторской свободы исполнителя. Из этой концепции проистекала и тщательная работа над содержанием и формой произведения, и поиск нужного звучания, и работа над ритмом, и работа по повышению интеллектуального уровня учащихся.
Еще один общий принцип мастеров ленинградской и московской фортепианно-педагогической школ – активизация познавательной деятельности учеников, направленная на повышение их самостоятельности. Данный принцип последовательно проводился Л.В. Николаевым, К.Н. Игумновым и А. Б. Гольденвейзером.
Бережное отношение к индивидуальности ученика, свойственное всем названным мастерам, свидетельствует о том, что одним из основных педагогических принципов был принцип индивидуализации обучения.
Наконец, принципы фортепианной педагогики и методы в области межличностного взаимодействия педагога и учащихся у трех мастеров также схожи. Несмотря на различные индивидуальности, они считали необходимой атмосферу доброжелательного сотрудничества в классе и умели ее создавать, поэтому можно говорить о принципе сотрудничества в педагогике названных музыкантов.
Необходимо назвать также нравственно-этическую направленность обучения и воспитания в классах Л.В. Николаева, К.Н. Игумнова и А. Б. Гольденвейзера. Являя собой образец бескорыстного служения искусству и ученикам, они требовали от учеников нравственного соответствия содержанию исполняемой музыки как условия его постижения.
Проанализировав педагогическую деятельность Л.В. Николаева, К.Н. Игумнова и А. Б. Гольденвейзера как старших мастеров отечественной фортепианной педагогики ХХ в., продолжающих традиции от С.И. Танеева и В.И. Сафонова – преемников братьев Рубинштейнов, необходимо обратиться к двум младшим представителям российской фортепианной педагогики ХХ столетия – С.Е. Фейнбергу и Г.Г. Нейгаузу.
Самуил Евгеньевич Фейнберг (1890–1962) занимает особое место в великолепной плеяде учеников А. Б. Гольденвейзера. Окончив Московскую консерваторию в 1911 г., в самом первом выпуске Гольденвейзера, Фейнберг впоследствии возглавил собственную кафедру и стал основоположником самостоятельной ветви в фортепианной педагогике.
С.Е. Фейнберг, как и его учитель, отличался прежде всего разносторонностью деятельности. Он известен как выдающийся пианист, крупнейший педагог, композитор – автор ряда оригинальных сочинений и транскрипций, ученый, изложивший свои взгляды во множестве научных трудов, в том числе в книге «Пианизм как искусство» – одном из немногих исследований теории исполнительства. Еще будучи выпускником Московской консерватории, С.Е. Фейнберг стал известен тем, что к выпускному экзамену подготовил, помимо основной программы, весь «Хорошо темперированный клавир» Баха – 48 прелюдий и фуг, там самым заявив о себе не только как виртуоз (хотя его виртуозность была значительной), но, в первую очередь, как музыкант-мыслитель.
В репертуаре Фейнберга отчетливо прослеживались две основные линии: во-первых, произведения Баха и Бетховена (в частности, он исполнял 32 фортепианные сонаты Бетховена); во-вторых, произведения современных ему русских и советских композиторов. Фейнберг исполнял все фортепианные произведения Скрябина, первым в СССР сыграл Третий концерт Рахманинова, многие фортепианные сочинения Прокофьева и Мясковского. Исполнительский стиль Фейнберга характеризовался масштабностью формы, цельностью исполнения и в то же время тщательной прорисовкой полифонической ткани, пластичностью музыкальной речи. Его выдающиеся интерпретации, в частности произведений И.С. Баха, связаны с мастерским выявлением стиля, одинаково далеким и от «музейно-охранительных» тенденций, и от исполнительского произвола. Произведения Баха в исполнении Фейнберга были как бы «живыми», только что созданными; его порой упрекали в излишней «романтизации» Баха, что фактически было не уходом от стиля, а лишь акцентированием эмоционально-психологических сторон музыки. Сочетание ярко выраженного интеллектуального подхода к исполнению со взрывной эмоциональностью – неповторимая особенность искусства Фейнберга, тесно связанная и с особенностями его педагогического стиля.
На протяжении всей творческой жизни С.Е. Фейнберг много сил отдавал педагогике. Общее число выпущенных им пианистов велико; среди них такие музыканты, как В.К. Мержанов (лауреат Всесоюзного конкурса, ныне профессор Московской консерватории), Лю-Шикунь (лауреат I Международного конкурса им. Чайковского), И. Аптекарев – лауреат международных конкурсов, В.И. Носов, Н.П. Емельянова, К. Арзаманова, М.В. Андрианов, – крупные пианисты и педагоги и мн. др.
По воспоминаниям учеников Фейнберга, пять лет занятий у него были своего рода университетом искусств. Студентов привлекали прежде всего обаяние крупной личности, исполнительский талант, колоссальная эрудиция и умение оперировать сложнейшими обобщенными категориями, отличавшие Самуила Евгеньевича. Его неожиданные аналогии или замечания, не только музыкальные, но и из области литературы, изобразительного искусства, то и дело заставляли многих обнаруживать пробелы в своем образовании, часто наталкивали на еще непознанные области искусства, открывали ученикам глаза на то, как многое необходимо изучить.
Как вспоминает ученик С.Е. Фейнберга В. Бунин, отличительными особенностями его педагогической работы были «…прежде всего, – главенство художественного постижения произведения над механической работой, индивидуальный подход к каждому автору, к каждому конкретному сочинению… проявление индивидуального начала исполнителя не вопреки авторскому тексту, а как результат внимательного вчитывания в него и глубокого его постижения; …принцип рационализма в постижении пианистической трудности; стремление находить простое в сложном и идти от простого к сложному, а не наоборот; отношение к упражнению как к средству овладения художественной задачей, а не как к гимнастике» [13. С. 27].
Принцип рационализма в постижении трудности был одним из ведущих принципов С.Е. Фейнберга. Он проистекал из принципа осознанности процесса исполнения, что тесно связано с процессами развития интеллекта и формирования эрудиции студентов.
По убеждению С.Е. Фейнберга, все элементы музыкальной ткани должны быть тщательно проанализированы со всех сторон, в том числе и со стороны исполнительского освоения произведения. Изучая многочисленные случаи «грязной» игры (не только среди студентов, но и у концертирующих исполнителей), Фейнберг пришел к выводу, что причины этого коренятся в механической, недостаточно осознанной игре на первых этапах работы. Играя в чрезмерно быстром – относительно своих возможностей на данный момент – темпе, пианист совершает множество мелких ошибок, которые при многократном повторении заучиваются. В дальнейшем эти неточности, много раз воспроизведенные в процессе механических, «бездумных» повторений, непременно дадут о себе знать в виде «грязной» игры.
Фейнберг предлагал на начальных этапах работы разделять сложные эпизоды, которые в данный момент не получаются, на более простые элементы, которые получаются. Главное правило в работе над произведением – не позволять себе играть «грязно», не заучивать неверное; лучше учить облегченные элементы и делать это в медленном темпе, но правильно. Некоторое замедление темпа работы на первых этапах компенсируется впоследствии, так как последующая работа будет представлять собой не переучивание неверно выученного, что, как известно, более длительно и трудоемко, а достижение новых ступеней мастерства.
Такой подход, основанный на глубоком всестороннем анализе, был свойствен Фейнбергу в отношении всех составляющих процесса исполнения. Благодаря этому Фейнберг давал ученикам знания и умения, необходимые не только для исполнительской, но и для педагогической деятельности; не случайно из его класса вышло много крупных пианистов-педагогов.
Если рассмотреть названные способы работы с педагогической точки зрения, то их значение выходит далеко за рамки формирования фортепианно-технического мастерства. Осознанность в работе над музыкальной тканью, неприятие механической работы пробуждают мысль вообще. Вот что отмечает В. Бунин: «Самуил Евгеньевич учил добиваться с самого начала воплощения представляемого воображением нужного звучания: не отодвигать “отделку” и “высокие материи” на заключительный этап работы, а сразу же после первого знакомства с произведением шлифовать маленькие отрезки – “кирпичики” (выражение С.Е.), находя верное звучание, связанные с ним движения, аппликатуру, ощущения, которые будут при концертном исполнении, то есть в настоящем темпе, в нужных звуковых пропорциях. Такая работа активизирует пытливость мысли, уменьшает опасность притупить ухо неточным, еще не найденным… звучанием» (курсив мой – Е.Ф.) [13. С. 106].
Подобно тому, как в собственной исполнительской деятельности С.Е. Фейнберг сочетал рациональное и эмоциональное начало, в педагогике он также находил их равновесие. «Иногда он наводил ученика на нужное настроение, не вдаваясь непосредственно в музыкальное содержание, а повернув мысль в другой ракурс, – пишет В. Бунин. – Бывали случаи, когда верно подсказанный технический прием рождал нужный образ» [13. С. 107].
Пробуждал фантазию ученика, обогащал его эмоциональную палитру и педагогический показ С.Е. Фейнберга. В. Бунин отмечает, что «…элемент недосказанности, тайны, свойственный музыке и присущий этой форме личного показа… очень важен для учеников тем, что он развивает их творческую пытливость, побуждает их искать глубоко спрятанные, трудно выявляемые нюансы…» [Там же. С. 108].
Таким образом, можно констатировать, что в педагогической деятельности С.Е. Фейнберга отчетливо прослеживаются основные принципы, выявленные при анализе педагогической деятельности Л.В. Николаева, К.Н. Игумнова и А. Б. Гольденвейзера, имеющие своеобразное преломление через личные особенности мастера.
Принцип движения от внутреннего к внешнему, от художественного образа к его воплощению, несомненно, являлся определяющим и в исполнительской, и в педагогической деятельности С.Е. Фейнберга. Общий для корифеев фортепианной педагогики принцип интеллектуализации процесса обучения игре на фортепиано у Фейнберга получил сильное и своеобразное развитие в виде принципов рационализма в постижении трудности и осознанности процесса исполнения.
Принципы активизации познавательной деятельности и развития самостоятельности, а также индивидуализации обучения в классе С.Е. Фейнберга реализовывались преимущественно через интеллектуальное и эмоциональное постижение содержания и структуры музыкальных произведений, что тесно связывает данные принципы с принципом интеллектуализации.
Межличностные взаимоотношения педагога и ученика характеризовались неизменной высокоинтеллигентной атмосферой, доброжелательностью, порождавшей сознательное, ответственное отношение учеников к своей работе.
К величайшим достижениям мировой фортепианной педагогики принадлежит школа Генриха Густавовича Нейгауза (1888–1964), давшая несколько поколений выдающихся музыкантов – пианистов и педагогов. Ученики Г.Г. Нейгауза и их ученики составляют и поныне цвет отечественного и мирового фортепианного искусства и продолжают традиции учителя практически во всех крупных музыкальных учебных заведениях в России и за рубежом.
К педагогическому опыту Г.Г. Нейгауза так или иначе обращались и обращаются почти все исследователи, работающие в области профессионального музыкального образования, а также искусствоведения, соприкасающегося с фортепианной педагогикой. Деятельность Нейгауза была столь многосторонней, его эрудиция столь масштабной, а форма выражения своих эстетических и педагогических взглядов столь блистательной, что исследователи, педагоги, критики часто обращаются к той или иной мысли Нейгауза, цитируют то или иное положение из его педагогических взглядов, анализируют или приводят в пример различные аспекты его педагогической работы.
Помимо работ искусствоведческой направленности, посвященных Г.Г. Нейгаузу (В.Ю. Дельсон, Г.М. Коган, Я.И. Мильштейн, Д.А. Рабинович, Г.М. Цыпин, С.М.Хентова и др.), рядом ученых осуществлены масштабные исследования педагогической деятельности Г.Г. Нейгауза как основного объекта изучения. Прежде всего, это труды учеников Г.Г. Нейгауза – Т.А. Хлудовой и Б.Л. Кременштейн. Особую ценность этих работ составляет то, что все факты, приводящиеся в них, получены «из первых рук».
Все исследователи справедливо сходятся в том, что на педагогическую деятельность Г.Г. Нейгауза сильнейшее влияние оказывали особенности его личности, его исполнительский облик, а также биография: и то, что он происходил из музыкальной семьи НейгаузовШимановских-Блуменфельдов; и то, что в юности несколько лет провел в Европе, впитывая самые разнообразные эстетические впечатления и обогащая свою эрудицию; и то, что учился у известнейших музыкантов из разных стран – К.Г. Барта (Германия), Л. Годовского (Польша), Ф.М. Блуменфельда (Россия).
Многообразие художественных впечатлений, полученных Нейгаузом в юности, способствовало формированию необычайно разностороннего интеллекта, что в первую очередь являлось характерной чертой музыканта и педагога. Он не был пианистом-виртуозом в общепринятом смысле этого слова. Его исполнение отличали тонкость, глубина и естественность выражения чувств, стройность мысли. Однако природа не наградила Нейгауза «удобными» для пианиста руками, что всегда приносило ему много огорчений. Внутреннее содержание музыканта было намного шире, глубже, интереснее, чем он мог выразить в исполнении.
Это побуждало Нейгауза постоянно подвергать анализу процесс технического освоения произведения и, как это ни парадоксально, в дальнейшем являлось одним из факторов его педагогического успеха. То, что в технике ему давалось с трудом, было им проанализировано и систематизировано с педагогической точки зрения.
Все, кто слушал исполнение Г.Г. Нейгауза, отмечали, что это был музыкант совершенно особого типа; в его исполнении технические моменты отступали на второй план перед силой внутреннего переживания, и именно по силе артистического воздействия он оставлял за собой других пианистов. Из современных ему музыкантов особая внутренняя близость связывала Г.Г. Нейгауза с великим пианистом импульсивно-романтического склада – В.В. Софроницким.
И все же, несмотря на то, что Г.Г. Нейгауз уже в 1920-е гг. вошел в число наиболее почитаемых артистов, его подлинным призванием стала педагогика. Большую часть своей жизни Г.Г. Нейгауз являлся профессором Московской консерватории (до этого он преподавал в Киеве и Тифлисе).
Музыкант и педагог в Нейгаузе были неразделимы; все обаяние своего исполнительского таланта, колоссальную эрудицию, мастерство и опыт он отдавал ученикам. Для того чтобы оценить значение педагогической деятельности Г.Г. Нейгауза, достаточно назвать имена его учеников – крупнейших пианистов ХХ в. Э. Гилельса и С. Рихтера. Учеником Г.Г. Нейгауза был его сын Станислав – один из наиболее тонких и самобытных пианистов своего времени; в разное время по классу Г.Г. Нейгауза окончили Московскую консерваторию такие крупные музыканты, как Я. Зак, Т. Гутман, Э. Гроссман, Б. Маранц, С. Бендицкий, А. Ведерников, Е. Малинин, Л. Наумов, В. Горностаева, А. Наседкин, В. Крайнев.
При анализе содержания педагогической деятельности Г.Г. Нейгауза, а также попытках определить составляющие того успеха, который сопровождал эту деятельность, прежде всего необходимо отметить, что он являлся педагогом в той же мере, в какой и музыкантом. Если вернуться к проблеме существования и развития фортепианных школ, затронутой М.Н. Курбатовым и развитой Л.В. Николаевым, то не вызывает сомнений знание и умение Нейгауза передавать свое мастерство (в широком смысле), его владение не только тем, что он должен дать ученикам, но и как это сделать.
Одной из причин медленного и неполного обобщения и распространения передового педагогического опыта в области обучения исполнительскому искусству является неумение и нежелание большинства крупных музыкантов фиксировать свой опыт в виде научного труда. Это можно объяснить тем, что согласно теории функциональной асимметрии мозга музыканты имеют преимущественно правополушарное мышление (В.В. Медушевский) и соответственно предпочитают эмоционально-образную форму выражения мыслей конструктивно-логической.
Следствием этого, как правило, является то, что музыканты-исполнители, имеющие богатый опыт собственного исполнения и даже (что свойственно не всем исполнителям) умеющие найти интуитивные подходы к передаче этого опыта ученикам, не фиксируют его в научной форме; те же ученые, которые способны в научной форме осветить проблемы, связанные с обучением исполнительскому искусству, сами выдающимися исполнителями не являются и соответствующим опытом не обладают.
Так, Г.Г. Нейгауз заочно полемизировал с авторами масштабных фортепианно-методических трудов – Э. Бахом, Й. Гатом и другими, которые анализировали фортепианно-педагогический процесс, расчленяя его на составляющие и теряя при этом суть искусства, обучение которому они предполагают. «Труд Иозефа Гата “Фортепианная техника” – хорошая, исчерпывающая книга, но приносят ли изучающему ее реальную помощь бесконечные киноснимки, фотографии рук разных пианистов и т.д. и т.д.? Несмотря на мое принципиальное уважение к такому труду, результату похвального долготерпения, я все-таки не мог прочесть ее целиком, духу не хватило. Причина та, что я никогда не мог понять, как можно технику фортепианной игры совершенно отделять от самого искусства, т.е. музыки, и писать о ней специальный труд», – писал он в предисловии ко второму изданию своей книги «Об искусстве фортепианной игры» [40. С. 10]. Или там же: «…правы, вероятно, и те критики, которые упрекают меня в том, что я временами только “скольжу по поверхности”… Но я считал, что лучше быть слишком кратким, чем слишком велеречивым. Неужели я должен писать обязательно, как Эрвин Бах?» Здесь явная ирония Г.Г. Нейгауза вызвана, безусловно, не столько объемом книг, о которых он упоминает как о «результате похвального долготерпения», но именно тем, что в них при анализе составляющих фортепианной игры теряется содержание музыки – что неудивительно, если учесть, что данные авторы не были заметными исполнителями.