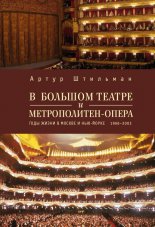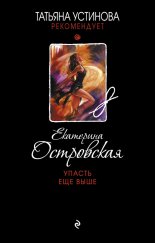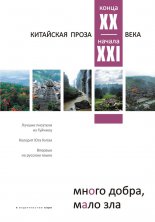Кассия Сенина Татьяна

Читать бесплатно другие книги:
Известный скрипач Артур Штильман, игравший много лет в оркестре Большого театра, после своей эмиграц...
Виола и Виктор встретились случайно и сразу поняли: это судьба. У каждого из них своя жизнь, семья, ...
Мир недалекого будущего…Все больше людей сбегает в призрачную, но такую увлекательную виртуальную ре...
Многомиллионные контракты и жестокие убийства, престижные должности и нервные срывы, роскошные виллы...
И как только выстрелил этот пистолет? Точнехонько в висок… И это у женщины, которая была не в ладу с...
В сборник вошли пятнадцать повестей и рассказов, написанных в конце XX – начале XXI века. Они принад...