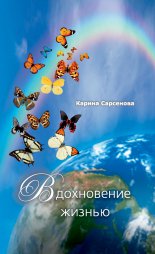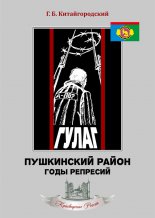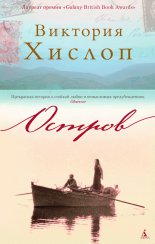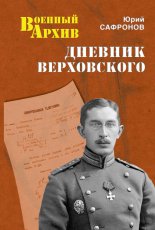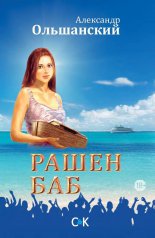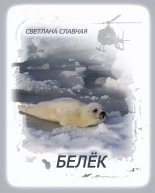Всеобщая история пиратов. Жизнь и пиратские приключения славного капитана Сингльтона (сборник) Дефо Даниэль
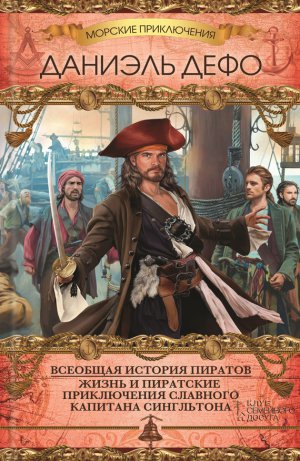
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2015
Повелитель мускусных котов
После того мы провели еще два года в Венеции, обдумывая, что нам делать.
Даниэль Дефо
Вынесенная в эпиграф цитата из романа как нельзя лучше демонстрирует, чем XVII столетие отличалось от XXI. Оказалось, что вовсе не пиратами, а умением поразмыслить над жизнью. Читатель и сам сможет убедиться, что даже район разбойных нападений современных сомалийских пиратов – от Баб-эль-Мандебского пролива до Мадагаскара – они унаследовали от европейских предшественников XVII–XVIII веков. Это только в представлении голливудских кинотворцов все пираты обитали на Карибах, хотя, спору нет, там их было немало. В книгах Дефо они грабят испанских, английских, голландских, индийских, арабских, португальских и французских купцов по всему земному шару. И приз, наиболее поразивший умы современников Дефо, – корабль Великого Могола – был взят капитаном Эйвери именно в Аравийском море, по пути из Индии в Мекку. И хотя теперешние сомалийские последователи Эйвери преследуют торговые корабли на быстроходных катерах, а не на фрегатах, галиотах и шлюпах, как в книгах Дефо, – география и торговые пути остались прежними. Люди тоже, похоже, изменились не сильно.
Даниэля Дефо можно на полном законном основании считать первым современным романистом. Не только потому, что история о Робинзоне и Пятнице до сих пор жива, – ее изучают в школе, из подражаний даже сформировался особый жанр, «робинзонада». Книга не только выдержала сотни экранизаций, переводов и пародий, но и через триста лет – ее читают. Правда, уже дети. А Даниэль Дефо писал ее для взрослых. И даже зашифровал настоящее местоположение острова Робинзона, – архипелага Хуан-Фернандес в Тихом океане, – перенеся действие на остров в устье реки Ориноко в океан Атлантический. Чтобы не «засветить» базу английских приватиров и каперов пытливым испанским читателям. Прообраз Робинзона – боцман Александр Селкирк – на самом деле не терпел кораблекрушение, а был высажен капитаном на необитаемый остров из-за скверного характера. А служил он на корабле английской приватирской экспедиции, направлявшейся грабить тихоокеанское побережье Мексики, тогда испанское. И через семь лет был снят такой же экспедицией капера Уильяма Дампира.
Все английские корабли, обогнувшие мыс Горн, традиционно брали пресную воду и чинили корабли на Хуан-Фернандесе. Ни испанцам с португальцами, ни тем более голландцам знать об этом было не обязательно. А Дефо был не только автором первого британского романа и основоположником реалистического романа, но и основателем британской «интеллидженс сервис», ее первым секретным агентом, еще не пронумерованным, как Джеймс Бонд.
Многие вещи, нам кажется, существовали всегда. Мы с детства так привыкли к Дефо, что нам трудно осознать, что до него английских романов попросту не было. А еще до него в Англии не было журналов. Он основал первый еженедельник The Review, выходивший десять лет. Десять лет, раз в неделю, у Дефо наступал безумный день, к тому же большинство статей он писал тоже сам.
Кроме романов, Дефо написал и издал массу трактатов, статей, памфлетов. Большинство под псевдонимами. Ведь и Дефо – тоже псевдоним, правда, как бессмертный горец, победивший все другие. Тематика его трактатов словно подсмотрена на современной раскладке желтой прессы – политика, экономика, финансы, религия, брак, непознанное… Но и журналистика не была основным его занятием. Его даже можно назвать и отцом заказных политических статей. Впрочем, когда виги сменили тори, они просто продолжили пользоваться его услугами как ни в чем не бывало.
Он был коммерсантом, хозяином чулочной фабрики, торговцем сукном и винами, плававшим по делам фирмы, по крайней мере, в Кадис, Порто и Лиссабон. Страховщиком кораблей и грузов. И даже парфюмером, изобретшим рецепт стойких запахов с добавлением в духи мускуса от привезенных ему с острова Ява циветт диких родственников домашних кошек. Когда Дефо обанкротился (видимо, голландцы потопили все застрахованные им суда и разграбили все отправленные им грузы), судебному исполнителю не оставалось ничего другого, как конфисковать у него пресловутых котов. Это вряд ли покрыло претензии кредиторов – долгов этот деятельный предприниматель наделал на семнадцать тысяч фунтов, чудовищную по тем временам сумму.
Столь сведущей в разных сферах особой заинтересовалось британское правительство (тогда Англией правили тори). Они покрыли сказочный долг коммерсанта и памфлетиста, предложив ему сотрудничество в ином качестве. Так Дефо стал секретным королевским осведомителем, другими словами – политическим и экономическим шпионом. В это трудно поверить, но Дефо жил во времена секретных морских карт, изобиловавших белыми пятнами и тайными фарватерами – открыты были еще не все континенты. Выведывание у вернувшихся в Англию моряков важных сведений о новых странах составляло значительную и, вероятно, самую приятную часть секретной службы Дефо. Оказалось, что раздобытые таким путем сведения пригодны не только для отчетов правительству, но и для романов.
Именно так и надо рассматривать роман «Жизнь и пиратские приключения славного капитана Сингльтона». Никаких приключений – просто отчет о трансафриканской пешей экспедиции за слоновой костью и золотом, которую герой совершил не от хорошей жизни, хотя тщательно запомнил маршрут от Мозамбика до Анголы. Представьте, какое впечатление производили на впечатлительных английских дельцов картины слоновьих кладбищ в саванне, тщательно переданные Дефо. Слоновая кость… Тонны, десятки, сотни тонн драгоценных в Европе бивней. Никаких негров-носильщиков не хватит, чтобы вынести все это на побережье, к европейским факториям в Гвинее. Неудивительно, что в конце концов именно англичане вытеснили буров (потомков голландцев) из Капской колонии и воевали с ними с XIX века.
Ту же часть романа, где Дефо педантично описывает океанские пути и безопасные методы набега на Острова Пряностей в Индонезии, лучше рассматривать как изощренную месть разорившим его голландцам. Это готовый бизнес-план экспедиции по разграблению голландских колоний. Ну и приключения, конечно, есть. В таком непредсказуемом бизнесе, как пиратство, без них не обойтись.
Показательно, что Дефо «приклеил» и необходимую любовную линию. Все должно окончиться женитьбой, иначе это не роман. Собственно, потому он и есть роман, даже, как оказалось, не только рыцарский или плутовской, но и пиратский. Хотя некоторые признаки плутовского романа он вставил даже в «Всеобщую историю пиратов», претендующую на энциклопедичность. А именно в тех статьях, которые посвящены женщинам-пиратам. Были, оказывается, среди пиратов и дамы.
Но вернемся к бессмертному Робинзону Крузо. Читатели, как правило, пролистывают его неинтересную первую часть, считая излишне нравоучительной, полагая скучными многостраничные поучения отца-Крузо о том, что ценность и устойчивость имеют капиталы, добытые кропотливым ежедневным трудом, что лучше не быть ни нищим, ни излишне богатым. Что без труда богатства, нажитые в одночасье, легко уходят меж пальцев. Недаром грозные пираты, попав в Англию даже с неимоверными сокровищами Великого Могола в сундуке, оказываются ограбленными уже «порядочными» ювелирами, грозящими выдать их полиции, и заканчивают свои дни, влача нищенское существование. Нет, только ежедневный кропотливый труд. Триста лет поливать и стричь свой газон… День за днем…
Сам Дефо придерживался этих взглядов всю свою долгую жизнь (1660–1731). И действительно иногда напоминал Робинзона на острове. Ибо если на острове Британия, хотя и густонаселенном, чего-то не было, он брался и делал, оставив потомкам свой остров преображенным.
Всеобщая история пиратов
Введение
Пираты в Вест-Индии, то бишь в бассейне Карибского моря, да и по всему Атлантическому океану были настолько сильны и многочисленны, что полностью перекрыли Европе торговые пути в эту часть света. От их бесчинств больше всех пострадали английские торговцы. Мы не сомневаемся, что миру будет любопытно узнать истории головорезов, терроризировавших купцов всего мира.
Но прежде чем мы приступим к конкретным историям, не будет лишним краткое вступление, чтобы на отдельных примерах из истории показать, какой колоссальный вред и опасность наносит королевствам и государствам деятельность этих грабителей.
Все началось с того, что одному пирату удалось избежать преследования со стороны правительства, и постепенно он набрал немалое влияние и мощь – на его счету было множество ограблений, а на руках немало крови, прежде чем его изловили и казнили. Мы не станем рассматривать, как случилось, что численность наших пиратов в Вест-Индии постоянно увеличивалась, – это дознание относится к прерогативам законодательной власти или к представителям народа в Парламенте, на них мы это и оставим.
Наш труд должен сжато показать, какими губительными последствиями для нации могут обернуться даже зачатки пиратства.
Во времена Марии и Суллы Рим был на пике своей силы, но оказался практически растерзанным фракциями этих двух великих людей. Уже тогда на Сицилии и в странах Малой Азии возникло пиратство.
Начиналось все почти незаметно: два-три корабля, курсировавшие между греческими островами, нападали на суда, которые были плохо защищены или совсем без охраны. И вот, захватив множество «призов», пиратство вскоре обрело и богатство, и власть.
Однажды одно пиратское судно захватило и самого Юлия Цезаря. Узнав его по пурпурным одеяниям, они решили, что получат больше прибыли, если сохранят ему и его людям жизнь и потребуют за них большой выкуп. Поэтому Цезарю было объявлено, что он получит свободу, если заплатит захватчикам пятьдесят талантов, что было чудовищной суммой по тем временам, которая равнялась трем с половиной тысячам фунтов стерлингов[1]. Император с улыбкой согласился и даже повысил сумму, ведь с ним были люди, которых он считал достойными выкупа. Цезарь отправил троих своих слуг за выкупом, а сам остался на пиратском корабле, пил и ел, играл в кости, иногда писал стихи и диалоги, и даже пригрозил, что за нетерпение может уменьшить сумму выкупа. Наконец его слуги вернулись с выкупом, и император получил свободу. Он отплыл в Милет (Miletus), где, использовав все свое влияние, занялся оснащением эскадры, которую оборудовал и вооружил по последнему слову военной науки. Каково же было удивление пиратов, стоявших у того же острова, когда на них напали корабли Цезаря! Нет нужды говорить, что император вернул себе весь выкуп да к тому же взял в плен всех пиратов, жителей большей частью Пергама и Трои, и заключил их под стражу.
Тогдашний правитель Азии, Юний, должен был позаботиться об их наказании, но не знал, как это сделать. Тогда Цезарь применил закон о пиратстве и повелел, чтобы заключенные были вывезены в Рим, где он сам будет судить их. Суд этот был скорым и справедливым – во всяком случае, с точки зрения Цезаря. А вот пиратам было не до смеха. Во всяком случае, ни моря, ни свободы они больше не увидели. Да и жизнь их оказалась совсем недолгой.
Случившееся, по словам Плутарха, заставило императора пристальнее взглянуть на прибрежные порты и укрепить их, выстроить башни и маяки вдоль всего побережья Киликии, вооружить и постоянно поддерживать могучий флот, хорошо оснащенный и не испытывающий ни в чем недостатка. На кораблях этих плавали люди отчаянной храбрости, которые к тому же были отличными специалистами в военном и морском деле.
Однако пиратов это не остановило. Более того, есть упоминания о том, что число их кораблей возросло до тысяч, а чтобы досадить страже, они покрывали судно позолотой, весла – серебром, а паруса – королевским пурпуром.
Не менее четырехсот городов подверглись тогда нападению пиратов. Страдали и храмы, и деревни вдоль побережья, и даже роскошные дома дворян вдоль Тибра.
Одним словом, пусть Рим и был в то время хозяином суши, хозяевами морей оставались морские разбойники, которые называли своей вотчиной и Сицилию, и Корсику, и Лесбос, и острова Эгейского моря, и многие города, которые Рим уже привык считать своими, во всяком случае по части дани.
В последующие годы и столетия с пиратами боролись и Помпей Великий, и властители Африканского побережья, и владыки больших и малых территорий, но безрезультатно. Столь опасным оказалось первоначальное пренебрежительное отношение к этим морским разбойникам, что позволило им собраться с силами.
Теперь пришло время поговорить о пиратах Вест-Индии, которые были более многочисленны, чем головорезы в любых других точках мира.
На это есть несколько причин:
Во-первых, здесь много необитаемых островов и ключей с удобными гаванями, безопасными для подхода с моря, к тому же богатых пресной водой и провизией.
Возможно, следует объяснить, что в Вест-Индии называли ключами. Эти крохотные песчаные островки высотой чуть выше линии прибоя, с несколькими деревцами или кустами, были безлюдны, но обильно населены черепахами. Вот эти островки и стали прибежищем для пиратов. А позже торговцы с Ямайки, перевозившие рабов, поняв, что здесь можно безопасно останавливаться и чистить днище парусных судов от ракушек, окончательно утвердили за этими островками название «ключи» как символ безопасности.
Второй причиной, объясняющей, почему пираты выбрали для разбоя моря Вест-Индии, можно считать присутствие здесь большого количества купеческих судов – французских, испанских, голландских и особенно английских. Перевозки рабов, товаров, оружия, золота и серебра из колоний в метрополию давали немалый шанс на «приз» – корабль, полный столь желанной для пиратов добычи.
Третья причина – это тяжкий труд, которым отличается жизнь моряка на военном корабле, особенно моряка в маленьких чинах, и при этом за весьма скромное вознаграждение.
Неудивительно, что пираты начинали свои предприятия с небольшой группы людей. Однако по мере того, как потребности Нового Света возрастали, мореплавание в водах Карибского бассейна и на всем протяжении Атлантики развивалось, а следовательно, групп этих становилось все больше. Они собирались в настоящую силу, что дало возможность организовывать целые экспедиции на Азорские острова, острова Зеленого Мыса, в Южную Америку, вернее к ее берегам, и даже огибать Африку, используя Мадагаскар как удобную базу, чтобы затем через Баб-эль-Мандебский пролив добраться до Аравийского полуострова.
Остановимся и мы ненадолго на Мадагаскаре и соседних островах. Некоторые пираты выбирали эти места в качестве укрытия, становясь для туземцев князьками и повелителями. Следует заметить, что такие разбойники бороздили моря, как правило, недолго, да и жизнь их оказывалась не столь продолжительной.
Теперь вернемся к временам Утрехтского мира. Бльшая часть колоний в Вест-Индии принадлежала именно испанцам. Не секрет, что придворные, посланные в эти колонии губернаторами, были людьми невеликого достатка. Вернее, их достаток полностью зависел именно от колоний. Неудивительно поэтому, что немалые доходы, обещанные и честно передаваемые им пиратами, превращали разбой в действия, угодные короне, причем подобные решения были закреплены в судебном порядке.
Немалые убытки, понесенные английскими купцами, были, несомненно, делом рук пиратов. В конце концов терпение властей лопнуло и уполномоченные особы попытались сделать хоть что-то, чтобы усмирить разбойников. В 1716 году такой случай, казалось, представился.
К этому времени уже примерно года два испанские галеоны уходили в метрополию с грузами серебра. Так получилось, что два из них затонули в заливе у берегов Флориды. Испанцы отправили несколько миллионов песо, что составляло приблизительно триста пятьдесят тысяч реалов в серебре, и такой груз, конечно, стал желанной добычей для пиратов.
Правительство как раз снарядило два корабля и три шлюпа с Ямайки и Барбадоса под командованием капитана Генри Дженнингса, который имел конечной целью Персидский залив и которой обнаружил, что испанцы потерпели крушение. Драгоценный груз был поднят ныряльщиками и передан под охрау двух комиссаров и примерно шестидесяти солдат.
Однако добыча эта была чрезвычайно лакомой, и корабли пиратов под командованием Роверса встали на якорь в непосредственной близости от места хранения груза, а затем силами примерно в триста человек перешли в атаку. Охрана сбежала, а пираты, захватив сокровища, отправились на Ямайку.
В пути они встретились с испанским кораблем, нагруженным дорогими товарами. Там были тюки кошенили, бочки индиго и шестьдесят тысяч песо, не считая провизии. Груз пираты отняли, но судно отпустили невредимым.
Пираты ушли на Ямайку, испанцам же не оставалось ничего, как обратиться к губернатору Гаваны. Тот, пораженный размерами пиратской добычи, тут же отправил судно к губернатору Ямайки с жалобой на грабеж и требованием вернуть товар.
Если бы это происходило в мире, уважающем право собственности, правительство Ямайки, конечно, не позволило бы пиратам остаться безнаказанными и отказало бы им в защите. Однако представители короны на острове поступили иначе, мягко пожурив разбойников и повелев им в будущем грабить кого угодно, но только не испанцев.
Быть может, это всего лишь исторический анекдот. Хотя и он дает определенное представление о том, на сколь высоком уровне были защищены морские разбойники и сколь легко они могли купить защиту любого рода.
В предлагаемом исследовании мы кратко изложим истории знаменитых пиратских капитанов и их команд:
капитана Эйвери
капитана Мартела
капитана Тича по прозвищу Черная Борода
капитана Боннета
капитана Инглэнда
капитана Вейна
капитана Рэкхэма
капитана Дэвиса
капитана Робертса
капитана Лоу
капитана Уорли
капитана Лоутера
капитана Эванса
капитана Энстиса
капитана Сприггса, других капитанов и также двух дам, также командовавших пиратскими судами.
Глава I
Капитан Эйвери и его команда
Среди отважных искателей приключений трудно найти человека, который вызвал бы в свое время больше разговоров, чем капитан Эйвери. В Европе говорили, что он возвел себя в королевское достоинство и стал основателем новой монархии; что он награбил несметные богатства и женился на дочери Великого Могола, которую захватил на индийском корабле, и произвел с ней на свет множество детей. Говорили также, что он строил форты и артиллерийские погреба и командовал эскадрой, а экипажи набирал из головорезов, невзирая на национальность; что он отдавал приказы капитанам кораблей и командирам фортов, и они подчинялись ему, как подчинялись бы государю. О нем даже была написана пьеса, которая называлась «Удачливый пират». В свое время Большому королевскому совету было представлено даже несколько планов его поимки. Более рассудительные (или более златолюбивые) предлагали объявить амнистию ему и его товарищам и пригласить их в Англию со всеми сокровищами, не без оснований опасаясь, что его растущее могущество может помешать торговле между Европой и Ост-Индией.
Однако все это были не более чем пустые слухи, подогреваемые доверчивостью одних и безответственностью других. Читателю будет любопытно узнать, что произошло с этим человеком на самом деле и какова его подлинная история.
Эйвери родился на западе Англии, под Плимутом. Он служил помощником капитана на судне-купце и принял участие в нескольких торговых рейсах. Времена были смутные – Рисвикский мир еще не был объявлен[2] и действовал союз держав Европы против Франции, – но французы с Мартиники вели контрабандную торговлю с испанцами на Перуанском побережье. Законы Испании запрещали это даже друзьям в мирное время – никому, кроме самих испанцев, не дозволено было посещать те места или сходить на берег. Поэтому испанцы постоянно держали там несколько судов, которые крейсировали вдоль побережья и назывались «Гуарда-дель-Коста». Судам этим был дан приказ захватывать любые корабли, пересекающие границу в пяти лигах от берега. Испанцы, случалось, натыкались на французские контрабандные суда, но у них недоставало сил, чтобы атаковать. Тогда Испания приняла решение взять на службу иностранные корабли. Когда об этом стало известно в Бристоле, несколько купцов снарядили два корабля, вооруженных более чем тридцатью пушками, наняли команду в сто двадцать человек каждый, снабдили их провизией, амуницией и прочими необходимыми припасами. Сделка была утверждена испанскими агентами, и корабли получили предписание отплыть в Ла-Корунью, где они получат дальнейшие распоряжения и примут на борт пассажиров, направляющихся в Новую Испанию.
На одном из этих кораблей и служил Эйвери первым помощником. Был он человеком не столько храбрым, сколько хитрым и коварным, поэтому постепенно вошел в доверие к нескольким самым отчаянным матросам с обоих английских кораблей. Он открыл им свои намерения и увлек рассказами о том, какие богатства ожидают их на берегах Индии.
Однажды моряки, не вовлеченные в план Эйвери, включая капитана, как стемнело, отправились отдыхать и на палубе остались только заговорщики, которые составляли, правда, большинство команды. В условленное время появился голландский баркас, который встал борт о борт с кораблем, и шестнадцать крепких парней присоединились к заговорщикам.
Новоявленные охотники за сокровищами Ост-Индии неспешно подняли якорь и без волнения и суматохи вышли в море, хотя в бухте стояли несколько кораблей, среди которых оказался и сорокапушечный голландский фрегат. Его капитану было предложено крупное вознаграждение за поимку беглецов, но он, должно быть, не желал служить никому, кроме себя самого. Одним словом, он позволил Эйвери следовать избранным курсом.
Проснувшемуся капитану корабля Эйвери объявил, что принимает командование на себя, сейчас направляется к Мадагаскару, где вместе с командой хочет попытать счастья, и предлагает капитану присоединиться к ним. Но тот решил, что не желает принимать участие в авантюрах и сойдет на берег вместе с теми членами экипажа, которые не решились присоединиться к бунтовщикам. Всех отказавшихся Эйвери усадил в шлюпку, предоставив им добираться до берега своими силами.
Заговорщики же направились к Мадагаскару. Неизвестно, захватили ли они по пути какие-то корабли, но когда они прибыли к северо-восточной оконечности острова, то обнаружили там два шлюпа, стоявших на якоре, которые их команды угнали в Вест-Индии.
Эйвери подумал, что эти отчаянные матросы могут стать отличными членами экипажа, и предложил им ввязаться в большую игру. Конечно, беглые матросы с удовольствием приняли предложение новоиспеченного капитана. Команда решила пуститься в плавание на галере и двух шлюпах, и флотилия направилась к Арабскому побережью. Возле устья реки Инд Эйвери атаковал одно из личных судов Великого Могола[3]. На борту его находились несколько высших придворных чинов, и, как рассказывали, одна из дочерей правителя, которая совершала паломничество в Мекку, – магометане полагают, что каждый из них обязан раз в жизни посетить сие место, и отправляются туда с богатыми дарами, которые возлагают к гробнице пророка. Вот почему добыча, попавшая в руки пиратам на том призе, не поддавалась исчислению. Хронисты упоминают, как минимум, о пяти миллионах рупий в серебре и золоте.
Эйвери дочиста ограбил судно и перегрузил сокровища на борт своих кораблей, не пропустив ни единой вещицы, которая приглянулась его команде, после чего отпустил приз. Как только известие о случившемся достигло ушей Могола и он узнал, что ограбившие его были англичанами, он, извергая громогласные угрозы, повелел послать многочисленную армию, чтобы огнем и мечом истребить англичан во всех их поселениях на Индийском побережье. Британская Ост-Индская компания была весьма встревожена этим, однако мало-помалу нашла средства успокоить правителя, пообещав приложить все старания к тому, чтобы схватить разбойников и передать их в его руки. Однако это происшествие наделало много шуму как в Европе, так и в Индии, став поводом к сочинению всяческих романтических небылиц о могуществе Эйвери.
Тем временем везунчик Эйвери счел за лучшее вернуться на Мадагаскар, намереваясь поначалу превратить это место в хранилище своих сокровищ и выстроить там небольшое укрепление, где всегда находились бы несколько человек для защиты от посягательств со стороны туземцев.
Далее Эйвери обратился к капитанам шлюпов со следующим предложением. Поскольку суда может разъединить плохая погода, а если шторм разбросает шлюпы по океану и один из них встретится с военным кораблем, то может быть захвачен или потоплен. В таком случае часть сокровищ у него на борту будет потеряна для остальных. Что касается корабля Эйвери, то он достаточно силен, чтобы достойно встретить любого неприятеля, – его судно весьма маневренно и быстроходно, в отличие от шлюпов. Поэтому он предложил перевезти сокровища на борт своего фрегата и опечатать каждый сундук тремя печатями. И если им по какой-то причине придется на время расстаться, каждый из капитанов будет хранить одну из печатей до момента, пока они встретятся.
Это предложение показалось всем весьма разумным и его с готовностью приняли. Сокровища погрузили на борт к Эйвери, сундуки опечатали. Вскоре Эйвери тайком собрал своих матросов и сказал, что теперь у них достаточно денег, чтобы устроить свою судьбу. И никто не помешает им отправиться туда, где их никто не знает, и жить в достатке до конца своих дней. Матросы поняли своего капитана с полуслова. Воспользовавшись темнотой, они изменили курс, и к утру фрегат пропал из виду.
Эйвери и его команда решили, что лучше всего отправиться в Америку, ведь в тех краях их никто не знает. Они намеревались разделить сокровища, изменить имена, высадиться в разных местах, приобрести недвижимость на берегу и жить в свое удовольствие. Первая земля, которую они повстречали на пути, был остров Провиденс, недавно заново заселенный, где они и провели некоторое время. Поразмыслив, пираты решили, что от фрегата следует избавиться, пока их не настигло наказание за его похищение. Для этого Эйвери пустил среди жителей острова слух, что фрегат был снаряжен для каперского промысла, который успешным не стал, поэтому он получил от владельцев судна приказ продать его. Вскоре он нашел покупателя, продал корабль и тут же купил другой, на этот раз шлюп.
В Америке Эйвери и его команда высадились на берег в разных местах. В основном члены экипажа, получив от капитана свою долю, рассеялись по стране. Однако бльшую часть бриллиантов Эйвери от команды утаил: когда захватили корабль Могола, никто не считал награбленное и не знал его истинной цены.
Эйвери добрался до Бостона и поначалу решил приобрести имение в этих краях, но вскоре изменил решение и предложил тем немногим морякам, кто еще оставался на корабле, отправиться в Ирландию. Он здраво рассудил, что Новая Англия – не лучшее место для реализации его богатств. Если бы он начал распродавать их здесь, то, вероятнее всего, навлек бы на себя подозрения в пиратстве.
По пути в Ирландию они бросили якорь в одном из северных портов королевства. Здесь команда избавилась от шлюпа и, сойдя на берег, разделилась: часть двинулась в Корк, а другая часть – в Дублин. Впоследствии восемнадцать человек получили прощение от короля Вильгельма. Некоторое время Эйвери жил в Ирландии, однако все не решался продавать бриллианты – первый же вопрос об их источнике мог привести к его разоблачению. Поразмыслив, он решил, что в Бристоле удастся найти людей, которым он может довериться. Найдя в Девоншире одного из своих давних приятелей, Эйвери все-таки рискнул избавиться от камней. За вполне разумный процент комиссионных приятель пообещал устроить все так, что комар носа не подточит. Эйвери согласился, встретился с купцами, которых нашел для него приятель, и передал им камни и несколько золотых сосудов. Купцы выдали ему достаточно денег на текущие расходы с обещанием добавить еще, и они распрощались.
Эйвери изменил имя и остался жить в Биддифорде, стараясь не выделяться, чтобы не привлекать к себе внимания. Прошло время, он потратил данную ему толику денег, однако от купцов известий не было. Он забросал их письмами, и после многих настойчивых напоминаний они выслали ему еще совсем немного денег, которые, однако, не могли покрыть его расходы. Говоря современным языком, те деньги, которые ему время от времени высылали, были столь ничтожны, что их не хватало даже на хлеб. К тому же и эту малость удавалось выбить с кучей хлопот и после назойливых напоминаний. Измученный таким существованием, Эйвери тайно отправился в Бристоль, но вместо денег получил ошеломляющий отказ: ему просто заткнули рот, пригрозив разоблачением. Воистину купцы эти были такими же пиратами, как и он был сам!
Неизвестно, насколько сильно Эйвери испугался этих угроз, однако поспешил назад и уже оттуда весьма настойчиво требовал с купцов деньги. Его просьбы, конечно, остались без ответа, и постепенно он опустился до нищеты. Доведенный до крайности, он решил вернуться и бросить купцам вызов: сел на торговое судно до Плимута, а оттуда добрался в Биддифорд, но через несколько дней заболел и умер. Денег, что при нем оказались, не хватило даже на гроб.
Как видно, шуму вокруг имени Эйвери было куда больше, чем вокруг имен других пиратов, деяния которых оказались куда страшнее деяний скромного капитана Эйвери. Но что же стало с теми двумя шлюпами, которые он бросил у Мадагаскара?
Конечно, ярость и паника охватила команды судов, когда они увидали, что Эйвери скрылся. Тем не менее шлюпы продолжали идти прежним курсом в надежде, что капитан просто заблудился и вскоре его фрегат появится на горизонте. Однако Эйвери был уже далеко и пришло время решать, что делать дальше, ведь запасы провизии подходили к концу. Пришлось высадиться, разгрузить шлюпы, соорудить из парусов палатки и разбить лагерь. К счастью, оружия и боеприпасов у них было предостаточно.
На острове их ждала встреча с земляками – экипажем приватирского шлюпа под командой капитана Томаса Тью, персоной неоднозначной, но весьма известной. Капитан также был англичанином, и для своих рейдов предпочитал просторы Атлантического океана, хотя его опасались и в Красном море.
Капитан Томас Тью начал свою «карьеру» вместе с еще одним капитаном, Дью, когда по распоряжению тогдашнего губернатора Бермудских островов они направились к устью реки Гамбия, в Африку. Там с помощью агентов Королевской Африканской компании[4] им надлежало попытаться захватить французскую факторию в Гури, расположенную на побережье. Во время жестокого шторма на корабле капитана Дью сломалась мачта, к тому же он потерял из виду корабль сопровождения. Тью отправил его судно в ремонт, а сам, вместо того чтобы продолжать экспедицию, повернул к мысу Доброй Надежды, обогнул его и взял курс на Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы добраться до Красного моря. Здесь он повстречал корабль с богатым грузом, следующий из Индии в Аравию, с тремя сотнями солдат на борту и командой моряков. Не струсив, Тью взял его на абордаж, и после говорили, что его людям досталось с того приза около трех тысяч фунтов на каждого. В команде Тью начались разногласия. Некоторые решили покончить с пиратством, отправиться на Мадагаскар, жить там и наслаждаться тем, что уже имеют.
Сам же капитан Тью несколько позже со своими сторонниками направился на Род-Айленд, где и обрел покой. Таковы были люди, которых бывшие соратники Эйвери повстречали на острове.
Когда пираты впервые поселились среди туземцев Мадагаскара, тамошние многочисленные князьки всячески обхаживали пришельцев, склоняя вступать в союзы то с одним, то с другим из них. Такие воины в армии любого вождя решали дело миром, ведь никто из туземцев не владел огнестрельным оружием – в отличие от европейцев, каковы бы ни были их намерения. В конце концов пираты начали внушать островитянам такой ужас, что те в страхе бежали, даже не пытаясь вступить в бой.
Они не только запугали туземцев, но и приобрели над ними власть. Военнопленных они обращали в рабов, а самых красивых негритянок брали в жены. Их рабы трудились на рисовых плантациях, ловили рыбу и выполняли прочие работы. Кроме того, в услужении у пиратов находилось множество тземцев, кои прибегли к их покровительству, чтобы обезопасить себя от треволнений или нападения со стороны воинственных соседей. Благодаря таковой изворотливости пираты сумели за несколько лет значительно увеличить свою армию.
В конце концов они стали жить по отдельности и ради удобства поселились в большом удалении друг от друга, ибо каждый из них владел теперь обширными землями. Они разделились на общины, и каждый содержал при себе жен и детей, ведь к тому времени уже образовались большие семьи. Пираты выбирали для жилья место, окруженное непроходимым лесом и расположенное рядом с водой, возводили вокруг него крепостной вал или насыпь, столь отвесную и высокую, что на нее невозможно было взобраться, – по крайней мере не пользуясь штурмовыми лестницами. К насыпи через чащу вела единственная тропинка. Жилище, а одновременно и военный лагерь, всегда было столь надежно укрыто от взоров, что его невозможно было заметить, не подойдя вплотную.
Так жили эти новоявленные тираны, наводя ужас на других и сами находясь в постоянном страхе. Такими их увидел капитан Вудс Роджерс, когда прибыл на Мадагаскар на борту сорокапушечного корабля «Делисия». В его намерения входило купить там рабов для продажи голландцам в Батавию или Новую Голландию.
Для полноты картины несколько слов скажем и об этом славном господине. Роджерс был английским капером и бороздил просторы Тихого океана, не оставляя своим вниманием и Карибское море. В одном из первых походов он разграбил Гуаякиль в Эквадоре и получил в качестве выкупа около двадцати семи тысяч песо. Много позже Вудс Роджерс был провозглашен первым королевским губернатором на Багамских островах. Через десять лет после этого его корабли разгромили пиратское гнездо на Нью-Провиденсе. Годом позже капитан защитил остров от испанцев, пытавшихся высадиться там и таким образом передать Нью-Провиденс под правление короны.
Вернемся теперь на Мадагаскар. Случилось так, что Роджерс пристал к берегу в той части острова, где уже семь или восемь лет не видели ни одного корабля. Там он встретил нескольких пиратов, которые к тому времени провели на острове более двадцати пяти лет и обзавелись многочисленным потомством. Завидев судно огромной мощи и размеров, пираты сочли его военным кораблем, посланным для их пленения, и спрятались. Лишь мирные намерения сошедших на берег матросов успокоили их. Можно вообразить, как износилась их одежда после многих лет пребывания на острове – новоявленные плантаторы выглядели крайне потрепанными. Их наготу прикрывали лишь звериные шкуры, которые даже не были выдублены, были они без башмаков и чулок, к тому же заросли бородами, а их волосы свисали до плеч. Одним словом, они предстали перед матросами в самом первобытном виде, какой только способно создать человеческое воображение.
Но весьма быстро они обрели человеческий вид, купив или обменяв на свои богатства одежду цивилизованного человека. Они поднялись на борт «Делисии», осматривая ее с большим интересом и тщательно изучая изнутри, и были любезны с командой, зазывая ее на берег. Конечно, делалось это для того, чтобы под покровом ночи попытаться захватить судно. Но капитан, должно быть, догадался об этом и выставил на палубе усиленную стражу. Когда же он заметил все возрастающую «дружбу» между бывшими пиратами и некоторыми из своих людей, то решил, что это не сулит ничего хорошего, а потому просто запретил матросам вступать в беседы с местными белыми. Если он посылал на берег шлюпку, чтобы обсудить условия покупки рабов, матросы на берег не сходили и никому не было дозволено вступать в переговоры, кроме человека, специально отряженного для этой цели. Поэтому когда он начал готовиться к отплытию, пираты с сожалением поняли, что так ничего и не смогли сделать.
Роджерс покинул их такими же, какими увидел впервые, – обладающими всей полнотой низменной власти и грязного величия, хотя и с меньшим числом подданных, ведь многих из своих рабов они продали. Но поскольку честолюбие есть одна из страстей человеческих, они, без сомнения, были счастливы. Один из этих великих властителей некогда был лодочником на Темзе, где совершил убийство. Остальные были простыми матросами, и не оказалось среди них ни одного, кто умел бы читать или писать. Вот и все, что мы можем сообщить об этих новоявленных королях Мадагаскара, часть которых, может статься, правит и по сей день[5].
Глава II
Капитан Мартел и его команда
Итак, перейдем к временам после заключения Утрехтского мира, по условиям которого Англия получила особые привилегии в торговле с испанскими колониями, в том числе право асьенто – торговли рабами, а также территории в Северной Америке – от Франции, Гибралтар и порт Маон на Менорке – от Испании. Понятно, что в военное время пиратству места не нашлось: все, кто питал склонность к приключениям, нанимались в приватиры.
Для получения нужных результатов необходимо было дать каперам возможность брать на абордаж пиратские суда – в том, что касается грабежа и наживы, имущество друзей ничуть не менее ценно добра врагов.
Множество людей и судов, нанятых в Вест-Индии во время войны, – следует с сожалением заметить это – преумножило число пиратов в мирное время. В этом, однако, не следует упрекать ни кого-либо из правительственных чиновников, ни, тем более, самого короля, чьим именем жаловались эти дозволения, ведь эти действия были благоразумны и совершенно необходимы. К тому же стоит вспомнить о целой армии бездельников, нанявшихся в приватиры ради грабежа и богатства (пусть богатства эти проматывались столь же быстро, сколь и получались), которые по завершении войны не могли более заниматься тем же делом и вести тот же образ жизни, к которым привыкли. Вот поэтому они и принялись пиратствовать, что, в сущности, есть то же самое, только без лицензии.
Если вернуться к Мартелу, то в минувшую войну этот морской разбойник и его шайка, вероятно, были приватирами, приписанными к острову Ямайка. История его довольно коротка, как и период владычества: конец похождениям капитана Мартела наступил в самом расцвете его силы и могущества. Мы впервые встречаем его в сентябре 1716 года капитаном восьмипушечного пиратского шлюпа с командой в восемьдесят человек, курсирующего меж Ямайкой, Кубой и другими Карибскими островами. Примерно в это время он захватил галеру «Беркли» капитана Сондерса и ограбил ее на тысячу фунтов. Чуть позже он встретил шлюп «Царь Соломон», с которого взял деньги, провизию и товары на большую сумму.
Далее они проследовали в порт Кавена на острове Куба и по пути захватили два шлюпа, которые ограбили, а затем отпустили. На подходе к порту Мартел натолкнулся на прекрасную галеру «Джон и Марта» с вооружением в двадцать пушек, под командованием Вильсона. Они атаковали ее, подняв черный пиратский флаг, и присвоили. Часть команды высадили на берег, а остальных оставили у себя, как делали уже несколько раз, желая пополнить свои ряды. Тем не менее капитан Мартел поручил капитану Вильсону уведомить своих хозяев, что груз, состоящий главным образом из кампешевого, или сандалового, дерева (синий сандал) и сахара, будет доставлен на приличный рынок.
Оснастив захваченный корабль по собственному усмотрению, они вооружили его двадцатью двумя пушками и установили численность его команды в сто человек, оставив на шлюпе двадцать пять матросов, и продолжили свой рейд, держа по правому борту Подветренные острова. Здесь им также сопутствовала удача. Захватив шлюп и бригантину, они погнались за лакомым кораблем, попавшимся им по пути: увидев пиратский флаг, двадцатипушечный корабль «Дельфин», направлявшийся к Ньюфаундленду, покорился грабителям. Капитан Мартел взял его команду в плен, а корабль забрал себе.
В середине декабря пираты захватили галеру «Кент», плывшую домой с Ямайки (капитан Лоутон), и, перегрузив всю провизию к себе на борт, отпустили. Это вынудило галеру повернуть обратно к Ямайке за новыми припасами для плавания. Далее им попались маленькое суденышко и шлюп, принадлежащие Барбадосу, и с обоих они взяли продовольствие, а затем расстались с ними, правда, приняв на борт нескольких моряков, выразивших желание присоединиться к пиратам. Следующим судном, имевшим несчастье попасться им на пути, была галера из Лондона «Грэйхаунд» капитана Эванса, следовавшая из Гвинеи на Ямайку, которую они задержали ровно настолько, сколько потребовалось, чтобы перетащить с нее весь золотой песок, слоновую кость и сорок рабов, после чего предоставили ей следовать своей дорогой.
Тут они поняли, что сейчас самое время укрыться в какой-нибудь бухте, подлатать судно, отдохнуть и дождаться удобного случая сбыть груз, поэтому сочли за лучшее взять курс на островок Санта-Крус.
Теперь оставим ненадолго капитана Мартела и приведем к ним еще одну команду.
В ноябре 1716 года генерал Гамильтон, командующий флотом карибских Подветренных островов, отправил курьерский шлюп на Барбадос к капитану Хьюму, командиру корабля Его Величества «Скарборо», имевшего на борту тридцать пушек и сто сорок человек, чтобы известить того, что два пиратских шлюпа, каждый вооружением в двенадцать пушек, досаждают колониям и уже ограбили несколько судов. «Скарборо» как раз потерял умершими двадцать человек, а еще около сорока болели, поэтому выйти в море кораблю было проблематично. Но капитан Хьюм оставил своих больных на берегу и отправился к другим островам, чтобы пополнить команду. У острова Ангуилья он узнал, что незадолго до этого в порту Спэниш-тауна видели два похожих шлюпа. На следующий день «Скарборо» направился туда, но не услышал о шлюпах ничего нового – только то, что они останавливались тут примерно под Рождество.
Капитан Хьюм решил, что ему следует вернуться на Барбадос, но ночью встало на якорь суденышко с Санта-Круса, и прибывшие сообщили, что видели пиратский корабль в двадцать две или двадцать четыре пушки, в сопровождении других судов направлявшийся к северо-западной оконечности Санта-Крус. На следующее утро «Скарборо» появился в виду грабителей и их призов и встал в боевой готовности. Однако лоцман отказался рисковать кораблем, пираты же все время обстреливали их с берега раскаленными ядрами.
Наконец корабль бросил якорь с наружной стороны рифов, у входа в пролив, и в течение нескольких часов обстреливал суда и батареи. Около четырех часов пополудни шлюп, охранявший пролив, был потоплен выстрелом с военного корабля, после чего тот стал обстреливать двадцатидвухпушечный пиратский корабль, укрывшийся за островком. На следующую ночь было затишье – это капитан Хьюм оценивал положение. Опасаясь напороться на риф, он еще пару дней стоял в отдалении от берега, блокируя выход пиратам. Вечером двадцатого, увидев, что военный корабль находится далеко в море, пираты попытались выкрутиться, полагая, что смогут улизнуть с острова, но в двенадцать часов сели на мель, а затем, увидев, что «Скарборо» вновь стоит невдалеке и положение их стало безнадежным, ударились в панику. Они покинули свой корабль и предали его огню, оставив на борту двадцать негров, которые сгорели заживо. Девятнадцать пиратов сумели бежать на маленьком шлюпе, а капитан и все остальные, включая еще двадцать уцелевших негров, укрылись в лесу, где, должно быть, умерли с голоду. Во всяком случае, ни о капитане, ни об экипаже больше сведений не имеется.
Капитан Хьюм выпустил на свободу всех пленников, захваченных пиратами, передав им уцелевшие корабль и шлюп, а затем отправился на поиски двух других пиратских шлюпов, о которых мы уже рассказывали.
Глава III
Капитан Тич по прозвищу Черная Борода
Эдвард Тич по рождению был бристольцем. В конце войны за испанское наследство (1701–1713 гг.) он некоторое время ходил близ Ямайки приватиром и хотя отличался храбростью и личным мужеством, но все же так и не смог подняться до командирской должности, пока не отправился пиратствовать. Считается, что это произошло в самом конце 1716 года, когда капитан Бенджамин Хорниголд передал ему шлюп, захваченный в качестве приза. С самим Хорниголдом Тич продолжал плавать в напарниках почти до дня, когда тот сдался.
Заметим здесь, что Хорниголд почтил своим присутствием Атлантический океан и Карибское море в 1716–1717 годах. Он сдался по амнистии Вудсу Роджерсу в июле 1718 года, после чего участвовал в погонях за Джоном Огером и другими пиратами. Погиб Бенджамин Хорниголд около 1719 года при кораблекрушении.
А теперь вернемся к мистеру Тичу.
Весной 1717 года Тич и Хорниголд отправились с Провиденса к Американскому побережью и захватили по пути биллоп из Гаваны со ста двадцатью баррелями муки и шлюп шкипера Тербара с Бермудских островов, с которого взяли всего несколько галлонов вина, а потом отпустили. Чуть позже им повстречался корабль, шедший из Мадеры в Южную Каролину, с которого пираты взяли добычи на значительную сумму.
Подремонтировав судно на побережье Виргинии, они вернулись в Вест-Индию и на широте 24° взяли в качестве приза большой французский гвинеец, направлявшийся к Мартинике, на который, по указанию Хорниголда, Тич взошел капитаном и продолжил на нем плавание. Хорниголд же вернулся со своим шлюпом на Провиденс и сдался капитану Роджерсу, королевскому губернатору, в расчете на амнистию.
На борту гвинейца Тич установил сорок пушек и нарек его «Месть королевы Анны». Курсируя у острова Сент-Винсент, он взял в плен большой корабль «Великий Аллен» под командованием Кристофера Тейлора. Пираты забрали с него все, что сочли пригодным, высадили команду на остров и предали корабль огню. Несколько дней спустя Тич столкнулся с тридцатипушечным военным кораблем «Скарборо», и тот несколько часов бился с ним, но, обнаружив, что у пирата достаточно людей и сил, прекратил бой и вернулся на Барбадос. Тич же отправился к Испанской Америке.
Следуя избранным курсом, он встретил пиратский шлюп с десятью пушками под командой некоего майора Боннета. Тот прежде был джентльменом с хорошей репутацией и достойным положением, и Тич присоединился к нему. Но спустя несколько дней Тич, видя, что Боннет ничего не знает о морской жизни, с согласия его людей назначил на шлюп другого капитана, некоего Ричардса, а майора взял на борт своего корабля, пояснив происходящее тем, что Боннет не привык к трудностям и заботам капитанского поста.
На Тюрнефе, в десяти лигах от Гондурасского залива, пираты набрали свежей воды. Стоя на якоре, они увидели, как подходит шлюп, после чего Ричардс на своем шлюпе «Месть» вытравил якорный канат и вышел ему навстречу. Тот же, увидев черный флаг, спустил паруса и бросил якорь под кормой коммодора Тича. Это оказался корабль «Приключение» с Ямайки шкипера Дэвида Хэрриота. Пираты взяли шкипера и его людей на борт большого корабля и послали нескольких матросов и Израэля Хэндса, штурмана корабля Тича и второго человека в его команде, укомплектовать шлюп командой для пиратских целей.
Простояв у Тюрнефа до 9 апреля, пираты снялись с якоря и направились в залив, где нашли еще корабль и четыре шлюпа: три из них принадлежали Джонатану Бернарду с Ямайки, а капитаном четвертого был Джемс; корабль же был из Бостона и назывался «Протестант-Кесарь», им командовал коммандер Уайар. Тич поднял черный флаг и дал залп из пушек, после чего капитан Уайар со всеми своими людьми покинул корабль и в шлюпке направился к берегу. Старшина-рулевой Тича и восемь человек из его команды овладели кораблем Уайара, а Ричардс захватил все шлюпы, один из которых они сожгли назло его капитану. «Протестанта-Кесаря» также сожгли, предварительно разграбив, а три шлюпа, принадлежавших Бернарду, они отпустили.
Далее разбойники пошли к Теркилу, затем к Гранд-Кайману, небольшому острову лигах в тридцати к западу от Ямайки, где взяли суденышко охотников за черепахами, после к Гаване, оттуда к Багамским Крушениям, а от Багамских Крушений они, захватив по пути бригантину и два шлюпа, отправились в Каролину, где пять-шесть дней стояли у песчаной отмели у Чарлзтауна. Здесь они захватили корабль под командой Роберта Кларка, когда тот выходил из гавани, направляясь в Лондон. На другой день они захватили еще одно судно, выходившее из Чарлзтауна, и два пинка, шедших в Чарлзтаун, а также бригантину с четырнадцатью неграми на борту. Все это происходило в виду города, поэтому вся провинция Каролина была охвачена ужасом, ведь совсем недавно их посетил Вейн, другой печально известный пират. Гражданские власти впали в отчаяние, оказавшись не в состоянии противостоять пиратам. В гавани было восемь парусников, готовых выйти в море, но ни один не осмелился на это – было практически невозможно ускользнуть из рук морских разбойников. Суда, направлявшиеся в гавань, оказались перед тем же незавидным выбором, и торговля в этих местах была полностью парализована.
Тич задержал все корабли и пленников, а поскольку у него был дефицит лекарств, решил потребовать ящик медикаментов у правительства провинции. Ричардс, капитан шлюпа «Месть», и с ним еще двое подручных были посланы на берег вместе с мистером Марксом, одним из пленников, которого захватили на корабле Кларка. Они решительно объявили свои требования, угрожая, что если им не предоставят лекарств и не дадут возможности беспрепятственно вернуться, то пираты перебьют пленников, пошлют их головы губернатору, а захваченные корабли подожгут.
Пока мистер Маркс обращался в Совет, Ричардс и остальные пираты открыто гуляли по улицам. Правительство недолго обдумывало послание, хотя оно было наибольшим из оскорблений, какое только можно нанести. Однако ради сохранения жизни многих людей (в том числе и мистера Сэмуэля Рэгга, одного из членов Совета при губернаторе) они уступили необходимости и послали на борт аптечный ящик ценой от трех до четырех сотен фунтов, а пираты невредимыми вернулись на свои корабли.
Черная Борода (так обычно называли Тича), как только получил лекарства и увидел невредимыми посланных собратьев по ремеслу, отпустил корабли и пленников, взяв, правда, с них золотом и серебром около полутора тысяч фунтов стерлингов, не считая провизии и прочих товаров.
От мели Чарлзтауна они направились к Северной Каролине: капитан Тич – на корабле, который они называли военным, капитан Ричардс и капитан Хэндс – на шлюпах, которые именовали приватирами. В их эскадре был еще один шлюп, который служил вспомогательным судном. Тич начал уже подумывать о том, чтобы распустить команду, придержав деньги и лучшее из имущества для себя и нескольких своих товарищей. Под видом того, что заходит в бухту Топсель почиститься, он посадил корабль на мель, а после приказал шлюпу Хэндса прийти на помощь и снять его. Тич взошел на вспомогательный шлюп с сорока матросами и оставил на мели «Месть», а семнадцать человек с нее высадил на песчаном островке приблизительно в лиге от материка, где не было никакого пропитания и где они погибли бы, если бы через два дня майор Боннет их не снял.
Тич, а с ним около двух десятков человек, явились к губернатору Северной Каролины и сдались по указу Его Величества, и все они получили свидетельства от Его превосходительства. Но оказалось, что этот шаг они сделали только для того, чтобы дождаться благоприятной возможности и начать игру сначала. Кроме того, что Тич начал свой промысел, он успел еще и подружиться с губернатором Чарлзом Иденом, эсквайром.
Первой услугой, каковую этот добрый губернатор оказал Черной Бороде, было утверждение его в правах на судно, которое он захватил, пиратствуя на большом корабле под названием «Месть королевы Анны». С этой целью в Бастауне созван был суд Вице-Адмиралтейства: пусть Тич никогда не имел лицензии, пусть шлюп принадлежал английским купцам и был захвачен в мирное время… Однако суд объявил этот шлюп призом, взятым у испанцев капитаном Тичем.
Прежде чем отправиться навстречу новым приключениям, он женился на юном создании лет шестнадцати от роду. И обряд провел именно губернатор. Так Тич, как мне сообщили, получил четырнадцатую жену, притом что из всех его жен около дюжины были еще живы.
В июне 1718 года Тич вышел в очередной поход и взял курс на Бермуды. Он встретил на своем пути два или три английских судна, но взял с них только провизию и иные припасы, необходимые для текущих нужд. С подветренной от острова стороны он столкнулся с двумя французскими кораблями, один из которых был нагружен сахаром и какао, а другой порожним направлялся на Мартинику. Корабль без груза он отпустил, посадив на него всех матросов с груженого корабля, другой же корабль вместе с грузом привел в Северную Каролину, где губернатор и пираты поделили награбленное.
Тич и еще четверо из его команды пошли к Его превосходительству и заявили под присягой, что нашли в море покинутый французский корабль. Губернатор созвал суд, и на корабль наложили арест. Губернатор в качестве своей доли получил шестьдесят хогсхедов[6] сахара, а некий мистер Найт, его секретарь, и сборщик налогов провинции – двадцать, остальное было поделено между пиратами. Дело, однако, тем не закончилось: оставался еще сам корабль, который кто-нибудь мог опознать и раскрыть мошенничество. Но Тич придумал, как это предотвратить: под предлогом, что корабль дал течь и может затонуть и тем самым закрыть вход в бухту, где стоит, Тич обзавелся приказом губернатора вывести корабль в реку и поджечь. Корабль сгорел, скрыв под водой опасения, что он когда-нибудь всплывет на судебном разбирательстве, чтобы свидетельствовать против пиратов и их доброго покровителя.
Капитан Тич, или Черная Борода, провел на реке три-четыре месяца, то становясь на якорь в затонах, то плавая от одной бухты к другой, продавая награбленное встреченным шлюпам, и, если бывал в добром настроении, часто оделял их подарками за отнятые у них припасы и продовольствие.
Шкиперы шлюпов, ведущих торговлю вверх и вниз по реке и столь часто подвергавшихся нападениям, стали держать совет с торговцами и самыми надежными из плантаторов относительно того, чтобы предпринять что-то против Черной Бороды: они ясно видели, что обращаться к губернатору бессмысленно, тот наверняка защитит своего «друга». Было решено послать прошение губернатору соседней провинции, Виргинии, чтобы тот отправил на усмирение Черной Бороды находящиеся там корабли и вооруженные силы.
Губернатор посовещался с капитанами двух военных кораблей, «Жемчужины» и «Лайма», которые уже около десяти месяцев стояли на реке Св. Джемса. Было решено, что губернатор наймет пару небольших шлюпов, а военные корабли дадут для них людей. Командование шлюпами поручили мистеру Роберту Мейнарду, первому лейтенанту «Жемчужины», опытному офицеру, джентльмену большой храбрости и решительности. Шлюпы хорошо оснастили, однако пушки на них не установили.
Семнадцатого ноября 1718 года лейтенант отплыл из Кикветана, стоявшего на Джемс-ривер в Виргинии, и вечером 21го пришел к устью бухты Окрекок, где увидел пиратов. Экспедиция проводилась со всей мыслимой секретностью, и офицер соблюдал необходимые предосторожности, останавливая все лодки и суда, попадавшиеся на реке, чтобы лишить Черную Бороду возможности получить какие-либо сведения, и в то же время получать от всех сообщения о месте, где скрывался пират. Несмотря на предосторожности, Черная Борода был уведомлен о плане Его превосходительством, самым «добрым другом», губернатором провинции.
Тич уже получал ранее предупреждения, позже оказывающиеся ложными, и мало поверил этому, не удосужившись удостовериться в его подлинности. Лишь когда он своими глазами разглядел шлюпы, то дал команду готовить судно к защите. У него на борту было всего двадцать пять человек. Приготовившись к сражению, он сошел на берег и провел ночь, пьянствуя со шкипером торгового шлюпа, который, как считали, имел с Тичем больше дел, чем следовало бы.
Лейтенант Мейнард бросил якорь: место было мелкое, а пролив сложный, и той ночью туда, где стоял Тич, дойти было нельзя. Но уже утром он снялся с якоря, послал шлюпку на разведку и, подойдя к пирату на расстояние пушечного выстрела, принял залп на себя. Далее Мейнард поднял королевский флаг и ринулся на Тича так быстро, как только позволяли паруса и весла. Черная Борода, продолжая палить из пушек, обрезал якорь и попытался спастись бегством. Мейнард за неимением таковых вел непрерывный огонь из ручного оружия, а часть его людей трудилась на веслах. Через малое время шлюп Тича наскочил на мель. Поскольку шлюп мистера Мейнарда имел осадку болше, чем у пирата, то не мог подойти вплотную. Тогда лейтенант встал на якорь в половине пушечного выстрела и, чтобы облегчить свое судно и иметь возможность пойти на абордаж, приказал выбросить за борт весь балласт и выбить днища у всех бочек с водой, а затем поднял якорь и направился к пирату. Черная Борода с негодованием окликнул его:
– Черт побери, кто ты такой? И откуда ты взялся?
– Ты видишь по нашему флагу, что мы не пираты.
Тич заявил, что приглашает его к себе на борт, чтобы взглянуть, кто перед ним.
На что Мейнард ответил:
– У меня нет лишних шлюпок. Но я перейду к тебе на борт, как только смогу, с борта своего шлюпа.
– Проклятье на мою душу, если я пощажу тебя или приму от тебя пощаду!
В ответ Мейнард крикнул, что не ждет от него пощады и сам ему пощады не обещает.
К тому времени шлюп Черной Бороды сошел с мели. Поскольку шлюпы лейтенанта Мейнарда гребли к нему, пока он еще не успел подвсплыть ни на фут, каждый человек на них подвергался опасности, и когда они подошли вплотную (а до сего момента обе стороны получили весьма мало разрушений или даже вовсе никаких), пират дал бортовой залп, зарядив пушки всякого рода мелкою дробью. Это был роковой удар! На шлюпе, на коем находился лейтенант, было убито и ранено двадцать человек, на другом же шлюпе – девять: с этим ничего нельзя было поделать, ибо ветра не было и они вынуждены были идти на веслах, иначе пират ушел бы, чему, по-видимому, лейтенант был полон решимости помешать.
После этого несчастливого удара шлюп Черной Бороды ткнулся бортом в берег. Второй шлюп Мейнарда, называвшийся «Бродяга», был выведен из строя. Лейтенант, обнаружив, что его шлюп скоро будет борт к борту с Тичем, отдал своим людям приказ спуститься в трюм: он опасался еще одного бортового залпа, который означал бы уничтожение экспедиции. Лейтенант Мейнард был единственным, кто оставался наверху, не считая рулевого, которому он приказал лечь на палубу. Матросам в трюме было велено держать пистоли и сабли наготове для рукопашного боя и по команде подниматься наверх, для чего к люку были приставлены две лестницы. Когда шлюп лейтенанта взял пирата на абордаж, люди капитана Тича метнули на палубу несколько гранат, то бишь оплетенных бутылок с порохом и дробью, пулями и кусочками свинца или железа, с горящим фитилем в горлышке. Черная Борода, видя, что на борту никого не видно, приказал своим людям завершить разгром, для чего перепрыгнуть на борт шлюпа и пустить в дело сабли.
После чего, укрываясь за дымом одной из упомянутых бутылок, Черная Борода с четырнадцатью матросами поднялся на нос шлюпа Мейнарда. Как только воздух очистился, лейтенант подал своим людям сигнал. Они мгновенно поднялись из трюма и атаковали пиратов. Черная Борода и Мейнард разрядили друг в друга по пистолю, причем пират был ранен. Затем противники бились на саблях, пока сабля лейтенанта не сломалась. Он вынужден был отступить, чтобы взвести курок, но в тот миг, когда Черная Борода поднял абордажную саблю для удара, один из людей Мейнарда нанес ему страшную рану в шею и горло, так что лейтенант отделался лишь небольшим порезом на пальцах.
Теперь они сошлись вплотную и бились не на жизнь, а на смерть – лейтенант с двенадцатью матросами против Черной Бороды с четырнадцатью, – пока море вокруг судна не окрасилось кровью. Черная Борода был ранен из пистоля лейтенанта Мейнарда, и все же не отступал, пока не получил двадцать пять ран, причем пять из них огнестрельных. Наконец, уже выстрелив из нескольких пистолей и взводя еще один, он упал замертво. К тому времени умерло еще восемь из четырнадцати пиратов, а остальные, неоднократно раненные, запросили пощады, которая была им дарована, хотя это продлило их жизни всего на несколько дней. Подоспел шлюп «Бродяга» и так решительно атаковал пиратов на шлюпе Черной Бороды, что те взмолились о пощаде.
Таков был конец этого отважного негодяя, который мог бы прослыть в мире героем, если бы занялся добрым делом. Его уничтожение стало возможным только благодаря мужеству лейтенанта Мейнарда и храбрости его людей. Тича можно было бы разбить с гораздо меньшими потерями, будь у них судно с тяжелыми пушками: но военные были вынуждены использовать малые суда, ведь в бухты, где тот скрывался, не могли пройти суда большей осадки.
Нынче кажется несколько странным, что некоторые из тех, кто так храбро вел себя в сражении против Черной Бороды, впоследствии сами пошли пиратствовать, а один из них был даже схвачен вместе с капитаном Робертсом. Но неизвестно, чтобы кто-либо из них понес наказание, за исключением этого господина.
Лейтенант, приказав отделить голову Черной Бороды от тела и подвесить на конце бушприта, поплыл в Бастаун, чтобы оказать помощь своим раненым.
При обыске пиратского шлюпа были обнаружены несколько писем и документов, которые вскрыли переписку губернатора Идена, секретаря и сборщика налогов, а также некоторых торговцев из Нью-Йорка с Черной Бородой. Пират был достаточно внимателен к своим друзьям и просто не успел уничтожить эти бумаги, чтобы не дать им попасть не в те руки, ведь подобное открытие не принесло бы пользы интересам или репутации столь славных джентльменов.
Прибыв в Бастаун, лейтенант позволил себе конфисковать со склада губернатора те самые шестьдесят хогсхедов сахара, а еще двадцать – у честнейшего мистера Найта. Мистер Найт недолго переживал это постыдное разоблачение: в ожидании, что его могут призвать к ответу за эти «милые пустячки», от страха он занемог и через несколько дней скончался.
После того как раненые оправились, лейтенант отплыл назад в Виргинию с головой Черной Бороды, по-прежнему висевшей на конце бушприта, и пятнадцатью пленными, из которых тринадцать было повешено. На суде оказалось, что один из них, Сэмюэл Одел, был взят с торгового шлюпа лишь в ночь перед сражением. Бедняге не повезло с первым прикосновением к новому ремеслу – после боя на нем обнаружилось не менее семидесяти ран, но он выжил и излечился. Вторым человеком, который избежал виселицы, был некий Израэль Хэндс, штурман на шлюпе Черной Бороды, на котором прежде был капитаном, пока «Месть королевы Анны» не погибла в бухте Топсель.
Этот самый Хэндс не участвовал в сражении, но был схвачен позже в Бастауне: незадолго до того Черная Борода искалечил его, ранив из пистоля в пьяной перестрелке. Когда у Тича спросили, что сие означает, он ответил, что, если бы время от времени не убивал одного из них, то они бы позабыли, кто он такой.
Хэндса судили и признали виновным, но, когда его уже собирались казнить, в Виргинию прибыл корабль с указом, продлевающим срок амнистии Его Величества тем пиратам, которые сдадутся до истечения указанного в амнистии времени. Несмотря на уже вынесенный приговор, Хэндс просил о помиловании, которое и было ему даровано. Он перебрался в Лондон и, пока оставался на виду, просил милостыню.
Нельзя не вспомнить о бороде Тича, раз уж она немало способствовала его славе. Борода эта была черного цвета, и он отрастил ее до невероятной длины; что касается ширины, то она доходила ему до глаз – обычно он заплетал ее в косички, перевивая их лентами, и накручивал сии косички себе на уши. Во время боя он цеплял через плечо на манер бандальеры[7] ружейный ремень, с которого свисали три пары пистолей в кобурах, и засовывал под края шляпы зажженные спички – когда они с двух сторон освещали его лицо, глаза его казались невероятно свирепыми и дикими. Все это, взятое вместе, придавало ему такой вид, что людское воображение не могло породить чудовища, чей облик был бы более пугающим.
Если обличьем Тич походил на мифическое чудовище, то его причуды и страсти были под стать облику. Вот всего два штриха к его портрету.
Однажды достаточно выпив, Тич предложил:
– А ну-ка сотворим ад и посмотрим, сколь долго мы сможем его выносить!
Хорошенько продумав эту «забаву», он и еще трое пиратов спустились в трюм и, задраив все люки, доверху наполнили несколько горшков серой и другими горючими веществами и подожгли. Они едва не задохнулись, но в конце концов Тич открыл люки, немало довольный тем, что продержался дольше всех.
В день перед смертью Черная Борода, уже имея сведения о двух шлюпах, выступивших против него, пил до утра с несколькими из своих людей и шкипером торгового судна. На вопрос, знает ли его жена, где он закопал свои деньги, если что-то случится, Тич ответил, что ни одно живое существо, кроме него самого и дьявола, не знает, где они, и тот из них двоих, кто продержится дольше, возьмет все.
Те из его команды, кто был захвачен живыми, рассказывали историю, которая может показаться невероятной. Однажды в плавании они обнаружили, что на борту, кроме команды, есть еще один человек: его в течение нескольких дней видели иногда внизу, а иногда на палубе, и все же никто на корабле не мог сказать, кто он и откуда взялся. Пираты рассказывали, что он исчез незадолго до того, как большой корабль потерпел крушение, и, похоже, они всерьез считали, что то был сам дьявол.
Эти негодяи прожигали свои жизни в весьма сомнительных удовольствиях, владея тем, что силой отняли у других. Они пребывали в полной уверенности, что в конце концов за это придется заплатить, однако даже позорная кончина их не пугала.
Вот имена пиратов, убитых в сражении:
Эдвард Тич, капитан,
Филип Мортон, канонир,
Гэррет Гиббенс, боцман,
Оуэн Робертс, плотник,
Томас Миллер, старшина-рулевой,
Джон Хаск,
Джозеф Кертис,
Джозеф Брукс (1),
Нат Джексон.
Остальные, исключая двух последних, были ранены и позже повешены в Виргинии.
Джон Карнз,
Джозеф Брукс (2),
Джемс Блейк,
Джон Гиллз,
Томас Гейтс,
Джемс Уайт,
Ричард Стайлз,
Кесарь,
Джозеф Филипс,
Джемс Роббинс,
Джон Мартин,
Эдвард Солтер,
Стивен Дэниел,
Ричард Гринсэйл,
Израэль Хэндс, помилован,
Сэмюэл Одел, оправдан.
В пиратских шлюпах и в лагере на берегу возле того места, где стояли шлюпы, было найдено двадцать пять хогсхедов сахара, одиннадцать бочек и сто сорок пять мешков какао, бочонок индиго и кипа хлопка. Все это вместе с тем, что было изъято у губернатора и секретаря, а также тем, что было выручено от продажи шлюпа, составило две с половиной тысячи фунтов стерлингов – помимо наград, выплаченных губернатором Виргинии в соответствии с обещанием. Все было разделено между командами двух кораблей, «Лайма» и «Жемчужины», стоявших на Джемс-ривер. Храбрецы, что были во главе, взяли себе обычную долю наряду с простыми матросами, каковые деньги были выплачены всем в течение трех месяцев.
Глава IV
Стид Боннет и его команда
Майор Боннет пользовался хорошей репутацией на острове Барбадос, где владел крупным состоянием. Исходя из этого он менее прочих должен был бы поддаться искушению пойти пиратской стезей. На острове, где он жил, впоследствии скорее жалели его, нежели осуждали, полагая, что его решение податься в пираты произошло от смятения ума, ведь майор ничего не понимал в морских делах.
Тем не менее он снарядил за свой счет шлюп о десяти пушках и с командой из семидесяти матросов и под покровом ночи отплыл с Барбадоса. Свой шлюп он назвал «Месть». Первое его плавание проходило недалеко от мысов Виргинии, где он захватил несколько кораблей и забрал у них провизию, одежду, деньги, амуницию и т. д. Вот названия кораблей «первой добычи» Боннета: «Анна» капитана Монтгомери из Глазго; «Тербет» с Барбадоса, который пираты предали огню, взяв себе основную часть груза; «Усилие» капитана Скота из Бристоля; «Юный» из Лейса. После этого они пошли к Нью-Йорку и восточной оконечности Лонг-Айленда и захватили шлюп, направлявшийся в Вест-Индию, после чего подошли к берегу и высадили несколько человек на остров Гарденер, но вели себя там миролюбиво, купили провизии для команды, за которую заплатили не скупясь, и спокойно отбыли.
В августе 1717 года Боннет, курсируя вдоль отмелей Южной Каролины, захватил направлявшиеся туда шлюп и бригантину. Шлюп шкипера Джозефа Палмера принадлежал Барбадосу и был нагружен ромом, сахаром и рабами. Бригантина шкипера Томаса Портера шла из Новой Англии, ее ограбили и отпустили. Шлюп пираты захватили с собой и в одном из заливов Северной Каролины попытались его кренговать, а потом предали огню.
Очистив свой шлюп, они направились в море, но не могли решить, на какой курс ложиться. Майор был никудышным моряком и потому вынужден был соглашаться на многое, что ему навязывали. Наконец он очутился в компании другого пирата, Эдварда Тича. Этот малый был хорошим моряком, но самым жестоким и закоренелым из злодеев, дерзким и отчаянным, готовым на самые гнусные злодеяния.