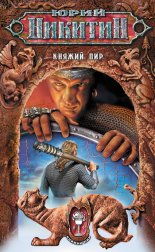Звездные раны Алексеев Сергей
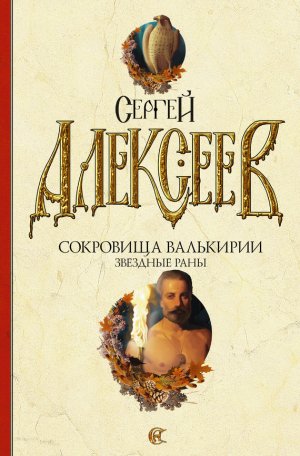
По убеждениям штандартенфюрера, русские уже не должны были и не могли победить, независимо от того, есть ли у них за спиной заградотряды, в решающем значении которых пытались убедить обывателя западная пропаганда и внутрироссийские диссиденты. Как военный человек, он отлично знал, что солдата невозможно гнать в атаку на пулеметы под пулеметом же; любая армия с любой идеологией в таком положении просто отказывается воевать и разбегается. Тем более заставить русского человека победить, если он того не желает, вообще невозможно.
Фон Шнакенбург был сам свидетелем, как под Киевом взяли в плен полтора миллиона солдат Красной Армии вместе с исправной техникой, вооружением и продовольствием. Как потом через пять месяцев германские войска подошли к Москве, и только морозы не позволили начать ее штурм. А блестящее летнее наступление сорок второго по южному направлению – это вообще одна из лучших операций Третьего рейха. Красная Армия слабо держала удар либо не держала его вообще, бросая отлично укрепленные районы, выгодные позиции и не пользуясь ни одним просчетом немецкого командования, когда отдельные части, соединения и даже армии уходили далеко вперед и отрывались от своих или вообще оставляли фронт открытым для контрудара. Но вот с началом сорок третьего все резко изменилось, и бывший штандартенфюрер СС ценою кропотливой полувековой работы нашел истинную причину перелома в войне и последующей победы.
По его разумению, она состояла из двух главных аспектов: силы духа воинов (воля к победе) и особой, кастовой посвященности военачальников. И дело было никак не в силе идей, идеологии и заградотрядов. Что касается духа воинства – он благодаря этой поездке только что нашел ему подтверждение и понял, что многолетний труд и муки не напрасны, а потому он весел и может позволить себе немного погулять.
Поначалу немец выглядел молодцом и бодренько излагал свою версию причины победы русских, которая Сергеем Опариным воспринималась без особого интереса. Штандартенфюрер уверял, что до сорок третьего года Красная Армия состояла в основном из молодых, до тридцати лет, солдат, выросших на почве марксистско-ленинской идеологии и глубоко идеологизированных. Это она не держала удара, это она бежала и массово сдавалась в плен вместе с красными генералами, ибо умозрительная идея, как и пулемет за спиной в руках энкаведэшника, может только раз бросить солдата в отчаянную атаку, а противостоять сильному противнику способны лишь глубинные, материковые, неизменные ценности, будто пуповиной связанные с душой каждого человека. К концу сорок второго молодняк выбили и искалечили, армия стала пополняться людьми более старшего возраста, в бой пошла коренная Россия, под давлением идеологии не утратившая этой связи и даже оживившая ее, поскольку враг уже посягал на столицу. К началу сорок третьего личный состав армии более чем наполовину уже состоял из носителей материковой национальной психологии и мироощущения.
В этом состоял истинный перелом в войне! Грань сего явления совершенно четко отбивается по моменту, когда вдруг вместо революционных петлиц вводятся «белогвардейские» погоны, когда начинают прославлять в фильмах князей и царей, когда богоборческая власть открывает церкви, а над осажденным Ленинградом летает самолет с иконой Владимирской Божьей Матери, замыкая город в охранительный круг.
Русские начали не только держать удар, но побеждать еще задолго до Курской дуги.
Изложенные немцем мысли не то что уже нравились свободному, независимому журналисту; он быстро сообразил, что это новый взгляд на историю Отечественной войны и Победы, поскольку официальный взгляд, насквозь пропитанный коммунистической идеологией, практически отрицал все национальное. Теперь он старался не пропустить ни слова и все запомнить (записать нельзя, руки заняты баранкой), однако фон Шнакенбург скоро перешел к объяснению второго аспекта причины победы России, который заключался в особом состоянии разума и духа трех главных военачальников – Жукова, Рокоссовского и Конева. Сам Сталин не получил подобного благословения, а эта троица легендарных полководцев на исходе сорок второго, а именно с девятнадцатого по двадцать четвертое декабря, вступая в крайнее противоречие с большевистской идеологией, получает сакральную воинскую силу.
Опарину показалось тогда, что немец подзагнул, поскольку был сильно увлечен первым аспектом причины победы и негодовал про себя: а ведь догадки эти уже бродили в сознании, мог бы и сам дойти, в чем суть решительного перелома в войне с начала сорок третьего. Теперь вот немец подтолкнул мысль в нужную сторону, и все остальное, касаемое военачальников и особенно каких-то сакральных штучек, он слушал отвлеченно, полагая, что старый эсэсовец выжил из ума и несет полный бред. Следовало на ходу сочинить большой газетный материал к юбилею начала войны. И все-таки в памяти остались какие-то обрывки высказанного фон Шнакенбургом. Отчетливо помнил лишь несколько эпизодов: штандартенфюрер после ранения под Сталинградом получил должность помощника Рудольфа Гесса (журналист никак не мог толком вспомнить, чем же занимался в рейхе этот человек и что потом было с ним), а именно, возглавил стратегическую группу «Абендвайс». Немец так часто повторял это слово, что вколотил его в голову непроизвольно, однако ничего больше не запомнилось относительно этой группы. Зато в памяти отложилось, что секретный архив Гесса, за которым много лет гонялись разведки СССР, США и Англии (там были вроде бы какие-то разоблачающие антигитлеровский союз документы), все время находился у Шнакенбурга в Колумбии. Еще осталось в сознании, что Жуков, Рокоссовский и Конев в декабре сорок второго тайно выехали со своих фронтов будто бы по вызову Ставки, однако в Москву не прибыли и отсутствовали где-то в течение пяти суток, чем невероятно разгневали Сталина. Будто бы он провел секретное совещание, на котором присутствовали Берия, Каганович и еще кто-то, где решали вопрос об аресте этих военачальников. Однако впоследствии каждый из них был вызван в Ставку, опрошен лично вождем и отпущен.
И будто бы Жуков тогда сообщил Сталину – за полгода до события! – что решающая битва состоится в июле – августе будущего года под Курском.
Однако избирательная журналистская память схватывала лишь то, что ложилось в заранее выстроенную концепцию будущего материала; остальное проходило фоном, как легкая музыка. К тому же машина у Сергея Опарина хандрила, и он опасался, что не довезет штандартенфюрера, а так не хотелось ударить в грязь лицом перед недобитым фашистом.
Все это немец рассказывал по дороге в Кострому, в одиночку попивая шнапс, и так надрался, что журналисту пришлось буквально на руках втаскивать его в вагон и сдавать проводнице. Фон Шнакенбург пел песни юных штурмовиков, орал «Хайль Гитлер!», при этом как белым флагом размахивал марками и потому был принят и обихожен.
И хорошо, что так получилось! У журналиста оказались свидетели – возмущенные поведением иностранца люди, видевшие, как он тащил к поезду седого старика, кричащего по-немецки «Дранг нах Остен!». Потом и проводницу отыскали, которая подтвердила, что иностранец действительно сел в Костроме, и, несмотря на то что старый человек, нарядился в черную фашистскую форму, «как у Штирлица», и целый перегон до Бурмакина смешил богатую публику мягкого супервагона. Его даже жалко стало, ибо немец напоминал клоуна, а хорошо выпившие и сытые пассажиры подыгрывали ему, кричали «Хайль!» и называли старика «мой фюрер».
Билет у него был куплен до Москвы, но он протрезвел, переоделся в приличную одежду и, сильно извиняясь, сошел на станции Берендеево.
Никто этого немца больше не видел…
* * *
А искать его начали спустя месяц. Сначала фирма «Открытая Россия», что принимала любознательных иностранцев – немец этот у них «завис», то есть въехал в страну и не выехал, и миграционная служба начала трясти и требовать Адольфа фон Шнакенбурга живого или мертвого.
Потом, наконец, его хватились в Германии, однако не родственники, поскольку таковых не оказалось, а некий клуб «Абендвайс», где он был президентом. И лишь тогда всерьез занялись розыском бывшего штандартенфюрера СС и, вероятно, вчитались в смысл описанного в анкете его боевого пути. И стали трепать независимого журналиста, в течение десяти дней бывшего с немцем в близком контакте.
Кагэбэшников мало интересовало, где может находиться сейчас этот немец, каковы были его дальнейшие планы; их больше привлекала фигура самого Сергея Опарина, бывшего диссидента, и потому, подозревая что-то, они одолевали вопросами исторического характера, связанными с Рудольфом Гессом, его секретным архивом, с группой «Абендвайс» и обстоятельствами, при которых легендарные маршалы исчезали куда-то на пять дней в декабре сорок второго. Как раз спрашивали о том, что проскочило мимо ушей, и тогда с его согласия попытались допросить в состоянии гипноза, однако сколько ни бились, сколько ни шептали над ним заклинания и ни махали руками, уложить спать независимого журналиста оказалось невозможно.
А потом был путч, развал СССР, и об Адольфе фон Шнакенбурге попросту забыли, как тогда забывали о многих вещах, представляющих государственный интерес. Этот немец так и остался «зависшим» в одном ряду с вьетнамцами и африканцами, которые не хотели возвращаться в свои страны. От Сергея Опарина отстали, но уже завели, закрутили до отказа пружину механизма журналистского азарта, и после нескольких материалов, опубликованных в центральной прессе, известный диссидент, но все-таки провинциальный газетчик, привлек к себе внимание столичных коллег.
В Москве издавались уже десятки независимых газет и всем требовались разоблачительные острокритические статьи: страну приводили к покаянию, начиналось время развенчания кумиров, сотворенных коммунистической системой, открытия самых закрытых архивов, государственных тайн и корзин для грязного белья, так что Сергей Опарин попал в струю со своим новым взглядом на причины победы в Великой Отечественной и загадкой вокруг легендарных маршалов.
Вытащил его в столицу главный редактор «Новой России» Витковский, профессиональный журналист, тоже лишь чудом уберегшийся от политической тюрьмы за чтение и распространение Солженицына. Он готов был взять Опарина в штат, ввести в редколлегию, но у провинциала, имеющего хитроватый крестьянский корень, сработало чувство самосохранения воли. Он понял, что сразу же будет привязан к одной газете и в конечном счете, хочет или нет, станет полностью управляемым. Потому соглашался лишь на временные договоры и, оставаясь независимым, сотрудничал сразу с несколькими изданиями и получал новые приглашения.
В девяносто втором ему как узнику советского режима выделили из фонда хорошую сумму денег, на что он купил квартиру и перебрался из общежития в престижный район Москвы. Его уже стали считать специалистом по архивным открытиям и скандальным публикациям предвоенного и военного периодов истории СССР, часто приглашали на телевидение, где тоже присматривались к хваткому журналисту.
Для Витковского он продолжал делать материалы, однако с ним было хорошо выпить, поговорить за жизнь, погулять на чьей-нибудь даче, – одним словом, оставаться в приятелях и не сближаться. Сергей чувствовал, как главный редактор все еще силится набросить на него ошейник и привязать у своей будки.
Однажды на тусовке в Домжуре Витковский подсел к нему и предложил уже без всяких намеков:
– Серега, тебе надо продать перо. Стань человеком команды и будешь получать деньги, а не эти гроши.
На «гроши» Опарин безбедно жил, отсылал часть в Кострому дочери и подумывал уже строить дачу.
– Не хочу ложиться под кого-то. И под тебя тоже, – с такой же откровенностью ответил он.
– У меня газета независимая.
– Независимых газет не бывает.
– Хитрый ты мужичок, – заключил Витковский. – Сопишь в бороду, пишешь одно, думаешь другое, делаешь третье… У нас так не принято, коллега.
– Знаешь, я долго работал и жил среди старообрядцев, – признался он. – Есть у них толк под названием «Странники», а по-простому – неписахи. Властей не признают, документы не получают, не прописываются. Самые вольные люди, каких только встречал! Вот на меня среда и повлияла, я кержак из толка неписах. Из своей посуды никому не дам напиться.
– Ну, смотри, – засмеялся главный редактор, – дадут ли тебе попить, когда жажда будет…
Этот разговор почти забылся, все оставалось как прежде, и Сергей Опарин, как-то раз появившись у Витковского, начал ворчать с порога, что нищие запрудили улицы, в метро уже ездить невозможно, поскольку стыдно убогим и калекам в глаза смотреть.
– А ты не езди в метро, – бросил тот, – да тебе вроде бы и не по чину спускаться в подземку. Неужели до сих пор не купил машину?
– Плохую не хочу, на хорошую не хватает пока, – пробурчал он.
Главный редактор протянул ему бланк контракта и показал ключи от «БМВ».
– Подписывай и катайся. Нет вопросов.
Соблазн был настолько велик, что он едва удержался, и все-таки, уходя, обещал подумать и назавтра позвонить, хотя решение почти созрело. И спасло то, что снова спустился в метро и пошел по переходу, будто сквозь строй протянутых рук и старческих изможденных лиц. Он знал, что нищенство – это сейчас прибыльный бизнес. И каждый просящий за день собирает значительную сумму. Но знал и то, что убогим ничего не достается, ибо у всех побирушек есть хозяин.
С тех пор он не приходил к Витковскому, хватало других изданий, но жизнь текла так быстро, и так стремительно изменялись вкусы и конъюнктура, что документальных находок становилось мало, чтобы удовлетворять потребности редакторов. Они стали напоминать наркоманов, которым нужна была все большая доза сильнодействующего наркотика, чтобы держать на плаву свои издания. Материалы еще брали – надо же чем-то заполнять газетные полосы, но однажды на журналистской тусовке ему сказали в открытую:
– Да хватит тебе ковыряться в следствиях и причинах! Гармошка Жукова и фронтовые жены Василевского всем уже надоели. Не было в этой войне ни стратегии, ни полководцев. Мясом немцев завалили, в собственной крови утопили! И вообще эта страна – полное дерьмо и народ – вечный раб, ни к чему не способный!
Сергей Опарин уже хорошо знал, во что и как рядился фашизм в Германии, чтобы прийти к власти, и после расстрела и сожжения собственного парламента в девяносто третьем, произведенных под бурные аплодисменты «свободной» прессы, он уже не сомневался, что в России теперь прочно утвердился фашистский режим, отличающийся от гитлеровского только тем, что осуществлял геноцид не против отдельных национальностей, а против собственного народа.
Естественно, на эту тему никто его статей печатать уже не хотел. Мало того, Опарина самого назвали красно-коричневым, и Витковский первым бросил в него камнем, как кидают в отступника, таким образом во второй раз сделав из него диссидента.
А он по привычке все еще сидел в архивах, где его уже хорошо знали и как своему человеку иногда показывали то, что, по всей вероятности, не будут показывать еще полста лет. Люди там работали ответственные, осторожные до боязливости, однако фанатичные, как старообрядцы, готовые к самосожжению ради бумажки. И когда по спецхранам пошли бригады уполномоченных (архивариусы называли их «бумажными жучками»), отбирая и торопливо пихая некоторые документы в машинки для резки бумаг, это для них было трагедией. Невзрачные с виду, какие-то безликие, в серых халатах, робкие архивные тетушки, не сговариваясь, на свой страх и риск стали делать копии всего, что подлежало или могло подлежать уничтожению. А они уже прекрасно разбирались в этом, поскольку переживали не первую реформу и перестройку, если считать со сталинских времен, и знали, что и кому может помешать. Между прочим, относились к происходящему философски, вздыхая, что подделка истории, приспосабливание ее под себя, имеет глубочайшие корни (практически все летописи переписывались, как только к рулю становился реформатор или человек, таковым себя считающий), и потому это явление можно без сомнений отнести к общечеловеческим ценностям, о которых сейчас так много говорят.
Иногда логика «бумажных жучков» была необъяснимой либо цель отстояла так далеко, что невозможно понять, зачем, например, уничтожать некоторые агентурные дела и оперативные разработки времен Отечественной войны? Кого и от чего спасали – гостайны от гласности и ушей или уши от некоторых неудобных тайн?
Как бы там ни было, но благодаря этому в руках Сергея Опарина оказались данные о деятельности группы «Абендвайс», которой интересовалась наша разведка начиная с сорок второго года. (Все архивные материалы в конце девяносто четвертого почему-то приговорили к сожжению!) А там были не просто знакомые, а можно сказать, близкие лица – фон Шнакенбург! – человек, который в определенной степени повлиял на судьбу журналиста.
Судя по документам, хозяйство штандартенфюрер принял уже готовое, действующее и настолько засекреченное, что наша разведка вышла на эту группу лишь на седьмой год ее существования. Все произошло случайно: летом сорок второго бдительные охотники заметили в горах чужого человека, который жил скрытно, каждый день ходил с карабином и что-то собирал. Никаких военных объектов поблизости не было, поэтому они решили, что это дезертир, и сообщили куда следует. Милиция вместе с охотниками выловила подозрительного субъекта и обнаружила при нем увесистый тюк с камешками и щепотками земли, аккуратно упакованными в крохотные пронумерованные мешочки. Человек представился геологом, показал все документы, и так бы его и отпустили, если бы наблюдательный охотничий глаз не разглядел, что патроны к карабину слишком новенькие, в карманах не затасканные, кирзачи новые и телогрейка с иголочки, двух недель не ношенная, а по бумагам – работает третий месяц. Решили все-таки отвести и сдать в НКВД, а по дороге устроили ему провокацию, будто бы «проспали», и этот субъект воспользовался, рванул от конвоя, чем окончательно выдал себя.
Пойманным «геологом» сильно заинтересовалась Москва, и его на месте взяли в такой оборот, что через день признался, что работает на японскую разведку и получил задание отобрать образцы пород и грунта в районе, где был задержан. Потом удалось захватить связника, который пришел, чтобы забрать тюк с образцами, и уже через него узнали место – квадрат 9119, куда должен приземлиться самолет японских ВВС и забрать скопленный за два месяца груз. На базе в том же квадрате обнаружили и задержали резидента, который оказался немцем, хотя и утверждал, что работает на японцев.
Вероятно, после соответствующих разъяснений он согласился на сотрудничество с нашими и в определенное время запросил самолет, который и приземлился в условленном месте. Резидент обязан был передать тюки с образцами, которые, естественно, подменили, однако в самолете что-то заподозрили, и он, едва закончив посадочный пробег по гравийной береговой полосе, резко пошел на взлет, вследствие чего пришлось применить пулеметы. Самолет подбили на взлетной скорости, поэтому он докатился до лиственничного леса, опрокинулся и загорелся (на борту был большой запас топлива). Тушить водой оказалось бесполезно, но из кабины выползли два факела – пилот и один пассажир, штурман и второй пассажир сгорели. Японский летчик вскоре скончался от ожогов, а вот немец-пассажир отделался довольно легко – обгорело лицо, голова и руки.
Поиграть с разведчиками советских недр не удалось, однако в «Абендвайсе» это был первый серьезный провал, который и обнаружил группу и после которого израненный штандартенфюрер фон Шнакенбург ее возглавил. Из тех архивных материалов, которые дожили до девяносто четвертого и, судя по логическим «дырам», претерпели не один набег «бумажных жучков», невозможно было понять, чем конкретно занимался и что искал «Абендвайс». Мало того, даже приблизительно не указывалось конкретное место, интересующее немцев, ни с нашей стороны, ни с их, и в оперативных бумагах НКВД таинственная территория назвалась квадратом 1441.
Можно было лишь догадываться: коль скоро фигурируют горы и лиственничный лес, значит, дело происходило не в степи, а скорее где-то в северной полосе СССР. И если в этом квадрате действуют японцы и их авиация, значит, находится он за Уралом, в Сибири или на Дальнем Востоке. А коль скоро «Абендвайс» существовал непосредственно под личной опекой Рудольфа Гесса, значит, квадрат 1441 представлял для рейха особо важный национальный и идеологический интерес.
Но что может быть общего у европейской Германии с Востоком, кроме союзнических отношений с Японией? Если какие-нибудь магические, оккультные дела, чем весьма определенно увлекались идеологи фашизма, то Гесс направился бы в Индию, в Гималаи и на Тибет, где уже побывали их люди и откуда взяли для своего движения практически всю символику, от свастики до приветствия вытянутой вперед рукой. И уж никак бы не собирали камешки и не брали бы пробы грунта. А они это делали, причем с потрясающей настойчивостью.
После инцидента с японским самолетом квадрат 1441 наши взяли под полный негласный и усиленный контроль, что само по себе уже странно. Нет ни военных объектов, ни воинских частей, как указывается в архивных документах (кстати, а на Дальнем Востоке они есть!) – только горы, упоминается лес, и никаких деревень. Однако немцы упорно пытаются проникнуть туда и проникают: спустя всего три месяца после провала в этом квадрате появляются два «геолога» очень широкого профиля, которые с величайшей осторожностью опять отбирают образцы пород, грунта, пробы воды, травы, древесины и даже воздуха, отлавливают насекомых, наконец, отстреливают оленя и консервируют для анализов его кровь, мягкие ткани, костный мозг, печень и селезенку.
И перед тем как уйти на запасную базу, расположенную уже в квадрате 7117, проделывают то же самое с человеком, для чего похищают с охотничьей заимки женщину…
На сей раз этих естествоиспытателей не трогают и отпускают с трофеями, вероятно, решив посмотреть, что же будет дальше. Однако «бумажные жучки» приложили свою руку – в материалах отсутствовал значительный период и по времени, и по событиям, потому что следующим документом оказался краткий отчет начальника специальной секретной экспедиции Щурова, сообщающего в Центр, что благополучно прибыли в квадрат 1441 и сейчас занимаются устройством запасных баз, рекогносцировочными маршрутами и мероприятиями по безопасности и что уже готовы принять караван с лабораторией и химреактивами. Видимо, пример немцев оказался заразительным, и наши сами решили попытать, что же в этом квадрате такого особенного. Или уже знали, зачем шли…
Но и немцы не отставали. По личному распоряжению Гесса Адольф фон Шнакенбург в срочном порядке формирует свою экспедицию и начинает ее заброску тремя способами и тремя группами – хоть одна, но пройдет! Первая – морским путем, вторая – сухопутным через Дальний Восток и третья – воздушным, с помощью той же японской авиации. Группу охраны и обеспечения он планирует сбросить с парашютами в пустынной горной местности, на пятьдесят километров севернее интересующего квадрата, для чего японская сторона обязана подготовить транспортно-десантный самолет с прикрытием двух истребителей. Короче, рвется в этот заповедный квадрат по земле, воде и воздуху! Причем уже с войсковой десантной поддержкой!
Далее в материалах шли сообщения нашей агентуры о прохождении групп разведчиков противника через контрольные точки. По всей видимости, готовилась широкомасштабная операция по блокированию и захвату всей немецкой экспедиции, как только она соберется в одном месте, для чего в район квадрата 1441 перебрасывались специальные подразделения войск НКВД.
И опять никакой географической привязки, хотя круг поиска заметно сузился: логически отпадал Дальний Восток, напичканный нашими войсками, и, напротив, более реально выступала центральная часть Сибири, скорее всего ее север, если одна группа пойдет морским путем.
То ли «бумажные жучки» тут сильно перестарались, то ли в суете или по каким-то иным соображениям документы не попали в этот архив, а были приобщены к другому, но из имеющихся материалов понять было невозможно, что же произошло. Все последующие бумаги датировались начиная с ноября сорок четвертого, и выпадал пласт времени охватом до года. Ясно было одно, что наша экспедиция под началом некого Щурова бесследно вдруг исчезла и теперь велись ее розыски с помощью войск и авиации.
Но более ошеломляющим было то, что ни одна из трех групп немцев, пробирающихся в квадрат 1441, не попала в расставленную им ловушку, она также будто растворились где-то, достигнув цели, причем вместе с группой прикрытия, и их тоже лихорадочно разыскивали наши отряды НКВД и самолеты. Складывалось впечатление, что эти две экспедиции, как две волны огня, сшиблись где-то на неведомых просторах России и погасли, оставив лишь пепел, который потом разнесло ветром.
Поиск длился до сорок шестого года, однако ничем не увенчался, если не считать, что наш отряд НКВД, занимающийся поиском, отыскал в квадрате 3113 и полностью уничтожил секретную базу немецкой разведки, захватив важные документы, проливающие свет на деятельность «Абендвайса».
Только вот забыли или не захотели положить их на хранение в архивную папку, которую держал в руках Сергей Опарин.
Вся эта история заканчивалась немногословным актом экспертизы, выполненным доктором геолого-минералогических наук, профессором Комлевым, который писал, что представленная ему геологическая структура условного квадрата 1441 имеет скорее всего вулканическое происхождение. Однако для более полного и точного определения данных геологических материалов недостаточно и требуется дополнительное изучение и исследования, поскольку не исключено, что прогиб земной коры произошел не вследствие ее опускания, а из-за бомбардировки крупным метеоритом. И тогда эту котловину можно отнести к малоизученному явлению, называемому астроблема… Это последнее слово будто очаровало журналиста…
3
Институт Насадный смог закончить лишь к концу пятидесятых, когда его вычеркнули из списков врагов народа, так что несколько лет ему пришлось работать таксатором в геологоразведочных партиях. Но уже тогда он начал заниматься астроблемами, обозначенными на земном шаре, а вести поиск новых звездных ран, скрытых зачастую под толщами осадочных пород или срытых, исковерканных ледниками, оказалось невозможно в пору расцвета практической геологии даже в академическом институте. Они были не нужны народному хозяйству и представляли сугубо научный интерес, поэтому Святослав Людвигович официально занимался темой строения земной коры, организовав в своем НИИ сектор по геологическому дешифрированию только что появившейся аэрокосмической фотосъемки. А параллельно, по собственной инициативе и чуть ли не тайно от руководства отыскивал геологические структуры, напоминавшие звездные раны.
И вот однажды его взгляд упал на Таймырский полуостров и зацепился за Анабарский гранитный щит, точнее, за огромную, странного происхождения впадину, разрезанную рекой Балганкой. Выдвигать смелые гипотезы было тогда уделом крупных ученых, поэтому голоса Святослава Людвиговича никто не услышал, а подготовленную статью никто не отважился напечатать без дополнительных двух-трех фамилий геологических столпов. Пережитые блокада и голод создали особый тип характера, где высочайшее человеко– и жизнелюбие нормально соседствовали с крайней степенью жадности: если достался тебе кусочек хлеба, поделиться им можно только с матерью или кровно близкими людьми, но никак не с чужими. А на каравай Насадного (впадина была совершенно круглой и напоминала отпечаток упавшей с неба ковриги хлеба) некоторые столпы разинули рот и готовы были проглотить его, не жуя.
Тогда Святослав Людвигович забрал статью и засекретил все, что было связано с Балганской впадиной, – благо, что сектор работал в режиме строжайшей государственной тайны, допуск к которой имели единицы. А летом, взяв отпуск, он в одиночку поехал на Таймыр, не имея пропуска в погранзону, обошел все посты и добрался до реки Балганки. Даже чтобы пройти впадину насквозь, потребовалось две недели: внутренний диаметр отпечатавшегося в земной коре каравая достигал семидесяти километров, но был еще и внешний, стокилометровый круг, очерченный цепью гор, растертых и обработанных ледником. На дне котловины – труднопроходимая летом тундра, на ее бортах – развалы голубоватых от лишайника глыб и камней, которые в дождливую погоду становятся кусками мыла. А из космоса все выглядело чистенько и красиво.
К тому же весь отпуск шел дождь – нормальное таймырское лето…
На обратном пути его арестовали пограничники в норильском аэропорту за незаконное вторжение в зону, причем взяли как шпиона, поскольку с собой у нарушителя оказался рюкзак с образцами пород и десятками отснятых фотоаппаратом «ФЭД» пленок. Препроводили в Красноярск, где посадили за решетку и возбудили дело. Институт мог бы походатайствовать и прекратить его в самом зародыше, а Насадного вернуть домой, но обиженные на него столпы науки хлопотать за него не спешили, и пришлось два месяца сидеть на нарах, пока шло разбирательство. Святослава Людвиговича наконец оштрафовали и отпустили, и даже вернули вещи – рюкзак с образцами и проявленные в кагэбэшных лабораториях пленки. Самодеятельность и строптивость кандидату наук обошлись дорого: во главе сектора сидел уже другой человек, а ему предложили место младшего научного сотрудника, по сути – лаборанта. Да еще строго-настрого внушили, что Балганская впадина – вулкан и ничто иное, имеет земное происхождение и нечего отвлекаться на космические глупости.
Святослав Людвигович хотел доказать обратное: Таймырская котловина имеет космическое происхождение, то есть это метеоритный кратер, подобный лунному, и называется одним словом – астроблема, доселе науке неведомая. Анализ привезенных образцов, сделанный в лаборатории тайно от руководства, вначале обескуражил и поверг в уныние. Оказалось, Насадный притащил с Таймыра обыкновенные, ничем не примечательные брекчевидные лавовые и туфовые породы, характерные для области вулканической деятельности. А материнскими, подстилающими породами оказались гнейсы архейского возраста.
Гнейс означало – гнилой…
Консультации с опытными вулканологами и их заключение разочаровали еще больше. Насадный не признавался им, откуда привез образцы, чтобы не быть смешным…
Короче говоря, лет эдак миллионов полста назад из жерла вулкана вырвался фонтан магмы, пепла, газа и все это разлилось, разлетелось по округе в сотню километров, перемешалось и застыло. И так стояло, пока не началось оледенение, после чего от лунного ландшафта осталась цепочка холмов, расставленных по кругу. Не ясно только, почему на месте извержения возник не конус, как обычно, а впадина. Возможно, произошло опускание участка земной поверхности, а возможно, на этом месте уже была глубокая котловина, почему и произошел прорыв расплава… Святослав Людвигович долго ходил понурый, пока не получил химических анализов, которые пришлось делать на стороне и за деньги через одного знакомого лаборанта. Тот внезапно обнадежил интересным результатом: химсостав гнейсов и застывшей магмы практически одинаков, разве что последняя претерпела температурное воздействие. То есть будто кто-то переплавил эти гнилые породы и вылил в котловину.
Это значит, нет вулканической магмы и нет жерла вулкана!
И еще заметил, что в лавах и туфах очень высокое содержание углерода, которого мало в подстилающих гнейсах: вероятно, произошли некоторые термохимические процессы…
Всю зиму Насадный рисовал апокалипсические картины космической катастрофы, благо в институте неплохо научили работать с акварелью – раскрашивать геологические карты. И выглядели они примерно одинаково: огромный, до семидесяти километров в диаметре, метеорит или болид приблизился к земле, вошел в ее атмосферу, и спрессованный воздух разогрелся выше трех тысяч градусов, и гнейсы, по сути, растаяли под ним, как тает снег от горячего потока. А от высочайшего давления произошел выплеск расплава, отчего образовалась впадина, обрамленная горами. Сам метеорит сгорел в этом огне и обратился либо в пепел и газообразные вещества, либо в столб пара, если был просто блуждающим по Вселенной куском льда.
И осталась на земле звездная рана…
Акварель не позволяла выразить динамику явления – он перешел на масло, и к весне его комната в коммуналке на Кронверкской превратилась в выставочный зал живописи, а сам кандидат наук – в одержимого, с блистающим взором, полухудожника, полуфантаста. В институте его стали считать не то что больным, а как бы не очень здоровым человеком, повредившимся на космических катастрофах. Он же больше всего боялся быть смешным, даже когда в блокадном Ленинграде умирал с голоду, сидя возле ног часового у хлебного ларька, лениво жующего горбушку. Можно бы попросить, но от дистрофии он выглядел как лягушачий головастик – лоб шире плеч, и голова уже не держится на шее, все время падает то влево, то вправо, словно поплавок на волнах. Часовой смотрел, жевал и ухмылялся…
В начале лета он пригласил к себе домой бывшего подчиненного по сектору дешифрирования аспиранта Рожина и показал картины. Часа полтора ошалевший аспирант рассматривал полотна и схемы, после чего сам стал одержимым, будто эта нарисованная космическая катастрофа была инфекционным заболеванием. Таким способом обретя себе единомышленника, Святослав Людвигович выправил разрешения на въезд в погранзону и, получив отпуск, снова двинул на Таймыр, теперь уже не один. И сделали за месяц в два раза больше, образцов привезли четыре рюкзака и открыли Пестрые скалы – двухсотметровой высоты обнажение брекчиевидной толщи на реке Балганке, где отвесная стена была словно раскрашена всеми цветами радуги и напоминала расцветку таджикских тканей. Насадный был почти уверен, что отыщет среди этой пестроты остатки метеоритного вещества или даже обломки его, но знакомый лаборант из химлаборатории на сей раз сильно разочаровал: ничего космического в исследованных образцах не нашел. Кроме той пыли, которая летела из Вселенной и оседала на землю естественным образом. Аспирант Рожин слегка подостыл и стал даже редко появляться у Насадного, а тот тем временем с помощью молотка и набора зубил крошил и дробил привезенные куски крепчайших пород, выбирая из каменного праха отдельные разноцветные, а больше темно-серые, невзрачные песчинки. А когда надоело, у того же лаборанта купил бутыль тяжелой воды и принялся высаживать их более современным способом.
Когда этих песчинок набралась хорошая щепоть, Насадный позвал Рожина, показал ему плоды трудов своих, а также результат собственных минералогических анализов и сказал:
– Садись, Миша, и пиши кандидатскую.
У аспиранта затряслись руки и голос.
– А ты?.. А вы?
– А я поехал в Совет Министров выколачивать деньги на экспедицию, – ответил он, пряча в карман мешочек с алмазами.
Впоследствии Рожин защитил сразу докторскую диссертацию, а сам Насадный был произведен в членкоры Академии наук и через год – в академики.
Алмазы были настолько привычны для его сознания, что давно не вызывали каких-то особых чувств. Но и загадочная солонка, оставленная Зимогором, хоть и будоражила воображение, однако при этом не захватывала его так, как некогда алмазы метеоритного происхождения. В голове сидела горькая, болезненная мысль о проданном городе, и Насадный понимал, что никогда не сможет отторгнуть ее; к ней следовало привыкнуть, как родители привыкают к преждевременной и ошеломляющей смерти своего дитяти. Привыкнуть и жить дальше с этой горечью до последнего часа.
Зимогор оставил ему пустую солонку, и вот теперь, рассматривая ее и проделывая нехитрые опыты с электроникой, академик лишь пожимал плечами, не зная, как относиться к столь необычному предмету и более всего к утверждению, что там была некая соль, добытая из недр Манорайской впадины, которая якобы и является родиной человечества.
Он и в самом деле всю жизнь искал эту родину, когда-то давно выдвинув теорию о ее космическом происхождении. Точнее, это даже трудно было назвать поиском; скорее, он хотел найти воплощение своей детской мечты, искал на земле место, где, будучи вывезенным из блокадного Ленинграда, прожил два года, которые потом решили всю его судьбу.
О Манорайской котловине академик знал с шестьдесят девятого года и знал, что это метеоритный кратер, причем изученный еще в тридцатых и, судя по материалам исследований, ничем особым не выдающийся. Подобных геологических структур было на земле десятки, и куда интереснее выглядела тогда Балганская астроблема – «белое пятно» на карте! И вот сейчас, держа в руках пустую солонку, Насадный неожиданно вспомнил, что таймырский кратер ему открылся именно в тот момент, когда он изучал данные по Манорае. Открылся и сразу же захватил все внимание. С тех пор он никогда уже не возвращался к другим звездным ранам и об Алтае, пожалуй, вряд ли вспоминал когда, впрочем, как и о своем увлечении – поиске родины человека. Получилось, что весь свой азарт, силу ума и души отдал Таймыру, и когда этой весной к нему достучался журналист Сергей Опарин, внешне чем-то напоминающий Зимогора, академик пошел ему навстречу и подтвердил, что Балганский кратер – это и есть родина человечества. Журналисту очень уж хотелось услышать его авторитетное слово.
И это вовсе не означало, что он сам был в том уверен. Современный мир все больше становился материальным, расчетливым и деловым, так что почти уже не оставалось места мечте и фантазии – вещам, которые, однажды захватив воображение Насадного, привели его к открытию не только богатейшего месторождения «космических» алмазов, но еще и к научному открытию в области ионосферы Земли и происхождения самих метеоритных кратеров и собственно метеоритов. Это не считая изобретения установки «Разряд», предназначенной для разрушения сверхтвердых пород и извлечения все тех же алмазов; установки, в основе которой, как выяснилось, лежит совершенно новый вид космического оружия…
Журналист поехал открывать Беловодье на Таймыр, и никто не знал, да и знать не мог, что откроет он в результате поиска.
Теперь к нему достучался еще один блаженный и принес весть, что детская мечта академика существует на самом деле, и принес доказательство в виде рассказа о черном веществе, отсутствующем в таблице Менделеева. И не скажи он о проданном детище – городе, выстроенном по проекту Насадного, академик бы сейчас радовался, как ребенок, и уже собирался в дорогу.
Весь остаток дня Насадный испытывал раздирающие душу чувства и полную растерянность: покуда смотрел на пустую солонку, почти уже соглашался с выводами Зимогора и готов был немедленно ехать на Алтай, однако, едва отрывал от нее взгляд, тотчас ощущал глубокую тоску и настороженность. Город Астроблема стоял мертвым уже восемь лет, но, тщательно законсервированный, мог бы простоять еще полсотни, ибо в Арктике ничего не горит, не гниет и не портится. У Насадного в голове не укладывалось, что город стал объектом продажи – товаром, за который государство может получить деньги. Во-первых, потому что не слышал, чтобы продавались целые города, во-вторых, выбрасывать его на рынок – это как в анекдоте про бизнес по-русски: украсть вагон водки, пихнуть его по дешевке, а деньги пропить.
И все-таки продали! С куполом зимнего сада, с домами, улицами, недостроенным обогатительным комбинатом, аэродромом и всей инфраструктурой. А значит, и с катакомбным цехом, где в толще сверхтвердых пород, в замурованном боксе хранится экспериментальный действующий образец установки «Разряд»…
Уже поздно вечером Святослав Людвигович обернул пустую, обыкновенную на вид солонку фольгой и убрал в оружейный шкаф, где, кстати, хранилась еще одна капсула – с алмазами космического происхождения. Однако не получилось, чтоб с глаз долой и из сердца вон; напротив, думая о Манорайской котловине, машинально бродил вдоль шкафов и перебирал, перекладывал книги, связки бумаг, отыскивая материалы по Алтаю. Найти что-либо в этих завалах было нелегко, и после долгих и бесполезных мытарств академик надышался, нанюхался потревоженной пыли и стал чихать. Когда же прочихался, умыл лицо, в голове просветлело и он внезапно и окончательно решил, что завтра же поедет в Горно-Алтайск.
Утром над Питером появилось солнце, редкое в эту осень, и Насадный посчитал это хорошим знаком. Он обрядился в старые джинсы, мешковатую куртку и кепку, взял с собой четыре большие работы и отправился на набережную Невы, где гранитный парапет пестрил картинами самодеятельных художников. Продавать свои каменные полотна он стал недавно, когда окончательно прижало, когда, пересилив собственную болезненную рачительность, Святослав Людвигович начал подъедать мобзакладку и обнаружилось, что, несмотря на все старания, мука прогоркла, часть круп посекли мыши, испортила плесень и хлебный червь, вздулись банки с мясными и рыбными консервами, целыми оставались лишь мешочки с сахарным песком, превратившиеся в тяжелые булыжники. Многое еще годилось в пищу, но только при крайних, блокадных обстоятельствах, которые, чувствовал он, не за горами.
Пустить в продажу свои шедевры его случайно надоумил представитель компании «Де Бирс», безуспешно попытавшийся что-нибудь купить у Насадного. Начал с малого: вынес на набережную пару шкатулок из дымчатого кварца и к концу дня дождался покупателя, получил восемьдесят долларов. Потом выставил несколько, с его точки зрения, неудачных панно малого размера и за несколько дней сбыл их за полтораста. Дабы не быть опознанным и осмеянным, Святослав Людвигович изменял внешний вид и прикрывал глаза темными очками. Бывало, замечал знакомых геологов, интересующихся каменным творчеством, некоторые из них даже расспрашивали продавца, однако не могли признать в неряшливо одетом старике гордого академика, который и в тундре носил белоснежные рубашки и красивые дорогие галстуки.
И в этот день он благополучно отстоял до обеда, договорился с покупателем и отложил понравившееся ему панно на два часа, но тот вернулся раньше срока и не один – с человеком средних лет, который со знанием дела посмотрел шедевры, достал сильную лупу, поводил ею над полотнами, с разрешения Насадного так же тщательно обследовал обратную сторону и наконец устало спросил:
– Сколько все это стоит?
Смущенный академик сразу не нашелся что ответить, оптовых покупателей еще не бывало, и пауза затянулась.
– Назовите вашу цену, – предложил он. – Хотя бы порядок цифр.
– Это очень дорого, – отозвался Насадный. – Но я вынужден продавать дешевле…
– Вы скажите сумму! Верхний потолок!
– За все работы я бы попросил восемьсот долларов.
– Восемьсот?.. Да, это Россия!.. Слов нет. Знаете, сколько стоят подобные уникальные вещи? Каждая из них в десять раз дороже!
Академик вдруг понял, что перед ним не покупатель, а ценитель его творчества, человек, обладающий фантазией и чувством прекрасного.
– Возможно, вы правы, – однако же уклонился Насадный. – Но сейчас рынок и все зависит от спроса. Настоящую цену никто не даст.
– Простите, вы только продавец или эти работы – ваши?
Он полагал, что этот «искусствовед» все равно не купит ни одной картины – у таких обычно нет денег, – и потому расслабился, потерял бдительность.
– Мои работы, – признался просто и даже уловил легкую собственную гордость.
– Да!.. – Ценитель наконец-то оглядел академика, почти как картину. – Как вам удается? Вы маг? Или алхимик?.. Это же натуральная живопись: палитра, гармония цвета… И ни одного шва! Цельные куски!
Он проливал бальзам на душу, и следовало бы насторожиться, взглянуть на сладкопевца иными глазами, но истосковавшаяся по доброму слову душа творца уже парила от счастья. Раньше ничего подобного не случалось, покупали панно в основном «новые русские», как оригинальные побрякушки для директорского стола в офисе…
Ценитель взмахом руки подозвал к себе товарища, что-то сказал ему тихо и тот через минуту подогнал какой-то автомобиль зарубежной марки, в которых академик совершенно не разбирался.
– Рассчитаемся в машине, – шепотом заявил знаток. – Потом отвезу вас, куда скажете. С деньгами ходить по городу небезопасно.
Святослав Людвигович все еще не чувствовал никакого подвоха, поскольку испытывал полное недоумение: покупатель не походил на богатого человека. Сел в автомобиль вместе с шедеврами и тут же получил деньги – по две тысячи долларов за каждую работу.
И тоже ничего не заподозрил, ибо вдруг осознал, что не только дорога на Алтай, но и старость ему теперь обеспечена.
Его и в самом деле отвезли куда он сказал – на Петроградскую, благодарно распрощались, обменялись телефонами, и Насадный пошел сначала в сберкассу, чтоб обменять валюту, затем в магазин, где купил шампанское, дорогую нарезку и фрукты, после чего отправился домой напрямую, проходными дворами. Едва оказавшись в своей квартире, он позвонил Рожину и пригласил его на праздничный обед: старый сподвижник был единственным человеком, посвященным в «торговый бизнес» академика: грязное, непотребное это занятие приходилось тщательно скрывать.
За столом они просидели до вечера, даже старые походные песни попели под гитару. Насадный выбрал удобный момент, отсчитал старому сподвижнику тысячу долларов и сунул в нагрудный карман.
– На нашу пенсию прожить нельзя! – прикрикнул, видя его немое сопротивление. – Да еще бы ее платили… А мне сегодня невероятно повезло, покупатель настоящий пришел, первый… Будут деньги – вернешь.
И вдруг у старого сподвижника загорелся взор. Он выхватил доллары из кармана и швырнул на стол.
– Хватит! Хватит, Насадный! – выкрикнул бывший аспирант возбужденно и обидчиво. – Мне твои деньги не нужны, понял? Не возьму!..
– Понимаешь, они мне очень легко достались, Миша! – Академик собрал деньги и вновь попытался сунуть их в карман Рожина. – Я же объяснял: нашелся покупатель!.. Полный идиот! Готовый выложить за какую-то ерунду, за… плоды дряхлеющего ума кучу денег! Не бойся, мне хватит! Еще целых семь тысяч! Так что собирайся, снова поедем в частную экспедицию. Это зарплата, если хочешь.
– Я больше никуда не поеду с тобой. – Старый и верный сподвижник ударил по руке с деньгами и встал. – Да, тебе все дается легко… Открытия, изобретения, звезды, даже памятник при жизни. Все легко и просто.
– Миша, да перестань, ты что? – засмеялся и одновременно испугался Насадный. – Ты-то свидетель, что мне легко далось? Ни одного дела еще до конца не довел!
– А балганские алмазы? А установка «Разряд»?.. И еще – город, по собственному проекту…
Насадный услышал глубокое и сильнейшее разочарование – не хотелось даже про себя называть это завистью.
– Рожин, я тебе рожу набью! – Он еще пытался сгладить назревающий конфликт – явление в их отношениях небывалое. – Месторождение законсервировано, «Разряда» нет, не существует!
– Как же, а опытный образец? Действующий, промышленный образец? И Ленинская премия!
– Да это же действующая модель! Чистейший самопал!
– Ладно, только мне не рассказывай! – недружелюбно мотнул головой Рожин. – Но город-то стоит! За Полярным кругом!..
– Город продали, Миша…
Он ничего не услышал, поскольку не хотел, засмеялся зло: так он смеялся только над врагами…
– Невезучий бессребреник!.. Не надо передо мной выделываться, Насадный. Ты сколько раз академик? Поди, и со счету сбился? А я посчитал! Тебя приняли в шесть европейских академий.
– Хорошо посчитал?..
Рожин не давал и слова вставить, выплескивал все, что накипело в его душе, причем валил все в кучу, без разбора…
И не сказать, что делал это по пьянке, ибо выглядел совершенно трезвым…
– Мировая величина! А если бы еще Запад вовремя услышал об открытии таймырского феномена? Что бы было? Нобелевская, разумеется!.. – Перешел на шепот: – Ну, а если бы узнал о существовании «Разряда»? Технологии будущего?.. Живая икона! Молились бы на тебя!.. Нет, я все тебе скажу, все!
Столь внезапный прорыв сначала ошеломил Насадного, но затем, как это обычно случалось, вызвал холодное раздражение. Вообще следовало бы дать по физиономии и выгнать в шею, однако упоминание об астроблемах неожиданно толкнуло его к воспоминаниям. Он дождался паузы, когда старый сподвижник налил себе полный фужер шампанского и стал жадно пить – будто огонь заливал.
– Поедем искать родину человечества, – будто ничего не случилось, заявил академик. – На сборы тебе даю один день. Полетим самолетом, раз денег привалило…
– Я сказал – никуда больше не поеду! – отрезал бывший аспирант. – Мне надоело сидеть в твоей тени. У меня могла быть собственная судьба! Пусть не такая, как у тебя! Без геройских звезд, памятников… Но своя! А я за тобой всю жизнь, как верный пес… Это ты меня сделал таким!
– Рожин, а ты ведь земноводный! – непроизвольно вырвалось у Насадного. – Ты же летарий! Как я этого не замечал?..
Старый сподвижник насторожился.
– Что значит – летарий?
– Ты не обижайся, это не оскорбление. И не твоя вина…
– Нет, ты мне объясни, что такое – летарий? Или как там еще?..
– Состояние души, – постарался уклониться Святослав Людвигович от прямого ответа.
Но Рожин не мог успокоиться и нарывался на скандал.
– И какое же у меня состояние души? Разумеется, оно на порядок ниже твоего? Так? И душа совсем пустая! Еще и подлая, да? Столько добра сделал, облагодетельствовал, в люди вывел, а теперь приходится выслушивать претензии!.. Не так? Тогда скажи сам!
– Ты живешь на свете первый раз, – проговорил Насадный. – Впрочем, может, я и ошибаюсь…
– Ну конечно, первый раз! – задиристо подхватил он, наливая себе шампанского. – А ты у нас – сорок первый! Поэтому такой гениальный, знаменитый… Да все, что ты сделал, – дерьмо! Дерьмо, понял?! Потому что никому не нужно! Ты сам не нужен!
– Мы оба с тобой оказались не нужными.
– Не оба – я с тобой стал не нужен! Под твоей тенью!.. из-за тебя мне не дают читать не то что курса – разовых лекций в университете! К студентам не подпускают!.. Стоит лишь назвать свою фамилию, как мне в ответ называют твою! А, сподвижник и полпред академика!..
– С чего ты завелся, Рожин? – придвинувшись к нему, спросил Святослав Людвигович. – И почему именно сегодня? Я позвал тебя, чтобы устроить маленький праздник… Теперь можно ехать в экспедицию, вон какие деньги с неба упали! А ты взял и испортил праздник.
– Ты мне жизнь испортил, Насадный. Может быть, действительно единственную. Что-то я не верю в переселение душ…
– Тогда давай выпьем мировую? – предложил академик. – Стоит ли ссориться, если все дело в том, что не дают читать лекции? К студентам не подпускают!.. Меня тоже не подпускают. Ну и что?
– Тебе-то ну и что!.. У меня жизнь кончается.
– Умирать собрался?
– Ага, сейчас! Не дождешься!..
В этот момент Святослав Людвигович вспомнил, что это не первая их ссора. Была одна, правда, очень давно, и возникла она из-за пустяка с точки зрения Насадного. На второй год, когда в Балганском кратере уже работала геологоразведочная экспедиция, на берегу реки откопали мамонтенка. Залежи бурого угля были почти на поверхности, под метровым слоем мерзлоты, и его черпали для нужд поселка обыкновенным экскаватором. Растепленный грунт превратился в грязь, потек селью в реку, и однажды утром экскаваторщик обнаружил ископаемый труп животного. Размером он был со среднего слона, разве что обросший густой желтой шерстью и абсолютно целый. Сообщили в Красноярское отделение Академии наук, потом в Москву отослали телеграмму, но прошла неделя, другая – нигде даже не почесались. А на Таймыре хоть и было всего пятнадцать тепла, хоть и завалили мамонта кусками льда с озера, закрыли брезентом от солнца, все равно начался запашок. Ко всему прочему кто-то ночью ободрал всю шерсть с одного бока – она уже начала лезть сама. Потом вырубили огромный кусок из задней ноги – кому-то захотелось попробовать пищи первобытного человека. А еще через неделю ископаемое чудо нашли собаки…
И видя это, уже навалились люди: это же заманчиво – иметь настоящую, «живую» кость в виде сувенира… Мамонта растаскали в один день, варили и пробовали мясо, вкусом напоминавшее падаль, однако пробовали, чтобы потом можно было сказать – а я вот ел мамонтину!
Спустя месяц после этого Насадный однажды застал Рожина за делом, в общем-то привычным для бывшего аспиранта: он вязал свитер. Это была его коронка – вязать во время раздумий, ожиданий или в дороге, к чему все давно привыкли. Тут же академик обратил внимание на очень знакомый цвет толстых шерстяных ниток. А в углу еще стояло два мешка отмытой и прочесанной длинноволокнистой шерсти…
Старый сподвижник даже не отрицал, где взял столь необычный материал, и когда Насадный допек его вопросом, зачем он это сделал, Рожин ответил определенно:
– У меня будет единственный в мире свитер из мамонтовой шерсти! Понимаешь? Ни у кого такого нет и вряд ли когда будет. Единственный – у меня! Даже у тебя не будет!
Тогда академик посчитал это за блажь, за простое желание иметь нечто эдакое, чего действительно нет в мире ни у кого.
И скоро простил…
Сейчас тоже следовало простить…
– Ну, так ты согласен на мировую? – спросил он, вспомнив, что оригинальным свитером Рожин попользовался недолго: жадная до древностей питерская моль сожрала его на второе лето…
– Неужели ты согласен на мировую после того, что я сказал?
Святослав Людвигович вылил остатки шампанского в фужеры, поставил бутылку под стол.
– Поедем, посмотрим настоящую звездную рану. Последнюю на сей раз.
– Насадный, я тебя ненавижу. – Бывший аспирант опрокинул свой фужер, разлив вино по столу. – Если бы ты знал, как я тебя ненавижу!
Шампанское подтекло под доллары, разбросанные веером…
Академик собрал деньги, скрутил их в трубку и забил в карман Рожина.
– Это твоей жене. И попробуй вякни!..
– Ладно, возьму, – согласился тот. – Но ты все равно дерьмо. И тоже никому не нужен! И хорошо, что я тебе сегодня сказал все в глаза.
– Легче стало?
– Ну ты и скотина, Насадный! Да пошел ты!.. – Рожин схватил плащ и бросился вертеть ручку замка.
Академик стоически дождался утра и позвонил Рожину. Трубку взяла его жена, Вера Максимовна.
– Если твой муж проспался, то дай ему трубку, – попросил он.
– Миша сегодня ночью умер, – услышал в ответ. – Инфаркт… До больницы не довезли…
Известие потрясло его сильнее, чем информация о проданном городе. Академик тотчас же решил ехать к вдове Рожина, но тут позвонил покупатель – «искусствовед», отваливший за картины огромные деньги, и, извиняясь, стал просить о встрече, дескать, каменные панно произвели огромное впечатление на его друзей и особенно на шефа, который хочет лично посмотреть панно и кое-что приобрести, и что они уже подъехали к его дому и стоят у подъезда – можно выйти на балкон и в том убедиться.
Академик как-то пропустил мимо ушей, что ценитель назвал его фамилию, хотя Святослав Людвигович не представлялся и никаких надписей на панно не оставлял. Ошеломленный неожиданной смертью старого сподвижника, он не сумел отказать сразу и решительно, позволил уговорить себя, вернее, не нашел аргументов, чтоб избежать встречи, а рассказывать о своем горе чужим людям он не любил.
Короче, уже через пять минут по квартире бродили какие-то люди, рассматривая каменные картины и экспонаты минералогического музея. Кто из них был вчерашний покупатель и кто шеф, Насадный так и не различил, впрочем, это было и не важно: из головы не выходила мысль о скоропостижной кончине Рожина, к тому же он вдруг осознал, что остался на свете один, как перст. Жена умерла семь лет назад, дочь вышла замуж за иностранца и уехала в Канаду, с родственниками более дальними давно потеряна связь…
Покупатели около часа кружились по квартире, затем пили кофе, совещаясь, и наконец сделали выбор – панно «За час до свадьбы», где не искусный творец, а сама природа изобразила невесту в подвенечном платье перед зеркалом (и труда-то было: правильно распилить глыбу, заделать и зашлифовать стык двух плит). Цену назвали фантастическую – двадцать пять тысяч долларов, однако картину сразу не взяли, обещали, что послезавтра приедет специальный человек с деньгами, расплатится и заберет. Этот факт наконец-то дошел до сознания, и Насадный категорически отказался, поскольку на послезавтра были назначены похороны. Любители каменной живописи не настаивали, согласились подъехать через три дня и, оставив крупный задаток без всякой расписки, уехали.
После похорон и общих поминок в столовой института самые близкие поехали к Рожину на квартиру и по просьбе вдовы остались там до утра. Нарушая ритуал, пели под гитару любимые песни Михаила, смотрели альбомы с фотографиями из многих экспедиций, вспоминали и разъехались, когда заработало метро. Академик так и не рассказал никому о предсмертной исповеди покойного – не подвернулось случая, да и не к месту было вспоминать о тяжком и так в слишком скорбной обстановке.
Он не спал уже три ночи и потому, едва войдя в квартиру, рухнул на диван не раздеваясь. Тускнеющий его взор в последний миг уловил некое изменение обстановки, диссонанс вещей и предметов, но сон уже помутил рассудок и через мгновение вообще отключил его. Точнее, переметнул во времени, и академик очутился в латангском аэропорту, в деревянном здании, где узкий и длинный зал ожидания с авиационными креслами буквально шевелился от обилия тараканов. Снился ему он сам и покойный Миша Рожин; будто сидят они рядом, дремлют и слушают аэродинамический вой пурги. И тут из давно заглохших динамиков вдруг прорывается голос диспетчера, но слышно не объявление рейса, а песня, которую только что пели на поминках – «Надежда». Но никого не разбудила эта чудесная песня и нежный голос Анны Герман; как спали, так и спят пассажиры примерно двадцати посаженных в Латанге рейсов. Всего около тысячи человек! Спят вповалку, среди тараканов, кто может – сидя, а кому вообще не досталось места – стоя, по-лошадиному, только головы валятся влево, вправо, будто у заморенных блокадных головастиков. И тут вскочил Рожин и заорал, как армейский сигнал тревоги:
– Люди! Мать вашу!.. Слушайте! Слушайте песню! Это же «Надежда»! Хватит спать, люди!
От его рева Насадный подскочил, слетела дрема – под ногами враги ненавистные – крылатые облюбовавшие Арктику насекомые, коричневые твари, – начал топтать их унтами, слыша характерный хруст, будто по жареным семечкам ходил!
И нечаянно наступил на руку мальчишки, откинутую в глубоком сне. Казалось, раздавил, но ребенок не проснулся, только сжал ладошку в кулачок. Он заглянул ему в лицо и внезапно узнал себя – питерского блокадного головастика. Так уже было: он спал на полу бомбоубежища, и кто-то в темноте наступил на руку…
Он склонился над мальчиком, бережно убрал его руку из-под ног и долго гладил кулачок, пока он не ослаб и прощенно не разжался.
Потом только огляделся – мать моя! – откуда столько народу?! Вроде бы засыпал в полупустом зале…
Этот сон вовсе и не был сном. Однажды с Рожиным – а дело было в семидесятом, когда возвращались из первой официально настоящей экспедиции, – они отдали «генеральские» билеты женщинам, геологам-поисковикам, которые рвались домой, в Питер. И последний Ил-18 стартовал из Хатанги под самый занавес двухнедельной пурги, а они остались истреблять отвратительных, мерзких насекомых…
По истечении первой недели Насадный впал в анабиоз, когда сон и явь спрессовались в единый конгломерат, поэтому оглушающий крик Рожина прозвучал как будильник.
Из динамиков несся чистый, завораживающий голос Анны Герман: «Надежда, мой компас земной…»
– Вставайте! Слушайте песню! – все еще гремел старый сподвижник. – Хватит спать! Замерзнете!
Проснулся лишь один мальчик под ногами, сел и завертел головенкой. Тогда Рожин закричал в отчаянии:
– Грабят! Держите карманы! Воры, вокруг воры! Эй, куда потянул кошелек?! Вставайте, у вас все украли!
Тысячная человеческая свалка мгновенно встрепенулась, ожила, а Михаил сел в свое кресло и засмеялся. И мальчик засмеялся…
Голос покойного все еще стоял в ушах, когда Святослав Людвигович проснулся в своей квартире на Петроградской. И еще подумал – к ненастью, и ветер услышал, завывающий между домов. За окнами серела гаснущая белая ночь, и в сумеречном ее свете перед глазами оказалась стена, забранная от пола до потолка остекленными шкафами.
Они были пусты, на полках лежали только призрачные «зайчики» света, падающего из высоких окон.
Сначала он решил, что это продолжение сна. Сейчас слетит его дымка, и все появится – угловатые, тяжелые образцы пород, правильной формы столбики керна, поблескивающие зеркалом многочисленные шлифы, кристаллы минералов, спаянные в друзы – все то, что было привычным, примелькалось и составляло душу дома.
Потом он осторожно сполз с дивана – прихватывало спину после долго сна – и согбенный, перетерпливая боль, долго бродил вдоль застекленных стен, открывал дверцы и щупал пустые полки…