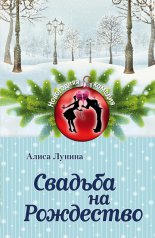Башня поэтов Исмагилов Анвар
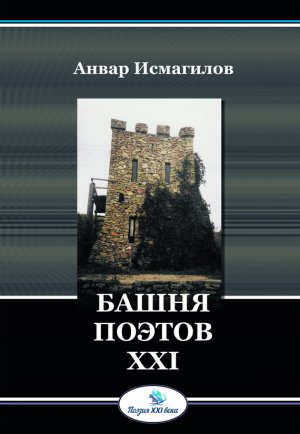
Мифословие пред…
В его невероятную биографию вместились бы десятки жизней; у него много лиц и имя, достойное русского поэта: Анвар Исмагилов.
Что за странная книга? То скоморошьи пляски летят со страниц и дразнятся лукавые частушки, то грустит задумчивая сонатина, а вот издалека раздаётся бравурный марш… и вдруг стихают звуки: «Заповедаю вам – да любите друг друга…».
…жил в Италии такой граф, любитель соловьиного пения. Бывалыча, выйдет июньской ночью, заслушается, а они, проклятые, пущают струю, трели отливают, что твоё серебро на монету.
И до того он возлюбил соловьёв, что когда прилетели большенькие птахи Божьи, скопом завились, вихорь создавая, да запели небесным хором песню, то граф возрыдал безутешно:
– Охти, Господи, почему же я так не умею? – И призвал мажордома, старшего по дому, кто за пропитанием и порядком следит, и повелел:
– Ты, грит, безыскусный человек, Феличио, а я проникся. Слышишь, как птицы поют?
– Да как не слыхать, уже все ветки скопом обсели да весь двор загадили, ажно в портике колоннов не видать из-за ихнего помёту.
– Эх ты, скотина мычащая, жалкий адамов огрызок, нечувственная душа! Ты вот что, как я проникся, так сполняй мой приказ. Там у нас мятежники сидят, кои супротив голодухи восставали, так ты прикажи виселицу снести. да не скаль зубы, знаю, что с ними заодно, так и норовишь копытом лягнуть. Так чтобы крайнего позора на них не было, вешать не будем, бунтовщиков хорошо накормить, а Луиджи пусть топор поострей наточит и головки им грешные отрубит. Без позору.
Феличио покивал да пошёл приказы сполнять. А вослед ему граф-то и кричит: а птиц этих пущай теперь учёные моей фамилией поименуют: СВИРИСТЕЛЛИ! Так и полетели они по белу свету, дудочки серебряные.
Любая поэтическая книга, пока её не откроешь, – убежище свиристелей, дремлющих на её страницах. Но стоит чуткому читателю позвать их, и фр-р-р-р! Зазвучат стихи, польется затейливая проза.
Читайте, не оставляйте птиц взаперти!
От автора башни поэтов – сооружения и книги
Что это за сооружение? Кто его строил и ЗАЧЕМ? На эти вопросы много ответов, но название говорит само за себя.
Народную стройку начала в Северном Причерноморье в середине 80-х годов XX века группа мужчин творческих профессий, как говорили в СССР, и их Прекрасных Дам. Была окончена она (вдвоём!) осенью 1986 года, когда автор этой книги вместе с директором музея-заповедника «Танаис» Валерием Чесноком всеми правдами и неправдами добывали последние кубометры камня и выкладывали зубцы на самом верху Башни.
Такова хронология. Хотя, по некоторым наблюдениям, во время строительства Башни происходили события, ставшие знаками общего распада и деградации советского общества. Весной 1986 года, когда автор прибыл с Севера Сахалина в Танаис, желая там навеки поселиться (и подлечиться – давал себя знать хронический бронхит, заработанный во время работы на «комсомольской стройке» – газопровод Даги – Оха – Комсомольск-на-Амуре), грянул первый гром: взорвалась Чернобыльская АЭС!
Вовсю бушевал антиалкогольный закон, обернувшийся массовыми отравлениями, гигантскими прибылями алкомафии, безудержным самогоноварением, что, впрочем, почти не замечалось обитателями Танаиса, при нужде умевшими раздобыть и мальвазию, и марсалу, и амброзию, дар небес. И было ощущение того, что внешний мир достигает Меотиды лишь полувнятным бульканием запретных радиоголосов. А ещё была комета Галлея, наводившая священный ужас на планету Земля своим вещим хвостом.
А на стройке всё шло по плану и чертежам, утверждённым завотделом античного мира Пушкинского музея Владимиром Толстиковым. Правда, Анвар Исмагилов, ездивший в Москву за документами, нарушил строгие предписания, протянул провода, подключился к свету, слушал «Радио Свобода», пил горячий чай и вообще начал жить сюзереном, пригласив на первый этаж своего вассала, Александра Брунько, цитату из книги которого мы приводим:
«…До ареста я жил в Танаисе, среди великой, неслыханной по красоте осени, на первом этаже невиданной башни, построенной археологами, музыкантами, художниками и просто энтузиастами – по образу и подобию древних сторожевых форпостов Танаиса. «БАШНЯ ПОЭТОВ» – так окрестил это немыслимое сооружение прекрасный поэт и певец Анвар Исмагилов, который занимал второй этаж. А рядом, на внезапном и крутом взгорье, рос огромный куст шиповника. Вот и запомнилось: тяжелая, нет – золотая сентябрьская синь – в темно-красных звёздах, качающихся на колючих ветках. Как-то, незадолго до моего ареста, одна из тамошних обитательниц-«танаитянок», прервав безмятежную беседу, вдруг – шутки ради – запела старую лагерную песню. От неожиданности сердце сжалось. Это было, повторяю, накануне моего, столь же внезапного ареста».
(«Поседевшая любовь», Ростов-на-Дону, 1990).
И вот мы с Сашей остались единственными представителями мужской части литературно-художественной банды, давно оседлавшей степное царство, но к тому времени по разным причинам оставившей привольные степи, поменяв их на затхлые коридоры и подвалы Ростова-на-Дону. Там, у Башни, под звёздным небом, мы вели долгие разговоры обо всём на свете, а на сто вёрст, кроме нас двоих, не было ни одного из тех, кто сейчас называет себя «заозёрщиками» – будто блатную кликуху себе дали! А Гена, Виталик и Игорь ушли в город, выйдя из резонанса с Чесноком – бывало и такое, что уж скрывать. Мы держались…
«Житьишко было само последно, ни постлать, ни окутаться, однако пензию получали – одну копейку в месяц», как говорил Борис Шергин. Нас посещали Музы… Мы были почти всегда (кроме дней посещений) голодны… и невиданно счастливы! Писали и читали друг другу стихи, цитировали самиздатовскую прозу, я писал и пел песни, одну из которых посвятили мы с Сашей его Музе на день рождения. По утрам я тренировался по старой привычке на тыльной стороне БП: залезал на пальцах снизу до зубцов, и однажды так увлёкся, что не услышал, как подошла группа пионэров. Один из них заорал: «Гля, дяхан по стенке лезет, сичас звезданётся! Маргарита Трофимовна, отойдите, он на вас попадёт!». Заботливый, вишь ты…
А потом я поехал в Москву с концертами, а Саша заартачился: мол, машина экспедиции АН СССР идёт как раз на Москву, я лучше на ней поеду. И поехал. До ближайшей милиции: идёт по Ростову-на-Дону человек с бородкой, закутанный в одеяло, а подмышкой несёт рукопись. Его тормозят. У него, как ни странно, был даже паспорт с пропиской. Но когда менты прочли стихотворение «Через клизму», то один другому говорит: «Это не наш клиент, а соседней конторы». И сдали его в КГБ. Допросы, запугивания – ГОД тюрьмы! За нарушение паспортного режима!
Так закончилось наше недолгое поэтическое счастье. Я прожил тяжелейшую зиму в Танаисе, снега завалили все ходы-выходы. И была экспедиция, Дом Анвара, пиратский флаг на мачте с блоком, новые песни и стихи, а Саша, о котором я узнал только через несколько месяцев, сам находясь ПОД КОЛПАКОМ, в это время писал невиданную в русской литературе книгу – «на третьей шконке», как он сам мне говорил. Там была и «Античная баллада» – стихи, ставшие песней, а точнее, гимном свободе и любви, красоте и мужеству и всей нашей путаной, мутной, как воды Ганга, и столь же священной жизни.
Анвар Исмагилов, Тюмень, 19 августа 2012 года.
Стихи 1982-1989
Сибирские гекзаметры
Жану Жигулину из Чернигова
- I.
- Друг мой! Как я обещал, полыхает сибирская осень.
- Щедрой рукой сентября награждён коммунхозовский двор.
- Лает собачка вдали, предвещая конурные страсти.
- Пусто в сухих небесах, и река все бледнее и гуще.
- Превозмогая печаль, нужно плыть, не мечтая о сне,
- нужно на пристань пойти, где скрипит костяком дебаркадер,
- где навигаторы бьют молотками по летним гробам.
- Там капитанит зима, теплоходы сгоняя в затон,
- там керосинит подвахта, бутылки спуская в диван
- (полны его закрома, как запасники русских музеев) —
- будет что сдать по весне, молочка прикупив на колпит!
- II.
- Мост через реку Ладья, что зовут дилетантски ТУРА,
- руку свою протянул, свою узкую спину подставил,
- чтобы, веселья ища, двухэтажно-бревенчатый город
- в тесных вонючих такси на Пески, трепеща, устремлялся:
- чтоб на воде не гадать, там цыгане водярой торгуют.
- – Памятник ставим Горбу, – говорят они, мзду собирая
- за неумеренный пыл тех, кто пил, но доклады творил.
- Синие с белым дворцы, просиявшие сквозь лихолетья,
- грустно взирают на мир с правого брега Туры.
- Левый заречный народ, прозябающий в микрорайонах,
- башнями небо затмил и глотает машинного змея.
- Змей, изрыгая дымы, рассекает пространство полей.
- Тысячеглавый ревёт, и притихли суровые избы,
- головы в плечи вобрав, выдыхая печные дымы.
- Так проигравший войну, нахлобучив бессмертную кепку,
- молча на танки глядит, на которых гогочут бойцы.
- III.
- Грустно тайге в берегах своего бессловесного моря.
- Порчу и мор наведя, город воду протухшую пьет.
- Летом горят небеса, ужасая последних животных,
- в зиму дымят небеса, оскверняя доверчивый снег.
- Осень сибирская, плачь, размазывай грязные слезы
- по площадям, по щекам занесённых тобой городов.
- Нищая телом страна богатела дурацкою думкой,
- байки сменялись халвой, или просто халвы называньем.
- Вечная осень во всем, вековечная плесень-тоска!
- Эх, если б нам да кабы! – и топор завораживал блеском.
- Дьявольская карусель однородно-пехотного шага.
- Строем районы стоят, пришибеевский фрунт сохраняя.
- Трудно в родимой стране быть двоюродным полутворцом.
- IV.
- Осень сибирская, лей скупердяйского золота Солнца!
- Осень сибирская, жаль, коротка ты, как жизнь или смерть.
- Синий последний денёк, синевою последней блистай!
- Грозно пойдут облака, выжимая прижатое небо,
- грянет смертельная стынь, примиряя со льдом Океан.
- Что предвещает зима, что готовит Судьба-прохиндейка?
- Новый народов раздор или вздор магазинных делёжек?
- Будут ли снова стрелять или просто кого-то посадят?
- Как ведь волков ни корми – у слонов очень толстые ноги.
- Заднею лапою кот чешет брюхо в период простоя,
- бурный народ-стрекоза красным летом воюет с собой,
- крепкий запор у дорог, и пурген заряжают в патроны.
- V.
- Друг мой! Как я обещал, мы стоим на пороге прогресса.
- Только вот наши грехи не пускают на этот порог.
- Так и торчим посреди перекопанных нами просторов,
- мимо плывут журавли в разрешённую нынче страну,
- ветер гудит золотой, выдувая в трубу наши недра.
- Осень везде и во всем. Золотая пора умиранья.
- Хмурый осенний народ полудохлых считает цыплят.
Октябрь 1989 года,
Тюмень, улица Пароходская
К покупке абхазского вина «Лыхны»
- Пройду голгофу очереди рваной
- возьму вина в разверстом магазине
- встряхну бутыль и поднесу к глазам
- и ахну:
- Лыхны! Лыхны!
- Боже мой!
- Так вот когда назначено свиданье
- вот где и как напомнила она
- блаженная Абхазия моя
- о море Бзыби и священном дубе
- И далее по тексту от Исайи
- по ерику по Ездрам по Бруньку
- читай о путешествиях в пространстве
- незамещённых минералах вод
- привычное изгойство отторгай
- а в общем пребывай в непостоянстве
- Вот так всегда захочется скакать
- но конь охрип иль конюх непогодит
- на крыше серый некопчёный язь
- разит на белый свет описторхозом
- и выплывают из лесов клещи
- с кусачими как лица хоботками
- Плыви плыви кормилец первородный
- по мутным водам Дании в бреду
- великий свод великая прореха
- сияет синим гневом над тобой
- припавши к музыкальному привету
- глотай последний в Сирии озон
- на улице встречая непогоду
- всей грудью непробитой до сих пор
- пиликаешь на скрипке колыбельной
- изрядно донимая слух больных
- Итак вперёд по виа Виардо!
- Наперебор наперекор борщу
- бессонной жизни годы раздавая
- на паперти в ладони лошадей
- и маленьких котов с руками женщин
- и цепких и вонзающих и нежных
- бросай не на спор годы просто так
- раздаривай пехотным капитанам
- пропившим деньги взмыленных солдат
- бог им простит а леший не прокусит
- причаливай у каждого столба
- под каждый кустик поднимая ногу
- ЗДЕСЬ ВСЕ ТВОЕ НЕ БОЙСЯ И НЕ ЛГИ!
- Оставь другим блаженные заботы
- о стенах крышах детях и долгах
- а сам ступай в невнятные просторы
- где бродит полудиккенсовский дождь
- в его тенях еще блуждает лето
- Тебе же нужен листолёт осенний
- избушечный печной речной уют
- свечной Олимп с улыбчивым котом
- машинописный рай с огнём в стакане
- твой филиал Абхазии блаженной
- где фимиам воскуренный во славу
- наполнит влагой тёмные глаза
- где ты умрёшь от счастья и ненастья
- и возродишься под летящим клёном
- осенним утром в солнечном саду…
Монолог мусоргского
Модест Великий умер в больнице под видом денщика доктора Бертенсона
- Деревьями процеженное небо
- струится по земле, сквозит и тает.
- Ты Музыка, я композитор твой, —
- я исполнитель дней твоих и таин.
- О, как ты унизительна, Россия!
- Как жить под этим небом необъятным?!
- Как петь хотя бы день о полном счастье,
- где места нет пусть солнечным, но пятнам?
- Перед твоими, Мать, городовыми,
- перед селёдкой иваси на сдобу,
- при виде угорелых от дерябы
- я даже не испытываю злобы!
- Ты потчуешь нас розгами-долгами,
- ты охраняешь мысли от свежатин —
- то липа, то берёзовая каша,
- на третье палконосные сержанты.
- Невпрок идёт кровавая забава
- и рыскаем по курсу влево-вправо.
- Ты Музыка, я композитор твой.
- Душа твоей пропитана отравой.
- Ведь даже с чемоданом на граните,
- имея в перспективе дождь и слякоть,
- с озябшими от пития мозгами
- не проклянёшь ни купол твой, ни лапоть!
- Возможно, существует Ференц Лист,
- придирчивая пенная Европа?
- Кто в доме гений – я или Направник?
- Хотя в зерцале не лицо, а рожа!
- Есть химики упорного труда —
- они свои высиживают формулы
- и набивают на заду мозоль.
- А я своих не предсказую фортелей!
- И знаю – будет некий А. Брунько,
- кто даже не рискует протрезвиться, —
- вся жизнь, как перевёрнутый стакан,
- такие же беспутные ресницы.
- Все потому, что не умрёт со мной
- бездонная отвага умиранья.
- Разлитый по закусочным талант
- куётся в круглосуточной нирване.
- Пока в России осень и весна
- сменяются, бушуют, возрождают,
- пока звук полицейского свистка
- свободы от побега ограждает,
- пока цари ступают за царями
- и водка свой не поменяла цвет, —
- лишь цену с девятнадцатого века —
- Талант горчайший оставляет след.
- Наумов, потерпи ещё, голубчик:
- «Хованщина», Арсений, поясница,
- и нет ключа от дома, Дома нет…
- Но что-нибудь до смерти прояснится.
- Люблю я этих стасовских любимцев
- за пышный вид и право исправлять:
- макай меня в немецкую тарелку,
- учи во фрунт гармонию равнять!
- Прислушаюсь – какие ветры, Боже!
- А черт за русской печью корчит рожи…
- Арсений Голенищев есть поэт!
- А песню смерти мне поют рогожи.
- Кудлата голова моей Музыки,
- сквозь волосы просвечивает небо,
- и вспомоществованья ниоткуда.
- Жил налегке… И ухожу нелепо…
- Оплачь, Поэт, громадный этот храм!
- Я был здесь архитектор и строитель,
- и каменщик, и витражист, и служка.
- Он был мне дом, любовь и вытрезвитель.
- Безумцы одиноки. Их семья —
- поэты, музы, дервиши, юроды,
- художники, деревья, берега.
- И крылья неосознанной Свободы!
Тюмень, декабрь 1989 года
Черная ночь
- Да, все длится и длится позорная чёрная ночь!
- И привставшая с пухлых колен непутёвая дочь,
- ободранка-поэзия попкой виляет набитой
- и варганит для мамочки-жизни побаски блатные,
- и глотает взахлёб кратковременный воздух-напиток,
- где блуждают нейтроны Свободы, введённой отныне.
- Нет, позвольте мне в шабаш потентов не лезть и за гривну!
- Я киваю налево-направо с покорнейшей просьбой:
- не тяните меня, я и так от морозов охрипну.
- Лучше прежний шалаш, даровой, подзаборный, подзвёздный,
- чем участие в гонке талантов на приз Хлебодачи,
- чем на новую партию граждан несытых батрачить!
- Мои пальцы протёрты до дыр непокорной струной,
- мои губы истерзаны ветром и женской любовью.
- Я лечу над пропитой дотла подбугорной страной,
- изумляясь привычке делить и охоте к разбою.
- И все длится и длится почти предрассветная ночь!
- Но Афина-Паллада забыла, как видно, дорогу,
- и бездумная клака готова скандалу помочь,
- если наш прима-бас поскользнётся на горсти гороху.
- Скажем, спросят меня, что я делал, когда кто-то строил?
- Отвечаю: не строил и сам я недорого стоил.
- Руки дёшевы были, а ум продавался навынос,
- а от этих страстей и душа потеряла невинность.
- Так скажите на милость: куда мы плывём и зачем?
- Тонет пьяный корабль, и все громче кричит казначей.
- На подмоченной куче бумаги портреты и цифры,
- и все гуще потёмки, на картах лишь кляксы и шифры.
- Но ласкает глаза многозначный зелёный бугор.
- Ветер в небе полощет берёзу и шепчет в укор:
- «Простодушная белая дева, ликуй невпопад!
- Ты забыла, что августы смертны, и ждёт снегопад.
- Так зачем ты купаешься в небе и облаке снежном?
- Только горе бессмертно, а радость оплатишь листвой.
- К ноябрю наготой затрепещешь в предзимье кромешном,
- а что было в осеннем пиру – было, но не с тобой».
- Так и я с перекатной отвагой лечу по России.
- Небеса затмевают пожары гражданской войны.
- Но за что б ни тянули к ответу и чем ни грозили —
- я не буду двойным!
Тюмень, декабрь 1989 года
Второе посвящение Александру Брунько
Это весело, коротко, ясно
Александр Виленыч Брунько!
Это даже посмертно опасно
для Халупских и для Чесноков.[1]
То отчаянный, то одичалый,
в бормотанье, как в смерть, погружен.
Всей корысти – заварка да чайник.
В небо глянул, взлетел – и пошёл!
И откуда Вийона замашки
при бородке и чуть не пенсне —
вы спросите в степи у ромашки
и на Кировском. На КПП.
Еще раз о брунько
- Где ты, Саша-Александр?
- Жив ещё немножечко?!
- Сколько раз ты воскресал
- лезвием из ножичка!
- С хороводами светил
- песни пел и бражничал:
- лихо Бог тебя слепил,
- не мудрил, не важничал.
- За версту видна фирма
- гордеца российского,
- нет, не вышибла тюрьма
- звёздного и чистого.
- Был ты грозный диссидент,
- бубен Солженицына,
- а теперь ты отсидент —
- отвали, милиция!
- Перестроим всю страну
- справа по два – ротами!
- Перекрасим старину
- с бабохороводами.
- Обнимайся, коммунист,
- с дьяконом и батюшкой —
- ты теперь морально чист,
- приумолкла варежка.
- Разбегайся, кто куда,
- член с корреспондентами!
- Пятый год идёт орда,
- в лозунги одетая.
- Нам же, милый Александр,
- хлебушка да небушка,
- древний башенный фасад…
- И как пела девушка…
- Беззаботен был наш чай
- пред бедой грядущею.
- Кто продаст – поди узнай,
- все под Божьей руцею.
- По воде пошли круги —
- счастье камнем кануло.
- Где-то подпись есть руки,
- плоской, словно камбала.
- Где же свидимся, мой друг,
- в матушке-Рассеюшке?
- Боль былого, дым разлук
- разведёшь, рассеешь ли?
- До свиданья, как всегда!
- Может быть, до скорого…
- Вся История – вода
- в протоколе участкового!
20 декабря 1989 года, Тюмень, улица Пароходская, 34, кв. 1 (конспиративная квартира Тюменской организации РСДРП (б) в 1904–1909 гг.)
Семейная жизнь
Пьеса-диалог
Кате
Она:
- Ах ты, клистирная трубка!
- Ах ты, заморыш чердачный!
- Веялка ты, молотилка,
- уши торчат, как у зайца,
- зенки ну точно коровьи,
- норовом ты в бригадира,
- а по зарплате ты сторож!
- Выпить и то не умеешь —
- сразу бежишь к унитазу…
- Куришь, как два паровоза,
- трубку сосёшь, как младенец.
- Что ты опять там задумал?!
- Что ты уткнулся в роман свой?!
- Тоже мне, Бродский Эмильич,
- старший отец Пастернака!
- Восемь рублей до получки,
- Пашка порвал на заборе
- школьную форму, поганец!
- Каша опять подгорела…
- Что ты молчишь?
- Отвечай мне!!! Любишь меня или нет?!
Он:
- Солнце моё золотое!
- Мой одуванчик весёлый,
- деточка, ласточка, дочка,
- скоро настанет погода,
- та, что ты любишь, я знаю —
- будет сиять на закате
- жёлтое мягкое солнце…
- Ты ведь такая же, правда?
- Помнишь восьмое апреля
- семьдесят пятого года?
- Дай поцелую тебя!
Оба: (тихо поют, обнявшись)
- Все в этом мире проходит,
- только не мимо, а вместе,
- мы погружаемся в воды
- тихих вечерних созвездий.
- Там, на краю Океана,
- лунная в небо дорога.
- На одеялах тумана мы уплываем далёко…
- Здравствуй, планета Любовь!
Южноуральск, ДК ГРЭС, июль 1989 года.
Мечтания о львовском погребке «Мюнхен» на тюменском Севере
Стихотворение в прозе
Сергею Дмитровскому
попьём пива, друг!!
попьём холодного, а, друг?!
попьём так, чтобы туфли к полу прилипали?!!
попьём пеноструйного, многобъёмного, густоваренного, рыбопросящего, осуждаемостойкого, болеутоляющего, хриплоголосящего, мирнобеседного, водкопротивного, сессионностуденческого, бедноутешающего, ценодоступного, северяномечтаемого, непонимаемогоникем?!
попьём пива, мой друг, скушаем с ним в обнимку лещика счастливодобытого,
и вразвалку придём домой, а там задремлем, и завалимся спать, и уснём, и приснится нам Большая Кружка, и Большой Лев, и Золотая Струйка, от чего проснёмся в испуге, и совершим то, что положено мужчинам, и заснём ещё крепче, ибо день предстоящий к вечеру, а может, и с обеда, принесёт нам ещё его же, ненадоедающего, поископотного, трудовенчающего, народолюбивого, похмелоутешительного, дочетырехпятидесятибутылканаСеверестоящего – сам видел!!!
Нижневартовск Тюменской области, август 1989 года
Трактирная песня
- Поговорим же о вещах нейтральных,
- поговорим бессмысленно и томно,
- пусть Гераклит побудет с нами Тёмный,
- а звёзды сядут светлячками в травах.
- Но знаю – мы говорить не будем
- ни о любви, ни о священном даре,
- и брошу я пассажи на гитаре,
- и все людские игры брошу людям.
- Так прочь, любовь!
- Займёмся низким блудом!
- И оттого отчаянно и пьяно,
- шарахнув крышкой по фортепиано, —
- бокалы оземь и в трактир Тальони!
- Ночь на запятках – ветер не догонит.
- И там, среди мерцающего пара,
- где неприлично плачется гитара,
- и там, где шлюхи с мокрыми губами
- сощурясь, ищут тех, кто гулеванит, —
- в дыму табачном, вымазаны краской,
- интересуют лишь одной развязкой, —
- там, посреди кладбищенского звона
- бутылок, рюмок, подвигов кабацких,
- где пятый литр потребует догона,
- где хлопец хищной рыночной закваски
- стаканы полнит, восхищаясь словом,
- сверкая жидких глаз холодным оловом, —
- там, посреди родных алкоголичек,
- среди пернатых деток Бабарынки,
- я захлебнусь «трёхбочкой» и «столичной»
- и прокляну наветы Бабарихи,
- что дует в уши вечной серенадой:
- – оставь её, найдём тебе что надо!
- Я выйду в ночь и захлебнусь морозом,
- осатанев от пира привидений,
- и зашатаюсь баковым матросом,
- заслышав зов сирены в дивной пене…
- Прощай же, остров сновидений тайных!
- Поговорим же о вещах нейтральных…
Тюмень, ноябрь 1989 года
Прощай, музыка!
Сергею Вахотину
- В мире блестящих падений и взлётов,
- в мире даров нищеты панибратству
- мы проживаем ни шатко ни валко,
- мы говорим новым бедствиям «здравствуй!»
- В мире дорог, не ведущих ни к Риму,
- ни в Уругвай, ни тем более в Ниццу —
- пареной репы забыв простоту
- и витамины – вгрызаемся в пиццу,
- псевдошашлык и почти колбасу.
- Господи, уши мои ослабели!
- Мне да простится – привык с колыбели
- к ангелу Моцарту, рыцарю Баху…
- Радио шваркнет – шарахнусь и ахну!
- Эти назальные мне вокализы,
- эти назойливые катаклизмы!
- Эти клубы квазидыма Отечества…
- Тоннами давит звук человечество.
- О, киловатт, килобайт, килофон!
- Палочки – звук, голова – ксилофон!
- Мы опускаемся тихо на дно
- мутных морей первобытного звука.
- Весело, братья, и воешь, как сука
- в лунный мороз перед смертью в окно.
- Что навевают тебе, милый мой,
- нежного возраста сын-преуспешник, —
- вайкулефорумысамковыйлай?!
- Кончена свадьба. Убит пересмешник.
- Рай в небеси. Можжевеловый рай.
- Музы кабацкия. Канты блатные.
- Нынче и струны почти золотые.
- Лабух парнос[2] заменит Парнас,
- в кепке таксиста гарцует Пегас.
- Слышишь, братан, я играю бесплатно,
- слушай меня, я остаток таланта.
- Слышишь меня? Но залеплены уши
- пластырем-плейером – рёвом насущным.
- Голос поэзии вял и лукав,
- хитротуманен и полон забав,
- и не дай Бог ей ввязаться в борьбу —
- вкусы вправлять – вылетает в трубу.
- Массовый Васька, глодая голяшку,
- слушает повара, дрыгает ляжкой,
- плотно икает, прилежно сопит,
- кушая Музыку, вежливо спит!
- Ангел мой Моцарт, библейский мой Бах,
- бедный мой Шнитке, герой заграничный.
- Я на поляне лежу земляничной.
- Небо ржавеет, как гвозди в гробах!
- Древо культуры дотла облысело.
- Реки Земли умирают, скорбя.
- Выжат Коровьев, сидит Азазелло.
- Осень России пошла с Октября.
Автоэпитафия,
Написанная по дороге в редакцию журнала «Уральский следопыт», где я играл на американском органе прошлого века
- Лязгнет вечер затвором,
- ночь навалится с бритвой.
- Я умру под забором,
- нелюбовью убитый.
- Я умру под забором,
- в лоне жизни бродячей,
- с окровавленным горлом,
- рядом с маршальской дачей.
- От сарматского Дона,
- до болот Сахалина
- шёл я вечно влюблённый,
- глаз востря соколиный.
- Если все мои дети
- соберутся у морга,
- вы поймёте: в поэте
- плодотворного много!
- Мои девушки вскрикнут,
- в липком горе забьются —
- страдиварьеву скрипку
- раскололи, как блюдце.
- Кто их в озеро сманит
- речью пылкой и вздорной,
- красоту их восславит
- покаянно и гордо?
- Мои бедные песни!
- Кем меня заменить им?!
- Я умру неизвестным,
- а проснусь – знаменитым!
Рок-монолог
- Рельсы плюс миллиард – равняется БАМ!
- Крик умножить на шум – равняется гам!
- Вот кончается век – а что нас ждёт там?!
- У последней реки я поставлю вигвам.
- Радиоволны взбивают пену из слов,
- а в сетях сатаны обильный улов.
- По участкам и улицам – звон кандалов,
- в нас стреляют, но мы упрямей ослов —
- и ни с места!!!
- Но я знаю – все это лишь пыль на дорогах веков!
- И я знаю – весь этот металл лишь для новых оков!
- И я знаю – все это растает быстрей облаков!
- Не гневите богов! Не гневите богов! Не гневите богов!
- Дети смотрят назад и видят там ад!
- Деды смотрят вперёд, разинувши рот.
- Я по глупой привычке смотрю на восход.
- Дятлы справа и слева – кто их разберёт?!
- Я гитару беру, не холоп и не смерд!
- Песня – письмо во Вселенную, я же – конверт.
- Пой, пока не сгорела небесная твердь!
- Но я знаю – и это лишь пыль на дорогах веков!
- И я знаю – весь этот металл лишь для новых оков!
- И все это растает быстрей дождевых облаков!
- Не гневите богов! Не гневите богов! Не гневите богов!
Южноуральск, июль 1989 года
Алиса Прекрасная
- Сколько бы этот безудержный день ни продлился,
- Сколько бы мороков, бед и погибели явной
- Ни навалилось – хоть в самый бы ад провалился! —
- Вынесу все, лишь бы знать, что лисёнок Алиса
- Звякнет звонком, дёрнет гордо главою державной,
- Золотом царских волос ослепляя квартиру,
- Смехом округлым рассыплет брильянты и злато…
- Ах, оттого поведенье моё столь спортивно —
- В речи и мыслях сплошные кульбиты и сальто!
- Девушка, кто ты, разбойница ты или Сольвейг?
- Улицу пыльную пряные ветры качают.
- В сон ли уйду – попадаю в густой Алисовник,
- Лес, где деревья и птицы Тебя означают!
- Как я теперь понимаю троянские распри:
- Видел я многое, странствуя дольше Улисса,
- Но и Елены Прекрасной Ты все же прекрасней!
- Глупости, скажете…
- Но вы взгляните – Алиса!
Челябинск, июль 1989 года
Оставила зонтик
Не поминайте имя
- Вот зонтик твой, в углу оставленный —
- и горло певчее сжимается.
- Рвёт ветер пастию оскаленной, —
- где ж милая моя скитается?
- Чем от нашествия небесного
- она укроет русы волосы?
- Какие сабельные бедствия
- в краю болотном, дикой области!
- Ты обжигающе доверчива,
- а я такой не стою участи, —
- моя судьба со смертью венчана,
- и лучше в одиночку мучаться.
- Но и на том краю, где спросится:
- – С кем хочешь вечного свидания?
- Взгляну, как облака проносятся,
- и вспомню наши встречи тайные,
- и наши судороги пламенные,
- и наши обмороки гибельные,
- и речи сказочно-неправильные,
- и твои плечи бело-кипельные.
- Так, глядя прямо в очи Господа,
- вздохну и выдохну отчаянно:
- – Прости меня, владетель Космоса,
- я сохраню о ней молчание…
Тюмень, октябрь 1989 года
Сонет пути к Елене Прекрасной
- Семь нот ведут к тебе, ступеней семь бессмертных.
- Семижды семь грехов хотя бы раз прости.
- На парусах любви волшебные кресты,
- но кораблей моих не ждут в порту Бизерты.
- Мне ведомы давно отравы и десерты,
- дрожащий чайный хмель и алкогольный стыд,
- надсада табака и гиблый пот простынь,
- беззвучные стихи и громкие концерты.
- Рождённый меж песков пустыни бесконечной,
- возрос на берегах курортницы беспечной.
- Любя эвксинский понт, пижонил и болтал.,
- по белу свету плыл, то в муках, то смеясь,
- и вот я пред тобой, целуя пьедестал.
- Познаю ад и рай, их горестную связь.
Сонет для уходящей в ночь
- Тебе ли не понять безумие моё,
- где буйствует одно восторженное сердце!
- Густеют холода. Вовеки не согреться.
- На шёлковых крылах ликует воронье.
- По всем семи кругам настойчивого ада
- блуждает тень моя – покамест без меня.
- Прошу тебя, молю, – не прибавляй огня,
- не оставляй сего заброшенного сада.
- Пусть прочие тебе завидуют цветы,
- владельцы языков, досель немилосердных!
- В кольце моих забот, сердечных и усердных,
- мой нежный георгин, поднимешься и ты.
- Древнейшим языком любви поют листы.
- Семь нот ведут к тебе, ступеней семь бессмертных.
Сонет хранительнице дома