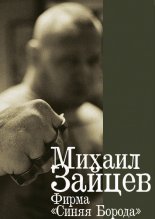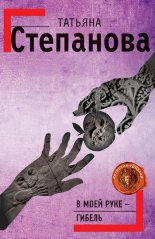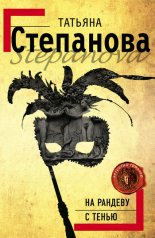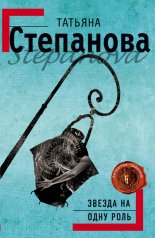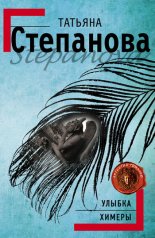Армагеддон был вчера Олди Генри

А дядька все копал и копал.
«Слушай теперь, и о том, что скажу, не забудь…» – прошептал кто-то совсем рядом, и вдруг зашелся сухим, лающим смехом, прозвучавшим подобно святотатственной клятве.
- – Слушай теперь, и о том, что скажу, не забудь: под утесом,
- Выкопав яму глубокую, в локоть один шириной и длиною,
- Три соверши возлияния мертвым, всех вместе призвав их:
- Первое – смесью медвяной, второе – вином благовонным,
- Третье – водою, и все пересыпав мукою ячменной,
- Дай обещанье безжизненно веющим теням усопших:
- В дом возвратяся, корову, тельцов не имевшую, в жертву
- Им принести и в зажженный костер драгоценностей много
- Бросить…
Меня бросило в жар. Ни с того ни с сего мне показалось, что дядька, сидящий на корточках у ямы, больше похожей на разверстую могилу для карлика – это я, хотя мы были совершенно не похожи друг не друга. Это я сидел сейчас, собираясь с духом и загоняя страх куда-то в живот, где он и скапливался холодной лужей, это я готовился совершить неслыханное приношение в невиданном месте, не боясь грома небесного и кары за грехи; а если б Те узнали, чего я хочу, то они содрогнулись бы и кинулись сюда, пытаясь…
Пытаясь – что?!
- – После (когда обещание дашь достославным умершим),
- Черную овцу и черного с нею барана – к Эребу
- Их обратив головою, а сам обратясь к Океану, –
- В жертву теням принеси; и к тебе тут немедля великой
- Придут толпою отшедшие души умерших; тогда ты
- Спутникам дай повеленье, содравши с овцы и барана,
- Острой зарезанных медью, лежавших в крови перед вами,
- Кожу, их бросить немедля в огонь, и призвать громогласно
- Грозного бога Аида и страшную с ним Персефону;
- Сам же ты, острый свой меч обнаживши и с ним перед ямой
- Сев, запрещай приближаться безжизненным теням усопших
- К крови…
Теряя сознание, проваливаясь в дурман безумия, растворяясь в окружающей сырости, я слышал гул волн, разбивающихся об утес, и в этом гуле звучали странно-знакомые слова: «Был схвачен я ужасом бледным… ужасом… ужасом… бледным… был схвачен… я… я… я…»
Суббота,
Четырнадцатое февраля
Городское неугомонное утро вступало за окном…
Нет, это уже было.
Я лежал под одеялом, не открывая глаз…
И это уже было.
А чего тогда не было?
Память насмешливо фыркнула и свернулась колючим клубком.
Сесть на кровати удалось лишь после изрядного усилия. Должно быть, поэтому я не сразу заметил, что одет. Я никогда не спал одетым. Тем более в шерстяных рейтузах, блузе с капюшоном и теплых носках.
Носки вообще были не мои. Не могло у меня быть таких отвратительных рябых носков грубой вязки, да еще с черными заплатами на пятках. Владелец подобной мерзости, небось, склонен к суициду.
И пьет натощак.
Нащупав тапочки, я встал и, придерживаясь за стены, направился в коридор, собираясь дотащиться до ванной и плеснуть водой себе в лицо.
Желательно очень холодной водой.
Увы, в коридоре меня ждал очередной сюрприз – из ванной комнаты доносился плеск и бодрое мурлыканье. Голова немилосердно кружилась, но я все-таки ускорил шаг, распахнул дверь санузла и понял, что до сих пор вел неправильный образ жизни, дурно сказавшийся на психике.
Спиной ко мне, оттопырив пухленькую попку, еле прикрытую смешной оранжевой комбинашкой, умывалась галлюцинация.
– Гав! – зачем-то прохрипел я.
– Пшел на кухню! – не оборачиваясь, отозвалась галлюцинация.
Я подумал и ущипнул себя за бок.
Не помогло.
Тогда я подумал и ущипнул за бок галлюцинацию.
Результат превзошел все мои ожидания: раздался оглушительный визг, в ванной на миг стало тесно, я оказался награжден оплеухой, взашей вытолкан в коридор и мог только ошалело слушать, как с той стороны злобно лязгает крючок.
Пнув дверь ногой, я поплелся обратно в комнату. В углу обнаружился чужой матерчатый чемодан, до половины набитый всяким барахлом. Из шкафа торчал цветастый подол, придавленный дверцей, на тумбочке валялись электрощипцы для завивки волос; рядом со щипцами сиротливо притулился «Помазанник Божий», крем для снятия макияжа с добавлением освященного миро. На стене, бок-о-бок с моим календарем, добавился еще один календарь – глянцевый, канареечный, согласно которому мне сегодня рекомендовалось класть присухи на любовь, а также орать в поле, дабы на нивах не было плевел. Я скромно опустил взор и увидел наконец самое невероятное: полы были вымыты и натерты мастикой до совершенно неприличного блеска.
Женился я во сне, что ли?!
Глядя на себя в зеркало (вид у меня был еще тот!), я понял, что ничуть не удивлюсь, если сейчас в комнату влетит сопливый оболтус и кинется ко мне на шею с воплем: «Доброе утро, папочка!»
– Доброе утро! – послышалось сзади. – Как вы себя чувствуете, больной?
– Твою д-дивизию… – непроизвольно вырвалось у меня.
– Что?
– Ничего… – я обернулся, всмотрелся. – Добрейшее утро, Идочка!
– Вы меня помните, больной?
– Еще бы! Дежурная сестренка милосердия в этой… этом… хре… хра… неотложке! Влияние ворожбы на референтную консервацию! Слушайте, хорошая моя, а где ваш роскошный Генрих Валентинович?! На кухне? Завтрак мне готовит?!
Идочка засмущалась и шмыгнула вздернутым носиком, одергивая полы халатика.
– Чай пить будете? – еле слышно спросила она, забыв добавить «больной». – А я вам все-все расскажу… вы только переоденьтесь, ладно?..
Все округлости чуть круглее, чем требует нынешняя мода на женщин-мальчиков; малый рост вынуждает ее смотреть почти на любого собеседника снизу вверх, доверчиво хлопая ресницами и едва ли не заглядывая в рот – многим это нравится, и видно, что да, многим… Волосы цвета осенней листвы собраны на затылке в узел, румянец играет на щеках, а нижняя губка капризно оттопырена, намекая на способность обидеться без повода и простить без извинений. Хочется погладить, почесать за ушком, мимоходом рассказав о чем-нибудь веселом, наверняка зная: она откликнется смехом, утирая слезы и сама стесняясь этого.
И еще: из таких получаются превосходные бабушки.
Вот она какая, сестренка милосердия Идочка…
Рассказ Идочки потряс меня до глубины души. Я даже не сразу обратил внимание, что пью жиденький чаек с белыми сухариками, в то время как сестра милосердия лопает пельмени, обильно поливая их острым кетчупом. До кетчупа ли, когда выясняешь, что без малого три дня провалялся в горячке?! Ну Фол, ну лекарь двухколесный… впрочем, он ведь честно предупреждал меня, дуролома, чтоб не пил спиртного.
– Я из-за вас с Генрихом вдрызг разругалась, – излагала тем временем девушка, не переставая жевать. – Во-первых, выговорилась от души, а он этого не любит. Во-вторых, самовольно в кардиологию позвонила; в-третьих… Короче, с утра он меня уволил. Я в общежитие – комендантша, стерва крашеная, говорит: выписывайся в двухдневный срок и шевели ножками! Потом самосвал этот, на проспекте… иду по улице, плачу, тушь потекла, не вижу ничего – а тут рев, визг, люди какие-то кричат, и водитель кроет меня на чем свет стоит! Подбегает патруль, спрашивает, я плачу, водитель орет… смотрю – в патруле знакомый ваш!
– Ритка! – догадываюсь я, незаметно воруя у разволновавшейся Идочки один пельмень.
– Ага, он самый, Ричард Родионович… положите пельмень, вам нельзя! Ой, и мне нельзя, я и так толстая, вся в маму… Короче, друг ваш уволок меня оттуда, а когда узнал, что уволенная я, и жить мне негде, то привел к вам.
Здравствуй, Ритка, Дед Мороз! Век не забуду, благодетель!..
– Приходим, а вы не отпираете. Ричард Родионович сильно ругаться стали, еще хуже того оглашенного водителя, а потом проволочкой в замке поковырялись, открыли – смотрим, вы на полу валяетесь. И стонете. Тут Ричард Родионович мигом великомученику Артемию свечку, за телефон, в поликлинику позвонили, рявкнули на них, желудочники за полчаса приехали, очистку вам провели – и постельный режим прописали. Хотели госпитализировать: дескать, заболевание странное – так Ричард Родионович воспротивились. Сказал, что девушка – я то есть – здесь останется и приглядит, ежели что!
Я даже не очень заметил, что Идочка говорит о Ритке то в единственном, то во множественном числе. Выходит, вот это пухленькое наивное существо три дня подряд меняло на мне потную одежду и выносило булькающее судно! А я ее за бок, придурок…
– Да вы не смущайтесь! – безошибочно поняла меня добрая самаритянка. – Я ж медработник, для меня больной – не мужчина. До определенного момента.
– Спасибочки на добром слове, – буркнул я, чувствуя, что напоминаю цветом спелую помидорину.
Спас меня звонок в дверь.
Идочка помчалась открывать, а я сидел за столом, макал сухарики в кетчуп и меланхолично отправлял в рот.
До определенного момента… это до какого? Пока не помрет?
– Олег Авраамович, это вас! – закричала Идочка из прихожей и после некоторой паузы добавила:
– Из прокуратуры!
Сухарь застрял у меня в горле.
Еще спустя минуту я выяснил, что сегодня мне везет на женщин.
Потому что гость, предполагаемый суровый представитель суровых органов, оказался представительницей. И ничуть не суровой, а очень даже милой дамочкой средних лет, одетой под стильным пальто в серый классический костюм – узкая юбка и жакет, плюс туфли на шпильках.
Хотя на улице зима. Значит, пришла она в сапогах, а туфли эти стильные принесла с собой.
В сумочке.
Вместо пистолета, надо полагать.
– Вы Залесский Олег Авраамович? – на щеках у следовательши заиграли обаятельнейшие ямочки, и вопрос показался чуть ли не началом объяснения в любви.
– Да, – вместо меня неприязненно ответила Идочка, выглядывая из-за плеча следовательши.
Я только руками развел.
– Я старший следователь горпрокуратуры Гизело Эра Игнатьевна. Вы разрешите присесть?
По лицу Идочки было видно: она бы ни в жизнь не разрешила.
Я указал на кресло (стоит у меня на кухне этакая развалюха в стиле ампир, еще от родителей осталась), и Эра Игнатьевна грациозно опустилась в него, закинув ногу за ногу.
Ноги у нее были – дай бог всякому.
Прокурорские.
– Мне бы хотелось познакомиться с вами, уважаемый Олег Авраамович, поближе. Ну и задать несколько вопросов, если вы не возражаете против неофициальной обстановки, – Эра Игнатьевна смотрела на меня с нескрываемым интересом, который при других обстоятельствах мог бы прийтись по душе. – Впрочем, если вы настаиваете, я могу предъявить свои верительные грамоты. И даже удалиться. До поры до времени.
Я не хотел.
– Тогда скажите: вы близко знакомы с гражданином Молитвиным, Иеронимом Павловичем?
– Нет, – честно ответил я. – Вообще не знаком. Не сподобился чести.
– Ай-яй-яй, Олег Авраамович, – наманикюренный пальчик лукаво погрозил мне, – нехорошо врать тете! По имеющимся у меня сведениям, вы не просто знакомы с гражданином Молитвиным, но и доставили его третьего дня в храм неотложной хирургии. Было?
До меня понемногу начало доходить.
– Было, тетя Эра. Доставлял. Соседа своего, Ерпалыча. Вы его, надо полагать, в виду имеете?
Хлебнув чая, я подумал, что и в страшном сне не представлял старого психа Ерпалыча гражданином Молитвиным, Иеронимом Павловичем.
– Между прочим, Олег Авраамович болен, – вмешалась Идочка, вызывающе фыркнув. – Ему вредно волноваться.
– А я и не собираюсь его волновать, – ответила Эра Игнатьевна таким тоном, что я живо переименовал ее в Эру Гигантовну. – Просто именно мне поручено курировать дело об исчезновении Молитвина Иеронима Павловича, так что опрос свидетелей – моя святая обязанность, И, зная, что Олег Авраамович болен, я пришла к нему, вместо того, чтобы вызвать к себе. Девушка, почему я вам так не нравлюсь? Вы ревнуете?
Пунцовая Идочка умчалась в комнату, а я мысленно поаплодировал следовательше.
После чего принялся подробно излагать, как Фол вынес дверь Ерпалычевой квартиры, как мы нашли бесчувственного старика на полу, как везли в неотложку своим ходом, как ругались с Железным Генрихом и как потом милейший парень-кардиолог забрал у нас Ерпалыча и увез…
В запале словесного поноса я чуть было не помянул утреннюю перцовку, «Куретов» и мифологического библиотекаря Аполлодора, но вовремя прикусил язык.
Еще сочтет, что мы с Ерпалычем – одного поля ягода…
– Вот и мне хотелось бы узнать, куда ваш милейший парень его увез, – Эра Гигантовна, спросив разрешения, налила себе чайку и неторопливо сделала первый глоток. – Понимаете, Олег Авраамович, все дело в том, что в нашей неотложке кардиоотделением заведует женщина. Ваша ревнивая пассия может подтвердить мои слова: ведь именно она той ночью названивала кардиологичке и поругалась с нею, не дождавшись ответных действий.
Я бросил короткий вопрошающий взгляд на вернувшуюся было Идочку. Щеки моей ревнивой пассии из бутонов весеннего шиповника разом превратились в поздние осенние георгины; сестренка милосердия закусила губу, судорожно кивнула и вновь изволила удалиться.
На сей раз – чеканным шагом королевы, шествующей на эшафот.
Во всяком случае, самой Идочке явно так казалось.
– Короче, – продолжила следовательша, – зав отделением клятвенно заверяет: да, дежурила, нет, никуда не выходила и никакого старика с инсультом не принимала. Записи в регистрационном журнале подтверждают ее показания. Опять же у меня есть письменное заявление заместителя главврача: о неких подозрительных личностях, мигом умчавшихся с бесчувственным стариком под мышкой, едва он принял меры к выяснению обстоятельств. Лозунг «Люди, будьте бдительны!» во плоти. Выходит, что машину за вами никто не посылал. Вы случайно не могли бы мне описать этого белохалатного «бога из машины»?
Я задумался. Парень как парень, симпатичный, доброжелательный, особенно после общения с гадом-Генрихом. Выходит, он вовсе и не врач?! Тогда кто?
Ерпалыч, кому мы тебя отдали?!
Век себе не прощу…
В прихожей послышался негромкий скрежет, словно кто-то царапался к нам со стороны лестничной площадки, потом щелкнул замок – и мгновенно раздалось Идочкино сюсюканье:
– Вот он, наш маленький, вот он, наш серенький! Ну заходи, заходи, не студи квартиру…
Наш маленький и серенький не заставил себя долго упрашивать – и мигом оказался в кухне. Было видно, что подобранный мною пес времени даром не тратил. Отъелся, надо сказать, преизрядно. Лоснился и сиял. А также держал хвост трубой, морковкой и пистолетом.
Ткнувшись по дороге мордой мне в колено и приветственно гавкнув, наглый экс-бродяга улегся в углу, заняв добрую треть кухни. После чего уставился на ноги Эры Гигантовны таким взглядом, что на щеках следовательши выступил легкий румянец.
– Овчарка? – спросила она.
«Овчарка-овчарка», – умильно облизнулся пес.
– Кобель, – дипломатично ответил я.
Объявившаяся следом за собакой Идочка энергично закивала.
– Не то слово, Олег Авраамович! Всем хорош: и гуляет сам, и дома не гадит, и жрет что ни дашь, хоть мясо, хоть морковку… Зато как я мыться соберусь, так проскользнет, подлец, в ванную и не уходит! Я уж его и тряпкой, и словами – ни в какую…
Похоже, сексуально-собачьи проблемы Идочки нисколько не взволновали Эру Гигантовну. Она задала мне еще пяток совершенно пустых вопросов – и собралась откланяться.
Сухие, породистые черты доберманши из элитного питомника. Возраст еще не тяготит, лишь добавляя опыта и умения оседлать ситуацию столь же легко, как выбранного на ночь мужчину в постели. Косметики мало, лишь рот чуть тронут перламутром помады, и тушь на длинных ресницах практически незаметна. Ей пошли бы очки, дымчатые стекла в тонкой оправе из золота-обманки, но очков нет, и карие глаза смотрят коротко, остро, будто опытный кровельщик вбивает гвозди в черепицу.
И еще: машинальная отточеность жестов – мелких, внятных, как у актрисы, привыкшей играть крупным планом.
Вот она какая, Эра Гигантовна, старший следователь прокуратуры…
Вот тут-то и раздался очередной требовательный звонок в злосчастную дверь моей квартиры. Оказывается, визиты на сегодня не закончились; более того, у меня возникло странное предчувствие, что они только начинаются!
Идочка, мой добровольный швейцар и ангел-хранитель, уже сражалась с замком – и в прихожей почти мгновенно воздвигся бравый сержант-жорик Ричард Родионыч. А следом за Риткой из клубов морозного пара высунулся обширнейший нос, под которым обнаружилась широченная ухмылка моего однокашника Ефимушки Гаврилыча Крайцмана, кандидата… нет, с недавних пор доктора биохимии!
Похоже, я никогда не смогу привыкнуть к очевидному для всех и невероятному для меня: Фима-Фимка-Фимочка, Архимуд Серакузский, теперь доктор!
Мой пес немедленно принюхался к свертку в Фимкиных руках и, радостно повизгивая, уставился мне в глаза со всей возможной преданностью.
– Ну уж тебя-то не обойдут! – успокоил я серого проглота, и псина с веселым лаем бросилась встречать гостей, едва не сбив при этом с ног зазевавшуюся Идочку.
– Очухался, очухался, алкаш хренов! – заорал с порога Ритка, обличающе тыча пальцем в мою сторону. – Гляди, Фимка, гляди, что творит! Полный дом баб навел, чаем их поит!
Это я, значит, навел…
– Ты, Алик, не устаешь нас поражать, – поддержал Крайцман мерзавца-служивого. – Насколько известно науке в моем лице, ты единственный, кому удалось допиться до трехдневного беспробудного бодуна!
Жизнь становилась прежней. Все происходило само собой без всякого моего вмешательства. Я только стоял, слушал их беззлобную болтовню, наблюдая, как мои приятели отряхивают снег и разоблачаются – и вот они гурьбой набились в кухню, бесцеремонно разглядывая следовательшу, строящую им глазки, а Ритка жорским чутьем угадывает профессию (а может, и звание) моей гостьи, вытягиваясь по стойке «смирно», но Эра Гигантовна благосклонно машет ему ручкой, а тут вдобавок Фимка отодвигает нашего сержанта в сторону и запоздало лезет ко мне обниматься. Идочка выходит из ступора и скачет вокруг нас с писком: «Отпустите! Немедленно отпустите больного! Вы септический!», и Фима отпускает меня, Идочка успокаивается, все, кроме Ритки, рассаживаются и дают мне отдышаться, а заодно и задуматься о будущем.
Впрочем, о будущем позаботились без меня – судя по Риткиной фразе: «Мы тут тебе… в смысле, вам с Идочкой пожрать принесли».
– Вот именно, – подтверждает Фима, шурша оберточной бумагой.
В принесенном пакете обнаруживается ветчина, при виде которой мой пес неприлично визжит от радости, сыр, хлеб, апельсины, один лимон, полулитровая банка с подозрительной мутной жидкостью («Бульон», – успокаивает Крайц) и прочие дары волхвов в ассортименте.
Фимка еще шуршит и достает, а взбесившийся дверной звонок вслух предупреждает меня, что «предчувствия его не обманули»!
Это пришла тетя Лотта, радостно всплеснув озябшими ручками при виде меня в добром здравии – и чуть не уронив из-за этого судок с борщом и котлетами.
Зазывая старушку в комнату и уговаривая ее не стесняться, я обнаруживаю, что пес обрадовался тете Лотте гораздо больше, чем принесенной Фимой ветчине.
Знает он ее, что ли?
В смысле, знает тетю Лотту – в том, что пес знает ветчину, сомнений не было.
В квартире воцаряется полный бедлам: все наперебой осведомляются о моем самочувствии и дают разные полезные советы, от которых Идочка только фыркает и шепчет мне на ухо, чтобы я не вздумал этим советам следовать, если хочу дожить до старости; мне предлагают съесть и то, и другое, и еще вот это, – я послушно киваю и жую то и другое, и еще вон то, пытаясь одновременно говорить, а все делают вид, что понимают меня, хотя ни хрена они не понимают, потому что я и сам себя не очень-то понимаю: а понимает меня один только серый пес, которого я потихоньку кормлю обрезками ветчины. Ритка гудит о предстоящем то ли в субботу, то ли в воскресенье (правда, непонятно, на какой неделе!) санкционированном митинге кентавров, который явно грозит нарушить установившуюся в городе относительную тишину; Фима проклинает свою промышленную экологию и поганые биофильтры, которые все время летят, но после целевой заутрени и вмешательства окраинных утопцев фильтры перестало клинить, зато заклинило Фиму, несмотря на его замечательную докторскую степень. Тетя Лотта сперва увлеченно рассказывает о двух батюшках-отступниках, на позапрошлой неделе едва не сорвавших службу в Благовещенском соборе и даже грозившихся предать анафеме прихожан вкупе с самим владыкой: потом она без видимого перехода начинает сокрушаться о пропавшем Ерпалыче, пес лижет ей руки, а следовательша из прокуратуры очень внимательно слушает старушку и даже что-то записывает; короче, я и не заметил, как кто-то притащил из холодильника водку.
«Столпер-плюс», с портретом Столпера-равноапостольного на этикетке – люблю ее, она лавровым листом отдает, на послевкусии.
Увы, Идочка безошибочно вычислила виновного, набросившись на Фимку – поскольку, по ее словам, я еще не оправился от болезни, и в ближайшие лет пятьдесят не оправлюсь, если у меня такие друзья! – я развожу руками, встаю и, дабы не впасть в искушение, отправляюсь в туалет.
– На прошлой неделе одного дурака-рэкетира брали, – доносится до меня веселый бас Ритки, и я задерживаюсь в коридоре, чтоб послушать. – Долги под заказ из должников вышибал. Способ, дескать, колдовской разведал, чтоб без проблем. Я у него, когда наручники нацепил, спрашиваю: что за способ? А он мне серьезно так: очень просто, служивый! Берут два яйца двумя пальцами, протыкают иглой трижды с двух сторон…
Первым хрюкнул Фима-Фимка-Фимочка.
– …с двух сторон, значит, потом опускают яйца в кипящую воду с солью и перцем…
Деликатный смешок – это следовательша; и почти сразу меленько захихикала тетя Лотта, старая заговорщица.
– …потом дверь на замок, ключ в кипяток, и поешь фальцетом: «Черт приносит того, кто просит! Замок я закрыла, долг в яму зарыла, забрала у пакостника иль убила!..» Ну, дальше я не помню. И напоследок…
– Чего это вы все хохочете? – слышен мне обиженный возглас Идочки. – Нет, правда, что тут смешного?!
– А главное напоследок, – заканчивает Ритка, весь сотрясаясь в пароксизмах. – Главное в том, что ключ с яйцами вареными надо снести на могилу с именем должника, а замок от двери – на могилу с именем кредитора! Я у него спрашиваю: и что, впрямь никаких проблем? Кивает, зар-раза… если, говорит, гостинцы на могилы снести не забудешь, то никаких…
Ухмыляясь, покидаю коридор.
Ну, Ритка, ну, шалопай…
Заперев дверь туалета на задвижку и отгородившись ею от слабо доносившегося из комнаты гула голосов, я вздохнул с облегчением. Ну и денек сегодня! Одно могу сказать: Идочка – молодец. И как сестра милосердия, и вообще… Или это наша первая встреча в ванной так на меня подействовала? Вряд ли: что я, голых баб не видел?! Видел. Да и не голая она была, хотя и пес на нее как-то так косится, и я – тоже кобель еще тот…
Тоненькая пачка листков в клеточку вываливается из моего кармана на кафель пола, я вспоминаю, откуда у меня взялись эти листки – и поскольку сидение в туалете располагает к чтению, по-новой углубляюсь в письмишко Ерпалыча.
Мысль отдать листки Эре Гигантовне возникает несколько позже, и убедительностью эта мысль не обладает.
«Акт творения»(страницы 3-9)…Вот так я впервые и познакомился с сектантами Волшебного слова. Впрочем, к тому времени их почти никто не звал сектантами, особенно в кулуарах городского филиала НИИПриМ.
Института прикладной мифологии.
Через неделю приглашают меня на Космическую 28, в этот самый ПриМ, к трем часам дня. Попросили рукопись почитать – дескать, знают, что я в часы досуга литературкой балуюсь, и намереваются издать. Ничего, что не по профилю, ничего, что у них не издательство, зато лицензия есть. Вы только не удивляйтесь, Алик, но я тогда вроде вас был, графоманил помаленьку. Целый романище нарисовал. Финал один остался. Разве что вы с «Быка в Лабиринте» начали, а меня с самого начала на Геракле зациклило. Павшие там всякие, жертвы, Семья Олимпийская… Одно удивительно, Алик: с такой скудной подготовкой, как у вас, прийти к сходным взглядам на Элладу ХIII-го века до нашей эры можно было лишь… одно скажу – талант! Матерый вы человечище!.. не обижайтесь, шучу. Короче, почитали в ПриМе мое бумагомаранье, посетовали, что не до конца дописано, поговорили со мной по душам и работу предложили. Завалили по уши всякими Аполлодорами, Павсаниями, Ферекидами, Диодорами Сицилийскими в ассортименте; а от меня требовалось – «сумасшедшие допуски и сумасшедшие выводы»! Комнату мне выделили, то бишь кабинет, компьютер поставили. Меня еще удивляло поначалу – какого рожна я, словоблуд-эллинист, им занадобился? Потом уже понял: синтетиков у них не хватало. Информации валом, а непредвзятых голов, которые способны на любое безумное допущение, на синтез несовместимого – этого не было.
Забегая вперед, добавлю: книжку мне они-таки издали. Гонорар выдали, неплохой гонорар по тем временам, впридачу десять авторских экземпляров, которые я за три дня друзьям раздарил… Спрашивал: почему в нашем городе книга не продается? Сказали, что книготорговцы весь тираж увезли за кудыкины горы, где цены выше. И то дело – не отвечать же мне, дураку, что десятью экземплярами все издание и ограничилось! Не для того Молитвина Иеронима Павловича на работу брали…
Отдел, по ведомству которого я числился и даже зарплату получал, назывался «МИР». В смысле «МИфологическая Реальность». Не самая удачная аббревиатура, но сойдет. Слыхал я, хотели сперва «Мифрел» назвать, но у одного британского профессора уже похожее слово проскальзывало.
Решили, видимо, что нашим осинам дубы Ее Величества – не указ.
Приятель мой, что телевизор умасливал, там же вкалывал. Он мне и поведал (после того, как взяли с меня подписку о неразглашении), каким образом в нашем городе окопалась секта Волшебного слова. Прорвало в середине 90-х городские очистные сооружения. Город почти все лето без воды, эпидемия грозит – тут дюжина отчаянных голов и решила: прадеды, когда с озером нелады, шли на поклон к водянику, когда с домом проблемы, домовому кланялись, если в лесу беда, лешему мед или там девок носили-водили… Отчего не попробовать? Термин придумали: болевые точки окружающей среды. Вроде иглоукалывания. Для них леший не леший, а персонифицированная активизация саморегулятора лесомассива, воздействовать на которую путем локальных приношений… Не пугайтесь, Алик, я дальше не буду, самому больно было всю эту дребедень слушать. Поначалу не выходило ничего, хоть полдома баклажаном измажь, а там глядь – сперва по мелочам, дальше больше: канализация фурычит, электроприборы на «ять», про ремонт квартир и думать забыли!
Вот так впервые к Тем и достучались; я имею в виду – к городским Тем, поскольку к Тем природным пращуры наши достучались еще во время оно.
Достучались – и в конечном счете угробили практически всех.
Только не считайте, что наши с вами соотечественники самые умные. Секте Волшебного слова, как я понял, еще на тот день лет сорок было, не меньше. И ареал распространения – широчайший. От черных кварталов Чикаго (этим жизненный прагматизм еще не всю веру в Вуду вытравил) до неоновых реклам Токио, где не раз в канализации видали водяного-каппу с темечком, полным воды. Просто помалкивают они: кому охота рай обетованный на психушку менять?!
И удивляться не стоит. Город – он ведь тоже среда, вроде природной… чем мы хуже предков? Тем, что умнее? Так поглупеть – дело недолгое! Оглянись, горожанин: кругом свои скалы и озера, свои солнце и звезды, свои засухи и наводнения! Нарушили баланс – и загнулись! Причем никакого самовосстановления, как в природе, не наблюдается, и даже наоборот! Приходится все время поддерживать нормальный режим существования, быть рабом среды, пахать на нее, родимую… Познакомился я там с одним старичком, из профессоров кислых щей, тема у него была – «Акт творения». Он мне и рассказал, что в классических мифологиях актов творения мира фактически два: глобальный и локальный, вторичный. Первый, абстрактный – это когда мышка бежала, хвостиком махнула, Яйцо Брамы и раскололось; или там Небо с Землей инцесты почем зря крутят. Второй акт, конкретный – это уже потопы, извержения, род людской на краю гибели и начинает все сызнова. Умный был старичок, дотошный, одного понять не мог: почему у тех замов-завов, кто его работу курировал, выправка армейская? Очень уж его это дело волновало… а еще его волновало, что если момент превращения крупных мегаполисов в окружающую среду, аналогичную природной, можно считать первым Актом творения (мир, в котором можно жить, созданный конкретным Творцом(ами) – остальное сути не меняет); то когда и каким образом произойдет второй Акт нашей драмы?
Я же интерес его считал исключительно умозрительным, под чаек из термоса.
Он мне и позвонил, когда Большая Игрушечная шарахнула. Только и успел в трубку крикнуть:
– Акт творения! Ах, сволочи…
Это потом, Алик, все свалили на террористов. Будто бы игра такая была у подростков: игрушечные бомбы по городу прятать и с электронным детектором искать потом и обезвреживать – а проклятые террористы в дюжину-другую бомбочек краденого урану напихали! Действительно, была такая игра, модная до чрезвычайности, пацанва с ума сходила, да и бомбочки безопасные были – пшикнет фейерверком, и все!
Может, и террористы.
А мне все думается, что прав был старичок: эксперимент над нами поставили, Алик! Второй Акт творения в одном, отдельно взятом за задницу, городе! Уцепить обывателя за шкирку, как неразумного кутенка, сунуть за грань выживания и заставить искренне, истошно, до поросячьего визгу поверить в Тех пополам со святцами, ибо больше верить не во что. Своими-то силами городскую инфраструктуру нипочем не восстановить, у правительства в амбарах шаром покати, а на переезд в другой город не у каждого деньжата найдутся! Вы вот, возможно, уже плохо помните, а я как сейчас вижу: весь квартал в руинах, местами радиацией трещит-подмигивает, а в одном-разъединственном доме и свет тебе, и вода горячая, и отопление, и развлекательное шоу по телевизору! Тут уж во что хочешь поверишь! И всех дел – мольбы вовремя возноси да жертвуй исправно! Жми на болевые точки среды и заставляй саму себя лечить!
Православная церковь у нас первой поняла, что значит истинная вера высшей пробы, особенно когда мольба подтверждается сиюминутным результатом, и результат можно пощупать, потрогать и в рот сунуть. В самом скором времени на газовых плитах объявились «алтарки», в продаже возникли справочники со сноской внизу, прямо на обложке: «Какому святому в каких случаях следует молиться»… Алик, до смешного доходило, до курьезов! Вы вот не помните, а мне доводилось видеть и такие абзацы: «XXXVII. Кто идет в лес или лесопосадку. Взывать к царю Соломону (до Р.Х.) – и поможет тебе. (Молит. 228)». И взывали: туристы кросс вдоль березнячка чешут и хором:
– Царю Соломоне, премудрый бывый, охрани мя от гнуса болотного, от растяжения связок…
Ладно, не будем прошлое ворошить.
Мы ведь до сих пор на карантине, Алик, вся область закрыта. Негласно, правда. Эмигрировать из города можно: отец ваш уехал, и мои некоторые знакомые – ведь о жизни нашей кому рассказать, никто не поверит; зато приехать к нам далеко не всякий сумеет. Сейчас это и не особо важно: те, кто к моменту Большой Игрушечной только взрослеть начинал, вроде вас и младше, в любом нормальном городе жить и не сумеют! Куда вам ехать?! Вы к кентаврам привыкли, к лотерейным молебнам по графику, к заговорам от короткого замыкания! Вас ночью подыми с постели, вы наизусть, как попка, отбарабаните, кому за что свечка положена: Луке-евангелисту (кто идет в огород садить), мученику Вонифатию (исцеление от запоя), святителю Митрофану (в заботе о должности)… Я прав?! Вам моя центральная квартирка с плитой без «алтарки» уже странной кажется, а в другом-каком городе все квартирки, все плиты пока что такие! Ведь все живут в реальности обыденной, а мы с вами примерно десятилетие живем в реальности мифологической! Другие законы, другие правила игры, другой образ существования и со-существования! Нам Минотавр какой-нибудь или там трудоустроенный утопец из горводслужб понятней, чем брат родной, живущий за пару сотен километров от нашего города! Ведь в любом нормальном месте любой нормальный человек отчетливо представляет, что вокруг только Эти; а у нас и Эти, и Те! Мы даже не замечаем, что у нас город навыворот! Ну вот мы и пришли к самому главному.
Кое-что мне мой старичок еще тогда…
…И вдруг мои сумбурные чтения в «кабинете задумчивости», совмещенном с ванной комнатой, были прерваны самым неожиданным образом.
Кафельная плитка на стене справа от меня начала вспучиваться, словно даже плавиться, и из нее высунулась жилистая склизкая ручища с обломанными ногтями. Лапа эта попыталась за что-нибудь ухватиться, я отшатнулся, не успев еще испугаться – и тут толстые пальцы вцепились в трубу, ручища напряглась, и из стены выбрался тощий голый человек со спутанной гривой бесцветных волос.
Выбрался и в упор воззрился на меня.
Нет, не человек.
Исчезник.
Тот, что в стене сидит.
– Абрамыч, – сказал исчезник, пришепетывая и воровато озираясь. – Здорово, Абрамыч.
– Здорово, – машинально отозвался я, чувствуя себя, мягко выражаясь, не в своей тарелке: сижу, понимаешь, на унитазе со спущенными штанами и с исчезником лясы точу!
И кукиш ему в рыло ткнул: для налаживания контакта.
Зад-то и так у меня голый, чего уж дальше заголять?!
– Ты вот что, Абрамыч, – забормотал исчезник, не обращая ни малейшего внимания на приветственный кукиш, а также на мой непрезентабельный вид, – ты это, значит… Не ищи ты старикашку, ладно? Забудь. Дрянной он старикашка! Совсем дрянной. Хуже некуда.
Он подумал и поправился:
– Есть куда. Станешь его искать, разговоры ненужные разговаривать – тебе, Абрамыч, ой, куда хуже будет! Живот не болит? Очень болеть станет. И не только живот.
В дверь что-то заскреблось – и тут же в коридоре раздался оглушительный лай.
Исчезник дернулся, отскочил поближе к стене, присел на корточки, в упор глядя на меня пронзительными немигающими глазищами без зрачков… Неуверенный он какой-то был. Неправильный. Уж больно смахивал на воришку, которого вот-вот поймают на горячем.
Снаружи послышались возбужденные голоса, пес лаял не переставая, и почти сразу громыхнул Риткин бас:
– Алька, с тобой все в порядке?
– Думай, Абрамыч, – исчезник наполовину втиснулся в стену, облизал черным языком края безгубого рта. – Крепко думай. Чаще в нужники ходи.
И исчез.
Бесследно.
Как и положено исчезнику.
В следующую секунду дверь с грохотом и треском распахнулась, отлетевшая задвижка, чуть не выбив мне глаз, срикошетила от крышки мусорного ведра и булькнула в таз с водой, забытый Идочкой в ванне.