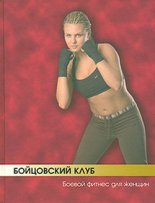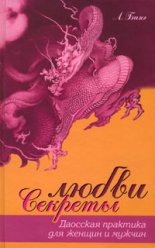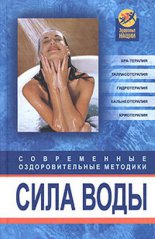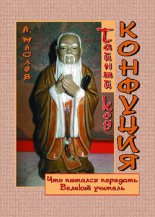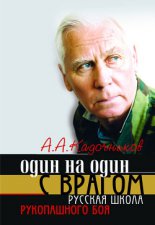ГУЛАГ Эпплбаум Энн

© Anne Applebaum, 2003
© Л. Мотылев, перевод на русский язык, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015
© Издательство CORPUS, 2015
* * *
Посвящается тем, кто поведал о пережитом
В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то “опознал” меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):
– А это вы можете описать? И я сказала:
– Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.
Анна АхматоваРеквием. 1935–1940. Вместо предисловия
От автора
Никакую книгу нельзя, строго говоря, считать произведением одного лица, но эту книгу поистине невозможно было бы написать без практического, интеллектуального и философского содействия многих людей, одни из которых принадлежат к числу моих ближайших друзей, других я никогда в жизни не видела. Хотя благодарность авторам, которых давно нет на свете, может выглядеть не совсем естественно, я хотела бы подчеркнуть особую роль небольшой, но замечательной группы переживших лагеря людей, чьи мемуары я в ходе работы читала и перечитывала. Многие бывшие заключенные оставили глубокие и яркие воспоминания о пережитом, однако неслучайно эта книга изобилует цитатами из Варлама Шаламова, Исаака Фильштинского, Густава Герлинга-Грудзинского, Евгении Гинзбург, Льва Разгона, Януша Бардаха, Ольги Адамовой-Слиозберг, Анатолия Жигулина, Александра Долгана и, конечно, Александра Солженицына. Некоторые из этих людей принадлежат к числу самых знаменитых бывших узников ГУЛАГа. Другие менее известны – но у всех есть одна общая черта. Из сотен мемуаров, которые я прочла, их воспоминания выделяются не только литературным талантом, но и способностью проникать под поверхность повседневного ужаса и выявлять глубокие человеческие истины.
Я также более чем благодарна тем москвичам, что водили меня в архивы, организовывали для меня встречи с бывшими заключенными и одновременно знакомили меня со своими интерпретациями прошлого. Первыми хочу назвать архивиста и историка Александра Кокурина, которому, я надеюсь, когда-нибудь отдадут должное как первопроходцу новой российской исторической науки, а также Галину Виноградову и Аллу Борину, способствовавших осуществлению этого проекта с необычайным рвением. На разных этапах работы большую пользу принесли мне беседы с Анной Гришиной, Борисом Беленкиным, Никитой Петровым, Сусанной Печуро, Александром Гурьяновым, Арсением Рогинским и Натальей Малыхиной из московского “Мемориала”; с Семеном Виленским, председателем общества “Возвращение”; а также с Олегом Хлевнюком, Зоей Ерошок, профессором Натальей Лебедевой, Любовью Виноградовой и Станиславом Грегоровичем, в прошлом работавшим в польском посольстве в Москве. Я, кроме того, чрезвычайно благодарна многим людям, позволившим мне взять у них подробные интервью. Их имена перечислены в отдельном списке в библиографии.
Вне Москвы неоценимую помощь оказали мне многие специалисты, с готовностью согласившиеся отложить все дела и уделить немало времени иностранке, которая иногда появлялась без всякого предупреждения и задавала наивные вопросы о том, чему они посвятили годы исследовательского труда. В их числе – Николай Морозов и Михаил Рогачев (Сыктывкар), Евгения Хайдарова и Люба Петрова (Воркута), Ирина Шабулина и Татьяна Фокина (Соловки), Галина Дудина (Архангельск), Василий Макуров, Анатолий Цыганков и Юрий Дмитриев (Петрозаводск), Виктор Шмыров (Пермь), Леонид Трус (Новосибирск), Светлана Доинисина, директор местного исторического музея в Искитиме, Вениамин Иофе и Ирина Резникова (“Мемориал”, Санкт-Петербург). Особую благодарность хочу выразить сотрудникам Архангельской краеведческой библиотеки. Некоторые из них, помогая мне понять историю региона, потратили целый день – просто потому, что сочли это важным.
В Варшаве огромную пользу принесли мне библиотека и архив центра КАРТА, а также разговоры с Анной Дзенкевич и Доротой Пазио. В Вашингтоне в библиотеке Конгресса мне помогли Дэвид Нордлендер и Гарри Лич. Я чрезвычайно благодарна Елене Дэниелсон, Томасу Хенриксону, Лоре Сороке и особенно Роберту Конквесту из Гуверовского института. Итальянский историк Марта Кравери в огромной мере способствовала моему пониманию истории лагерных восстаний. Разговоры с Владимиром Буковским и Александром Яковлевым прояснили мое представление об эпохе после смерти Сталина.
Я в особом долгу перед Фондом Линды и Гарри Брэдли, Фондом Джона М. Олина, Гуверовским институтом, Фондом Мерит и Ганса Раузинг, а также Джоном Бланделлом из Института экономики за финансовую и моральную поддержку.
Я хотела бы, кроме того, поблагодарить друзей и коллег, дававших мне советы в процессе работы над книгой – советы как практического, так и исторического характера. В их числе – Энтони Бивор, Колин Тербон, Стефан и Данута Вайденфельд, Юрий Моруков, Пауль Хофхайнц, Эмити Шлез, Дэвид Нордлендер, Симон Хеффер, Крис Джойс, Алессандро Миссир, Терри Мартин, Александр Грибанов, Петр Пачковский, Орландо Файджес и, наконец, Радек Сикорский, чей министерский портфель принес очень большую пользу. Особая благодарность – Джорджу Борхардту, Кристине Пуополо, Джерри Хауарду и Стюарту Профиту, просмотревшим книгу на конечной стадии работы.
И напоследок за дружбу, за мудрые замечания, за гостеприимство и хлебосольство я благодарю Кристиана и Наташу Карил, Эдуарда Лукаса, Юрия Сенокосова и Елену Немировскую, у которых я чудесно провела время в Москве.
Предисловие
Александр Твардовский.По праву памяти
- И за одной чертой закона
- Уж е равняла всех судьба:
- Сын кулака иль сын наркома,
- Сын командарма иль попа…
- Клеймо с рожденья отмечало
- Младенца вражеских кровей.
- И все, казалось, не хватало
- Стране клейменых сыновей.
Эта книга – история ГУЛАГа, обширной сети лагерей принудительного труда, покрывавшей в свое время Советский Союз во всю его протяженность и ширь, от островов Белого моря до берегов Черного, от Северного полярного круга до равнин Средней Азии, от Мурманска и Воркуты до Казахстана, от центра Москвы до пригородов Ленинграда. ГУЛАГ означает “Главное управление лагерей”, но со временем под этим словом стали понимать не только административный орган, управлявший концлагерями, но и саму советскую систему рабского труда во всех ее формах и разновидностях: “исправительно-трудовые” лагеря, штрафные лагпункты, лагеря для уголовников и политических, женские, детские, пересыльные лагеря и так далее. В еще более широком смысле ГУЛАГ стал означать советскую репрессивную систему в целом – то, что заключенные называли “мясорубкой”: аресты, допросы, перевозку в холодных “столыпинских” или “телячьих” вагонах, подневольный труд, разрушение семей, годы ссылки, раннюю смерть.
У ГУЛАГа была предшественница в царской России – система принудительного труда, действовавшая в Сибири с XVII до начала XX века. Более современную и известную форму ГУЛАГ принял почти сразу же после революции 1917го, став неотъемлемой частью советской системы. С самого начала революция развязала массовый террор в отношении реальных и мнимых противников, и уже летом 1918 года Ленин потребовал, чтобы “сомнительных” помещали в концентрационные лагеря близ крупных городов. Были арестованы многие дворяне, коммерсанты и другие потенциальные “контрреволюционеры”. В 1921 году в 34 губерниях уже действовало 84 лагеря, главным образом предназначенных для “перевоспитания” этих первых “врагов народа”.
С 1929 года лагеря стали играть новую роль. Сталин решил использовать принудительный труд для ускоренной индустриализации страны и для разработки полезных ископаемых малообитаемого севера. В том же году контроль над сетью советских иправительных учреждений начал переходить к системе госбезопасности, которая постепенно вывела все лагеря и тюрьмы страны из ведения органов юстиции. Лагеря вступили в период бурного роста, которому способствовали массовые аресты 1937 и 1938 года. К концу 1930х лагеря уже были в каждом из двенадцати часовых поясов Советского Союза.
Вопреки распространенному заблуждению, ГУЛАГ расширялся и позднее, во время Второй мировой войны и после нее, и достиг высшей точки развития в начале 50х. К тому времени лагеря стали играть существенную роль в советской экономике. Они производили треть всего золота страны, значительную часть угля и леса и многое, многое другое. За годы существования СССР возникло по меньшей мере 476 различных лагерных комплексов, в них входили тысячи отдельных лагерей, в каждом из которых содержалось от нескольких сот до многих тысяч заключенных[1]. Лагерники работали почти в каждой отрасли хозяйства: заготавливали лес, добывали полезные ископаемые, строили, трудились на фабриках и на полях, проектировали самолеты, пушки – и жили по существу в некой стране внутри страны, почти что в другой цивилизации. ГУЛАГ выработал особые законы и обычаи, особую мораль и даже особый жаргон. Он породил свою литературу, своих злодеев, своих героев и на всех, кто через него прошел, будь то заключенные или охранники, оставил свое клеймо. Спустя годы после освобождения бывшие узники ГУЛАГа нередко узнавали собратьев в случайных прохожих просто “по глазам”.
Такие встречи происходили часто: “оборачиваемость” лагерного контингента была высока. Постоянно кого-то арестовывали и кого-то освобождали. Заключенных выпускали, потому что кончался срок, потому что их брали в Красную армию, потому что они становились инвалидами или матерями, потому что их переводили в охранники. В результате суммарное количество заключенных в лагерях обычно составляло примерно два миллиона, но полное число советских граждан, прошедших лагерь по политической или уголовной статье, намного выше. С 1929 года, когда ГУЛАГ стремительно пошел в рост, по 1953й, когда умер Сталин, согласно самым точным оценкам, какие только можно было сделать, через эту грандиозную систему прошло около восемнадцати миллионов человек. Еще примерно шесть миллионов были отправлены в ссылку, депортированы в казахские степи или сибирскую тайгу. Лишенные права покидать свои поселения, эти люди тоже были подневольными работниками, пусть даже они и не жили за колючей проволокой[2].
Как система массового принудительного труда, включавшая в себя миллионы людей, лагеря исчезли со смертью Сталина. Хотя он всю жизнь считал, что ГУЛАГ имеет решающее значение для экономического роста страны, его политические наследники хорошо понимали, что на самом деле лагеря – это источник отсталости и крайне неэффективный способ хозяйствования. Спустя считаные дни после смерти Сталина его преемники начали демонтировать систему лагерей. Процессу придали ускорение три крупных лагерных восстания и множество более мелких, но тоже опасных инцидентов.
Тем не менее лагеря не исчезли полностью. Они эволюционировали. В 1970е и в начале 1980х некоторые из них были переоборудованы и использовались для содержания под стражей нового поколения демократических активистов, антисоветски настроенных националистов – и, конечно, уголовников. Благодаря советским диссидентам и международному движению защитников гражданских прав сведения о лагерях после Сталина регулярно просачивались на Запад. Постепенно эти лагеря начали играть роль в дипломатии времен холодной войны. Даже в 1980е годы Рональд Рейган и Михаил Горбачев все еще обсуждали лагерную тему. Только в 1987 году Горбачев, который сам был внуком узника ГУЛАГа, приступил к полной ликвидации советских лагерей для политзаключенных.
Но хотя они существовали так же долго, как Советский Союз, и хотя через них прошли многие миллионы людей, подлинная история советских концлагерей была до недавних пор малоизвестна. В некоторых отношениях она малоизвестна и сейчас. Даже приведенные выше сухие факты, хотя большинство нынешних западных исследователей советской истории с ними знакомо, еще не стали частью массового западного сознания. “Человеческое знание, – писал Пьер Ригуло, французский историк коммунистического движения, – накапливается не так, как руками каменщика возводится стена, неуклонно, кирпич за кирпичом. Его развитие, как и его застой или откат, зависит от социальных, культурных и политических условий”[3].
Могу утверждать, что доныне социальных, культурных и политических условий для знания о ГУЛАГе не было.
Я впервые почувствовала это несколько лет назад в новой демократической Праге, на Карловом мосту – это одна из главных достопримечательностей города. Вдоль моста расположились уличные музыканты и торговцы, на каждом шагу кто-нибудь продавал то самое, что ожидаешь увидеть на лотках в таком живописно-сувенирном месте. Были выставлены картины с видами симпатичных улочек, бижутерия, брелоки для ключей с пражской символикой. Помимо прочего, можно было купить советские военные фуражки, знаки различия, пряжки, а еще значки с Лениным и Брежневым, которые советские школьники в прошлом прикалывали к форме.
Я была поражена. Атрибуты советской власти покупали главным образом американцы и западноевропейцы. Никому из них и в голову не пришло бы носить футболку или фуражку со свастикой. А вот с серпом и молотом – запросто. Мелочь, конечно, но порой в таких мелочах лучше всего проявляются культурные тенденции. Стало яснее ясного: если символ одного массового смертоубийства наполняет нас ужасом, символ другого вызывает у нас смех.
Дефицит отвращения к сталинизму у туристов в Праге отчасти объясняется дефицитом образных представлений о нем в западной массовой культуре. Холодная война породила Джеймса Бонда, триллеры и карикатурных русских из фильмов о Рэмбо, но она не создала ничего столь же масштабного, как “Список Шиндлера” и “Выбор Софи”. Стивен Спилберг (видимо, ведущий режиссер Голливуда, нравится это вам или нет) снял фильмы о японских концлагерях (“Империя солнца”) и о нацистских, но не о сталинских концлагерях. Последние не воспламенили в такой же степени голливудское воображение.
Элитарная культура тоже не проявила к этой теме большого интереса. Репутация немецкого философа Мартина Хайдеггера сильно пострадала от его недолгой поддержки нацизма в то время, когда Гитлер еще не совершил своих главных преступлений. Однако репутации французского философа Жана-Поля Сартра нисколько не повредила его активная поддержка сталинизма в послевоенные годы, когда многочисленные свидетельства о преступлениях Сталина уже были доступны любому желающему. “Мы не состояли в партии, – утверждал он, – и поэтому не считали, что должны писать о советских трудовых лагерях. Если не происходило социологически значимых событий, мы имели право оставаться в стороне от споров по поводу природы системы”[4]. “Как и вам, мне не нравятся эти лагеря, – сказал он Альберу Камю. – Но мне в равной степени не нравится то, как ежедневно играет на этой теме буржуазная печать”[5].
После краха советской системы в чем-то положение изменилось. Например, английского писателя Мартина Эмиса тема Сталина и сталинизма взволновала настолько, что он посвятил ей целую книгу, вышедшую в 2002 году. Его работа заставила других писателей задаться вопросом: почему эту тему так редко затрагивали левые политики и литераторы?[6] В чем-то, однако, умонастроения остались прежними. И сейчас американский ученый может выпустить книгу, где утверждается, что чистки 1930х годов были полезны, потому что повысили вертикальную мобильность в советском обществе и тем самым подготовили почву для перестройки[7]. И сейчас английский редактор литературного издания может отвергнуть статью на том основании, что она “слишком антисоветская”[8]. Впрочем, куда более обычная реакция на сталинский террор – скука и безразличие. В одной рецензии на мою книгу о западных республиках бывшего Советского Союза в 1990е годы говорится: “Здесь свирепствовал убийственный голод 1930х годов, когда Сталин уничтожил больше украинцев, чем Гитлер евреев. Но многие ли на Западе об этом помнят? В конце концов, смертоубийство было здесь таким… таким обыденным делом, лишенным всякого видимого драматизма”[9].
Все это, конечно, частности: торговля сувенирами, репутация философа, наличие или отсутствие голливудских фильмов на данную тему. Но, взятые вместе, они кое о чем говорят. На интеллектуальном уровне американцы и западноевропейцы знают, что произошло в Советском Союзе. Лагерный рассказ Александра Солженицына “Один день Ивана Денисовича” был опубликован на Западе на нескольких языках в 1962–1963 годах и получил широкое признание. Его основанная на устных свидетельствах история лагерей “Архипелаг ГУЛАГ” вышла, опять-таки на нескольких языках, в 1973 году и бурно обсуждалась. Поистине эта книга совершила в некоторых странах своего рода интеллектуальную революцию, особенно во Франции, где многие левые, прочитав ее, перешли на антисоветские позиции. В 1980е годы, в период “гласности”, было сделано немало новых разоблачений о ГУЛАГе, и они тоже стали за границей достоянием широкой общественности.
У многих, однако, преступления Сталина не вызывают такого же физического отвращения, как преступления Гитлера. Кен Ливингстон, бывший депутат британского парламента, а ныне мэр Лондона, однажды попытался объяснить мне разницу. Нацизм, сказал он, был “злом”. А советская система – результат “деформации”. Этот взгляд отражает ощущения большого числа людей, в том числе тех, кого нельзя назвать закоснелыми леваками: Советский Союз просто каким-то образом сбился с пути, он не был фундаментально, изначально порочен в таком же смысле, в каком была порочна гитлеровская Германия.
До недавних пор это массовое безразличие к трагедии европейского коммунизма можно было объяснять стечением обстоятельств. В их числе – фактор времени: с годами коммунистические режимы стали не такими страшными. Никто особенно не боялся ни генерала Ярузельского, ни даже Брежнева, хотя оба наделали немало бед. Другая причина – отсутствие надежной информации, подкрепленной архивными данными. Малое количество исследовательских работ на эту тему в течение долгих лет объясняется скудостью источников. Архивы были закрыты. К местам лагерей никого не пускали. Ни они, ни их жертвы не были сняты на кинопленку, как немецкие лагеря и их узники в конце Второй мировой войны. Меньше зрительных образов – меньше понимания.
Но идеология тоже мешала нам понять советскую и восточноевропейскую историю[10]. В 1930е годы и позднее часть западных левых пыталась объяснить и порой оправдать лагеря и породивший их террор. В 1936 году, когда миллионы советских крестьян уже находились в лагерях или ссылке, британские социалисты Сидней и Беатриса Вебб опубликовали большую книгу о Советском Союзе, где, помимо прочего, рассказывалось, как “забитый русский крестьянин постепенно обретает чувство политической свободы”[11]. Во время московских показательных процессов, когда Сталин по своему произволу отправил в лагеря тысячи ни в чем не повинных членов партии, драматург Бертольт Брехт сказал философу Сидни Хуку: “Чем меньше они виноваты, тем больше заслуживают смерти”[12].
Но даже и в 1980е годы некоторые исследователи еще рассуждали о преимуществах восточногерманского здравоохранения и о польских мирных инициативах, некоторые левые активисты еще недоумевали, почему поднят такой шум из-за диссидентов, сидящих в восточноевропейских тюрьмах и лагерях. Причина, возможно, в том, что и западные левые, и советские идеологи считали себя последователями Маркса и Энгельса. Лексикон был тоже отчасти общий: народные массы, классовая борьба, пролетариат, эксплуататоры и эксплуатируемые, собственность на средства производства. Последовательно осудить Советский Союз значило до некоторой степени осудить то, что в свое время было дорого многим западным левым.
Не только крайние левые и не только западные коммунисты испытывали искушение оправдывать сталинские преступления в такой мере, в какой никогда не стали бы оправдывать гитлеровские. Коммунистические идеалы – социальная справедливость, равенство – вообще куда более популярны на Западе, чем нацистская проповедь расизма и торжества сильного над слабым. Пусть даже коммунистическая практика очень сильно расходилась с идеологией, интеллектуальным наследникам американской и французской революций гораздо труднее было осудить систему, которая по крайней мерена словах походила на их собственную. Может быть, из-за этого люди, которые не сомневались в истинности свидетельств Примо Леви и Эли Визеля о Холокосте, зачастую с порога отвергали свидетельства о ГУЛАГе или преуменьшали их значение. Кроме того, со времен коммунистического переворота к услугам всех желающих была официальная информация о советских лагерях; знаменитая советская книга о Беломорканале была даже переведена на английский. Простым неведением не объяснить тот факт, что западные интеллектуалы предпочитали обходить эту тему.
Западные правые, со своей стороны, осуждали советские преступления, но иной раз методы, которые они использовали, только вредили делу. Человеком, причинившим наибольший вред антикоммунизму, несомненно, был американский сенатор Джо Маккарти. Хотя недавно опубликованные документы показывают, что некоторые его обвинения были справедливы, результат начатого им чрезмерно рьяного преследования “коммунистов” в американском обществе от этого не меняется: в конечном итоге его публичные “суды” над лицами, сочувствующими коммунизму, дискредитировали антикоммунизм, придав ему оттенок шовинизма и нетерпимости[13]. Его нападки послужили делу беспристрастного исторического исследования не лучше, чем высказывания его противников.
Впрочем, не все в нашем отношении к советскому прошлому связано с политической идеологией. Многое здесь – побочный продукт наших все менее четких представлений о Второй мировой войне. Мы сейчас твердо убеждены, что Вторая мировая была во всех ее эпизодах справедливой войной, и мало кто подвергает это сомнению. Мы помним день высадки союзников во Франции, помним освобождение нацистских концлагерей, помним детей, восторженно встречающих на улицах американских солдат. Никто не хочет слышать о том, что у победы была и другая, теневая сторона, что Сталин, наш союзник, расширял свои концлагеря в то самое время, когда освобождались концлагеря Гитлера. Признать, что, насильственно возвращая после войны тысячи русских на родину, где их ждала смерть, и обрекая в Ялте миллионы людей на советское владычество, западные союзники стали пособниками преступлений против человечества, значило бы сделать наши представления о той эпохе не такими безоблачными в нравственном смысле. Никто не хочет думать о том, что мы победили одного убийцу миллионов рука об руку с другим. Никто не хочет помнить о том, как отлично поладили с этим убийцей западные политики. “Я очень симпатизирую Сталину, – признался однажды Энтони Иден, британский министр иностранных дел. – Он ни разу не нарушил слова”[14]. Сохранилось очень много фотографий Сталина, Рузвельта и Черчилля – все трое рядом, все трое улыбаются.
И наконец, делала свое дело советская пропаганда. Например, сарания советских властей бросить тень на сочинения Солженицына, представить его сумасшедшим, антисемитом, пьяницей приносили определенные плоды[15]. Советское давление на западных исследователей и журналистов влияло на направленность их работы. В 1980е годы, когда я студенткой изучала в Соединенных Штатах российскую историю, знакомые отговаривали меня продолжать занятия этим предметом в аспирантуре, ссылаясь на специфические трудности: в то время специалисты, отзывавшиеся о Советском Союзе положительно, получали лучший доступ к архивам и официальной информации, им разрешали дольше оставаться в стране. В противном случае тебе грозило выдворение и прочие профессиональные трудности. И, разумеется, никто из посторонних не имел доступа к каким бы то ни было материалам о лагерях при Сталине и после него. Этой темы просто не существовало, и тех, кто совал нос не в свое дело, живо выпроваживали из страны.
В совокупности все эти объяснения были достаточно убедительны – убедительны в отношении недавнего прошлого. Когда я впервые начала серьезно думать на эти темы (шел 1989 год, социалистическая система рушилась), я сама признала их убедительность: казалось естественным, неизбежным, что я так мало знаю о сталинском Советском Союзе, чья тайная история интриговала своей загадочностью. Теперь, спустя десять с лишним лет, мои ощущения стали совсем иными. Вторая мировая война уже стала достоянием предыдущего поколения. Холодная война тоже окончена, и порожденные ею союзы и международные линии раздела навсегда ушли в прошлое. Правые и левые на Западе теперь спорят о другом. Вместе с тем возникновение новых террористических угроз западной цивилизации делает изучение старых коммунистических угроз еще более важным.
Иными словами, “социальные, культурные и политические условия” теперь изменились, как и условия нашего доступа к информации о лагерях. В конце 1980х в Советском Союзе эпохи Горбачева материалы о ГУЛАГе пошли потоком. Рассказы о жизни в советских концлагерях впервые стали печататься в газетах. Журналы с новыми разоблачениями выходили огромными тиражами. Возобновились былые споры о цифрах – сколько погибло, сколько было арестовано. Российские историки и исторические общества, и в первую очередь общество “Мемориал” в Москве, начали публиковать исследовательские монографии, истории отдельных лагерей, жизнеописания узников, оценки числа пострадавших, списки погибших. Их усилия вызвали отклик и получили поддержку: в работу включились историки в бывших советских республиках и в странах распущенного Варшавского договора, а немного позднее – и западные историки.
Вопреки многим трудностям это российское исследование советского прошлого продолжается и сегодня. Да, первое десятилетие XXI века очень сильно отличается от последних десятилетий XX века, и история уже не является в России главным предметом внимания и обсуждения; к тому же она утратила былую сенсационность. Большая часть исторической работы, которую ведут российские и иностранные исследователи, – это кропотливая рутина, просеивание тысяч документов, долгие часы на сквозняках в холодных архивах, дни, потраченные на уточнение фактов и цифр. Но эта работа начинает приносить плоды. Неспешно и терпеливо “Мемориал” не только составил первый справочник названий и местоположения всех известных лагерей, но и выпустил ряд новаторских исторических книг и собрал громадный архив устных и письменных рассказов бывших заключенных. Наряду с другими организациями – Музеем им. А. Сахарова и издательством “Возвращение”, “Мемориал” сделал некоторые из этих воспоминаний достоянием общественности. Российские академические журналы и издательства отдельных организаций тоже начали печатать монографии, основанные на новых документах, и сборники документов как таковых. Подобная работа ведется и в других странах – в первую очередь Центром КАРТА в Польше, но также и историческими музеями в Литве, Латвии, Эстонии, Румынии, Венгрии и некоторыми американскими и западноевропейскими учеными, решившими потратить время и силы на работу в советских архивах.
Работая над этой книгой, я опиралась на результаты их труда, а также на два других типа источников, с которыми еще десять лет назад нельзя было ознакомиться. Во-первых, это поток новых мемуаров, которые в 1980е годы начали издаваться в России, Америке, Израиле, Восточной Европе и других местах. В этой книге я широко их использовала. В прошлом некоторые исследователи советской истории не слишком склонны были опираться на воспоминания о ГУЛАГе, указывая на то, что советские мемуаристы переиначивали свои воспоминания по политическим причинам, что большая часть мемуаров писалась через много лет после освобождения их авторов, что многие, когда их подводила память, заимствовали сведения друг у друга. Однако, прочитав несколько сотен воспоминаний о лагерях и взяв интервью у двух десятков старых лагерников, я почувствовала, что могу отбраковывать недостоверное, заимствованное и политизированное. Я почувствовала также, что, хотя на воспоминания и нельзя вполне положиться в отношении имен, дат и цифр, они тем не менее служат бесценным источником данных другого рода, в особенности сведений о важнейших сторонах лагерной жизни: об отношениях заключенных друг с другом, о вражде между группами, о поведении охраны и администрации, о роли коррупции и даже о любви в лагерях. Я сознательно почти не опиралась на художественную литературу – исключение составляет проза Варлама Шаламова, чьи рассказы о лагерной жизни основаны на подлинных событиях.
Помимо мемуаров, я старалась как можно шире использовать архивы. Что парадоксально, эту категорию источников многие недолюбливают. Читателю этой книги станет ясно: мощь советской пропаганды была такова, что она сплошь и рядом совершенно изменяла восприятие действительности. Поэтому в прошлом историки были правы, не доверяя официально публикуемым советским документам, которые зачастую сознательно предназначались для сокрытия истины. Но у секретных документов, доныне хранящихся в архивах, была иная роль. Чтобы управлять лагерями, администрация ГУЛАГа должна была вести определенную документацию. Москве необходимо было знать, что происходит на местах, люди на местах должны были получать директивы из центра, велась статистика. Я не утверждаю, что эти архивы содержат абсолютно достоверные сведения, – у бюрократов были свои резоны искажать даже самые обыденные факты, – но если подходить к архивным документам критически, они порой сообщают нам о лагерях то, чего нельзя найти в мемуарах. Самое главное – они помогают понять, зачем создавались лагеря, чего сталинский режим рассчитывал добиться подобными средствами.
Архивы, надо отметить, оказались гораздо более многообразными, чем можно было предположить, они показывают нам лагеря с многих точек зрения. Например, я получила доступ к архиву администрации ГУЛАГа, где хранятся отчеты органов прокурорского надзора, финансовые документы, донесения от начальников лагерей московскому руководству, сообщения о попытках побега, репертуары лагерных самодеятельных ансамблей. Все это находится в Государственном архиве Российской Федерации в Москве. Я также изучала стенограммы партийных собраний и документы из “особой папки” Сталина. С помощью российских историков я использовала некоторые документы из советских военных архивов и архивов лагерной охраны, где содержатся, например, списки вещей, которые арестованным разрешалось и не разрешалось брать с собой. Помимо московских, я получила доступ и к некоторым местным архивам (в Петрозаводске, Архангельске, Сыктывкаре, Воркуте и на Соловках), содержащим сведения о повседневной жизни в лагерях, а также к хранящимся в Москве архивам Дмитлага, чьи заключенные проложили канал Москва – Волга. Повсюду есть материалы о лагерном быте, бланки заказов, личные дела заключенных. Однажды мне показали объемистую часть архива небольшого лагпункта Кедровый Шор, входившего в состав заполярного Интлага, и вежливо предложили ее купить.
В совокупности все эти источники позволяют писать о лагерях по-новому. В этой книге мне уже не нужно было сталкивть версию горстки диссидентов с версией советского правительства. Мне не нужно было искать середину между мнением эмигрантов из СССР и официальным мнением властей. Вместо этого для описания событий я могла дать слово многим несхожим между собой людям – охранникам, сотрудникам “органов”, заключенным разных категорий, отбывавшим разные сроки в разное время. Эмоции и политика, которыми долго была проникнута историография советских концлагерей, не играют в этой книге существенной роли. Главное внимание в ней уделено опыту узников.
Эта книга – история советских концлагерей со времени их возникновения в годы большевистской революции, история их превращения в важную часть советской экономики, история частичного демонтажа лагерной системы после смерти Сталина. В этой книге говорится и о наследии ГУЛАГа: несомненно, порядки и обычаи, царившие в советских лагерях для политзаключенных и уголовников в 19701980е годы, развились непосредственно из порядков и обычаев предшествующей эпохи, и поэтому без последнего периода лагерная история была бы неполной.
В то же время я стремилась дать читателю представление о жизни в ГУЛАГе, и поэтому книга рассказывает о лагерях двумя способами. Первая и третья ее части построены хронологически. Они последовательно описывают эволюцию лагерей и их управления. Вторая часть посвящена лагерной жизни и построена по тематическому принципу. Большинство примеров и цитат в этой части относятся к 1940м годам, когда лагеря достигли высшей степени развития, однако нередко, нарушая хронологию, я обращалась и к временам более поздним и более ранним. Некоторые стороны лагерной жизни менялись с годами, и я сочла нужным объяснить, как это происходило.
Сказав, что в этой книге есть, я хотела бы теперь сказать, чего в ней нет. Это не история СССР, не история чисток, не история репрессий в целом. Это не история правления Сталина и его Политбюро. Это не рассказ о его карательных органах, чью сложную административную историю я сознательно постаралась, насколько возможно, упростить. Хотя я использовала многое из того, что написали советские диссиденты, зачастую находясь под огромным давлением и проявляя огромную отвагу, эта книга не содержит полной истории движения за гражданские права в Советском Союзе. Она не отдает в полной мере должное отдельным народам и отдельным категориям заключенных – полякам, прибалтийцам, украинцам, чеченцам, немецким и японским военнопленным, которые пострадали от советского режима как в лагерях, так и вне их. Она не исследует в полном объеме массовые убийства 1937–1938 годов, которые большей частью происходили за пределами лагерей, и не исследует уничтожение тысяч польских офицеров в Катыни и в других местах. Поскольку книга рассчитана на массового читателя и не предполагает глубокого знания им советской истории, все эти события и явления в ней упомянуты. Однако невозможно было бы в рамках этой книги отдать им должное сполна.
Может быть, самое важное – что она почти не затрагивает историю миллионов “спецпереселенцев”, которых зачастую лишали свободы в то же время и по тем же причинам, что и будущих узников ГУЛАГа, но отправляли не в лагеря, а в отдаленные поселки для ссыльных, где многие тысячи из них умерли от голода, холода и непосильной работы. Одних – например, кулаков в 30е годы – ссылали по политическим причинам. Других – в частности, поляков, прибалтийцев, украинцев, немцев Поволжья, чеченцев в 40е годы – по причинам национальным. Их судьба в Казахстане, в Средней Азии, в Сибири была очень разной – слишком разной, чтобы можно было рассказать о них в этой книге, посвященной лагерям. Я упоминала об этих людях лишь эпизодически, когда их опыт казался мне особенно близким к опыту заключенных ГУЛАГа или помогающим пролить на него свет. Но хотя их история тесно связана с историей ГУЛАГа, чтобы рассказать ее полностью, понадобилась бы еще одна книга такого же объема. Надеюсь, вскоре кто-нибудь ее напишет.
Хотя здесь идет речь о советских концлагерях, их невозможно рассматривать как изолированное явление. ГУЛАГ рос и развивался в определенное время и в определенном месте, параллельно происходили другие события, и он принадлежит по меньшей мере к трем разным контекстам. Строго говоря, ГУЛАГ, во-первых, принадлежит к истории Советского Союза; во-вторых, к международной и российской истории тюрем и ссылки; в-третьих, к истории особого интеллектуального климата в континентальной Европе в середине XX века, породившего также и нацистские концлагеря в Германии.
Под словами “принадлежит к истории Советского Союза” я имею в виду нечто вполне конкретное: ГУЛАГ не явился в готовом виде из вод морских, в нем отразились нормы существовавшего общества. Если лагеря были мерзкими, а охранники – жестокими, если работали в лагерях из-под палки и кое-как, то причина отчасти в том, что мерзости, жестокости и кое-как выполненной из-под палки работы хватало и в других областях советской действительности. Если существование лагерников было ужасным, невыносимым, нечеловеческим, если смертность среди них была огромна – этому тоже трудно удивляться. В определенные годы жизнь в Советском Союзе была в целом ужасной, невыносимой, нечеловеческой и смертность была высокой не только в лагерях, но и “на воле”.