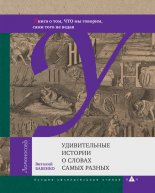Мудрость в пыли. Книга первая Ничей Дмитрий

– А тебе точно разрешат?
Я утвердительно кивнул. Мой друг недоверчиво нахмурился, явно задумавшись: стоит ли мне верить. Но тут я протянул руку к голенькому телу кошки, покрытому сетью трогательных складок. Кошка выгнула спину и, отрывисто мяукнув, ткнулась головой в мою ладонь, снова громко мяукнув.
– Горячая, – заметил я.
– Это кажется, – деловито ответил друг. – Особенности бесшёрстной породы.
– А как её зовут? – спросил я.
– Лагиска, – ответил друг.
– Как? – удивился я, подумав, что ослышался.
– Лагиска, – повторил друг.
В этот момент я понял, что никогда не назову это прекрасное создание впервые услышанным, но сразу ставшим ненавистным именем неведомой мне гетеры. Кошка – само по себе прекрасное имя. Значит, Кошка. Всё. Решено.
– Мы пойдём? – спросил я в затянувшейся вязкой тишине.
Друг обречённо кивнул и отвернулся. Я прижал к груди громко мурлычущую кошку и направился к двери. У самого порога я обернулся.
– Не переживай, – сказал я, – всё будет хорошо.
Друг, не поворачивая лица, болезненно поморщился…
Едва захлопнулась дверь за нами с кошкой, как та вдруг разительно переменилась. Безжалостно вонзив когти мне в плечо, она вся напружинилась и утробно завыла.
– Что ты? – я попытался успокоить её, отрывая от плеча.
В ответ кошка снова надрывно замяукала, и я увидел в полных ужаса и отчаяния звериных глазах слёзы. Кошка плакала, безотрывно глядя в одну точку, и я, не удержавшись, оглянулся. На закрытой за нами двери, словно восставший знак бесконечности, уныло и тускло блестела восьмёрка квартирного номера. Вздрогнув, я осознал, что эта тощая восьмёрка одним из самых худших знаков будет преследовать меня до конца жизни…
* * *
Путник медленно брёл по пыльной пустыне. В этот раз он сбился с пути, и хотя палящее полуденное солнце висело прямо над головой, он не успел добраться до жилища. И потому оставалось упрямо идти вперёд, не останавливаясь.
Его глаза скрывали черные лётные очки, надетые поверх укутывающей голову истрёпанной ткани. Длинный, до пят, плащ Легионера, верная винтовка да заплечная сумка. Иди, Путник, иди… Некогда могущественный Легион давно истреблён, а народ твой тебя не примет. И теперь ты вечно бредущий сквозь пыль Путник, не мечтающий о старости.
Этот мир давно сошёл с ума… Некогда покрывавшие едва ли не всю поверхность Земли океаны высохли, превратившись в безжизненные пыльные пустыни. И казалось, можно сойти с ума от осознания того, что бредёшь по бывшему дну одного из них, то и дело попирая ногами высохшие останки больших и малых его обитателей.
Собаки, простые обычные собаки, когда-то единожды встав на задние лапы, уже не опускаются на четыре, их походка становится всё прямее и прямее, а лай давно похож на речь. Морды всё больше принимают уродливые очертания человеческого лица, а глаза наполняются недобрым и вовсе не собачьим смыслом. И всё чаще слышится от их стай леденящий душу издевательский хохот.
И только люди, сами себя повергшие в бездну лишений и страданий, всё больше и больше становятся похожи на зверей…
И лишь пыль кругом, бескрайняя серая пыль… Но нужно идти вперёд, навстречу раскалённому солнцу, всё время вперёд. Ведь где-то там, далеко – море. Там, за этой не знающей дождей пыльной пустыней – бескрайнее синее море. С манящим шелестом набегающее на берег, дышащее свежестью и прохладой. Оно там, его просто не может не быть. И поэтому нужно идти…
Недавно на пути ему попались иссохшие засыпанные пылью останки. Истрёпанные длинные лоскуты выдавали остатки некогда такого же, как у Путника, плаща, а вместо живота зияла пустота.
Путник опустился перед ним на колени и, немного помолчав, вытряхнул содержимое его сумки. В пыль упали две консервы, фляжка, и горсть винтовочных патронов. Что ж, тоже неплохо. Мир тебе, незнакомец. Хотя почему – незнакомец? Судя по тому, что на тебе плащ Легионера, я наверняка тебя знал. И даже после смерти ты служишь остальным, хотя тебя уже не беспокоит Главный Вопрос.
Путник нащупал за отворотом плаща покойника медальон легионера и, сорвав, поднёс к лицу. Нет, не знаю… Он отрицательно покачал головой и, собрав добычу, снова двинулся в путь…
Сегодня пришлось заночевать в пустыне. Подложив под голову кулак с зажатым в нём длинным легионерским ножом, он на мгновение забылся тяжёлым полусном. Настоящий отдых невозможен. Безлунная пыльная пустыня хищна и коварна. И едва неискренняя ласковая истома обнимет тебя за плечи…
* * *
…Он сам перешагнул порог камеры. К чему ждать толчка в спину, если ничего нельзя изменить? Дверь за ним с лязгом захлопнулась. Захлопнулась, чтобы никогда не быть открытой с другой стороны. Он знал это. И потому сделал шаг вперёд. Так он стал Узником.
Он огляделся. Гладкие бетонные поверхности стен, потолка, пола. Круглое отверстие для солнечного света под самым потолком. И – да, конечно, самое главное…
Подойдя поближе, он опустился на колени. В углу, огороженном бетонным выступом, чернел клочок земли. Сбоку, из отверстия в стене, медленно стекала, уходя сквозь щель в полу, робкая струйка воды. Узник, глубоко запустив ладони, переворошил землю. В ней ничего не было. Что ж, значит, всё впереди…
…Хуже всего, что камера абсолютно пуста. Если не считать родничка да клочка земли, конечно. Сидеть, лежать, спать приходилось на голом бетонном полу. Очень скоро затекали конечности и начинали болеть бока. Одиночество ещё не тяготило так, как, понятно, станет мучить потом. А вот голод…
Узник старался не думать о еде. Да о чём ещё думать, когда вокруг голые стены? Ни тоска воспоминаний, ни безнадёжность ситуации не беспокоят, когда тебя одолевает звериный голод. Никто не станет думать о душе, когда тобой овладевают инстинкты…
Узник, словно зверь, резко повернулся на звук. Из наклонной щели в двери высыпалась горстка длинных бобов и разлетелась по полу. Узник бросился на пол и, хватая бобы, принялся запихивать в рот. Плоды были ещё нетвёрдыми, а некоторые даже сочными. В тот миг ему показалось, что ничего нет вкуснее в этом мире. Урча, как дикий зверь, он прожевал остатки и припал к едва струящейся из стены воде. Вода текла скудно, и ему приходилось высасывать её из стены, чтобы утолить жажду. И вдруг… он опомнился. Нет, не может быть…
Он упал на пол и, прижавшись щекой к холодному бетону, стал пристально вглядываться вокруг, в пространство. Плодов больше не было. Он не оставил ни одного. Он, самый мудрый и предусмотрительный. Он – железный. И не оставил…
Им овладел ужас.
«Нет-нет, – судорожно думал он, – не может быть, чтобы это было последний раз. Человек не переживёт того времени, когда семя прорастёт и снова начнёт плодоносить. И когда так похожие на человеческие пальцы бобы достигнут зрелости… А ведь хотя бы один должен ещё и окаменеть… Нет-нет…»
В панике кинулся он на дверь, стуча кулаками. Ответа не последовало…
* * *
Путник открыл глаза и, даже не услышав, а почувствовав кинувшегося на него зверя, резко выкинул руку с ножом в сторону приближающейся в кромешной тьме смертельной опасности. Раздался треск разрезаемой плоти и сдавленный рык, переходящий в пронзительный визг. Попал…
Путник скинул с себя обмякшее тело хищника, и сел, поджав под себя ноги. Теперь нужно дождаться рассвета…
С первыми лучами солнца стало ясно, что хищник – совсем несъедобная гадина, успевшая протухнуть в ледяной ночи и превращающаяся на глазах в покрывающую скелет бесформенную массу. Путник раздосадованно выругался. Все ночные надежды на сытную трапезу и кое-какие заготовки растаяли. И значит, нужно снова собираться в путь, чтобы достигнуть жилища до полуденной жары.
Но Путник снова сбился с пути, и висящее в зените палящее солнце не сулило ничего хорошего. Иссушённый жаждой рот предрекал скорые причуды воспалённого воображения. И тогда главное – просто идти. Идти упрямо, механически, не останавливаясь…
Дальше на пути попался камень. Камень среди сверкающей бескрайней пыли был так же невероятен, как и цветущее дерево. Но огромный валун упрямо стоял, не собираясь никуда исчезать. И если это действительно камень, то под ним могло быть не меньшее чудо. Плодоносящий росток или родник.
Проделав последние шаги, Путник подошёл к камню и слегка пнул ногой. Камень был настоящий.
Путник обошёл камень, и в тени увидел засохшее растение, похожее на кочан, образованный длинными широкими листьями. Уже заранее зная, что его ожидает, Путник раздвинул увядшие листья и увидел неподвижного младенца. Это оказалась девочка. Спокойное, словно мраморное лицо её было прекрасно в своей безмятежности. И вся она, такая беззащитная, словно олицетворение самой жизни, безвозвратно покинувшей блестящую пыльную пустыню.
Путник нахмурился, пристально вглядываясь в лицо ребёнка. Дыхание его стало тяжёлым, и невнятный шёпот засвистел сквозь стиснутые зубы. Но вдруг он замотал головой, словно силясь отогнать от себя какое-то наваждение. Затем, заведя ладонь под спину ребёнка, нащупал между лопатками и оборвал идущий из земли засохший стебель. Достав из сумки фляжку, смочил пересохшие губы ребёнка. Под закрытыми веками ожили глаза, девочка вздохнула – и безмолвие пыльной пустыни нарушил детский плач.
Девочка плакала, и казалось, мёртвая земля не просто молчит в ответ, а затаившись, слушает давно забытые и самые живые звуки. И, отозвавшись, вот-вот сотворит в раскалённом небе клубы белоснежных облаков, затем дыхнёт прохладой, и под нарастающие раскаты грома хлынет обильный дождь. И растущие повсюду лужи соединятся в бурные потоки, и унесут, смыв отовсюду блестящую пыль, и обнажится земля, готовая дать начало новой жизни.
Но нет… Скоро, застряв посреди раскалённого неба, солнце превратит всё в одно адское зеркало, и, помня об этом, Путник стянул с головы намотанную ткань, бережно обернул ребёнка, взял на руки и двинулся в путь.
* * *
– Что случилось?
Отпираться бесполезно. Мама, одним только ей ведомым чувством, сразу, с порога, безошибочно улавливала малейшие произошедшие в её отсутствие изменения. Впрочем, я уверен, как и все мамы.
Мама не видела, как я привёл домой кошку, как спустил с рук у самого порога, как она, завораживающе мурлыча, прижимаясь к углам и стенам, прошла в наш, новый для неё дом. Она огляделась, немного подумала и, как показалось мне, снисходительно позволила думать, что она согласна жить у нас. Впрочем, мне, счастливому, это было приятно…
– Что случилось?
Мне пришлось, переминаясь с ноги на ногу, подбирая забывшиеся разом нужные слова, рассказывать о том, что мой друг-одноклассник уезжает в другую страну, и что ему некуда деть кошку, которую я давно хотел. Да-да, это правда. Кошка была моей давней заветной, пусть и потаённой, мечтой. И как я раньше жил, не имея рядом такого прекрасного и умного существа, ума не приложу. И что кошки оказывают самое положительное влияние на людей, а на меня – будет исключительным. Уникальным. И что, вообще, мы в ответе за тех, кого приручили. И что…
Мама слушала, хмурясь всё больше и больше. Видя, что ситуация заходит в тупик, я стал запинаться и нести какую-то ахинею.
– Ты хорошо подумал? – прервала меня мама.
Я обрадованно закивал.
– Убирать сам за ней будешь, – предупредила мама.
Я пытался заверить, что она очень умная, и с ней не будет никаких хлопот, но мама равнодушно пожала плечами, и ушла, больше не сказав ни слова. Моя милая, добрая, моя мудрая мама… Тогда, всецело поглощённый радостью обретения нового, я не придал этому особого значения. Как бы знать тогда…
Весь день я, поглощённый впечатлением нового, ходил по пятам за кошкой, наблюдая. Мне нравилось в ней всё: ленивая истома движений, надменность взгляда и манящая вычурность поз. Так я не заметил, как наступила ночь…
Кошка, свернувшись калачиком, дремала на одеяле. Щёлкнув выключателем, я с размаху плюхнулся на кровать.
– Осторожней! – услышал я в темноте недовольный женский голос.
Я замер, насмерть перепугавшись.
– O tempora! O mores! – снова послышался тот же голос. – В прежние времена великий пожертвовал рукавом своего халата, дабы не нарушить покой спящей кошки…
Я вскочил с постели, с размаху ударив по выключателю. Сердце бешено колотилось в груди. Кошка, недовольно щурясь от яркого света, повернула голову в мою сторону. Я подошёл поближе и, склонившись над ней, заглянул в глаза. Кошка громко мурлыкнула.
– Что, мой милый мальчик, испугался? – услышал я совсем рядом.
– Нет, – ответил я, не отводя взгляда.
Кошка удивлённо вскинула брови. Если можно так сказать, конечно.
– Ты способен слышать? Что ж, это замечательно…
* * *
Вскоре на пути показались несколько сбитых из всевозможного хлама утлых лачуг, теснящихся друг к другу. Над ними струился слабый дымок. Ребёнок на руках у Путника слабо шевельнулся. Тот прибавил шагу. Странное чувство овладело им. Теперь дорога в пыли, да и весь его путь, приобрели какой-то новый, позабытый когда-то смысл, наполняя грудь горячим воздухом и придавая невесть откуда берущиеся силы.
Подойдя к крайней лачуге под засохшим деревом, Путник постучал ногой в дверь. В ответ послышалась негромкая возня и вскоре дверь открылась. На пороге, тяжело дыша, стояла отёкшая пожилая женщина. Она посмотрела на свёрток на руках у Путника, и без того тяжёлый взгляд её стал ещё злее и недоверчивей.
– Чего тебе надо? – недружелюбно спросила она.
– Молока, – ответил Путник.
– Матерь Божья, – брезгливо поморщилась она в ответ. – Если люди забыли, как рожать детей, неужели ты думаешь, что мы станем выкармливать тех, кого родит пустыня? Убирайся сам и уноси с собой это исчадие ада. Прижав его к груди, ты и сам проникся…
– Послушай, женщина, – оборвал её Путник. – Я никому не желаю зла. Лучше подобру дай мне то, что я могу взять силой.
– Как бы не так… – в ответ прошипела она и вдруг визгливо вскрикнула: – Юрген!
За её спиной вырос огромный рябой детина, и, заслонив её собой, потянул руки к лицу Путника. В ответ, отступив на шаг, Путник резко ударил его ногой в живот. Детина взвыл от боли и сложился пополам. Так же бережно прижимая свёрток к груди, Путник другой рукой выхватил длинный нож легионера и приставил к горлу рябого, прижав его к стене.
– Принеси молока, – отчётливо проговорил Путник, глядя женщине прямо в глаза.
– Да здесь-то и вода – редкость, – начала было она, но Путник надавил ножом чуть сильнее, и детина зашипел от боли.
Женщина сгорбилась и исчезла в чернеющем проёме двери. Послышался лёгкий шум – и вскоре она вернулась, протягивая трясущейся рукой наполненную до половины полуразбитую кружку молока. Вторую руку она держала за спиной.
Возникла напряжённая тишина. Стало слышно, как жаркий ветер пересыпает горячую пыль под ногами. Детина напряжённо засопел на ноже у Путника, зло морщась от боли. Женщина стояла, упёршись в Путника тяжёлым недобрым взглядом. Время словно остановилось. Свисающая с отколотого края чашки молочная капля оторвалась и, медленно преодолев трясущиеся грязные женские пальцы, повисла на ребре ладони, готовая упасть…
Вдруг ребёнок на груди у Путника громко и радостно вскрикнул, протянув навстречу солнцу розовую ладошку.
– Господи! – охнула женщина и, попятившись назад, выкинула из-за спины руку с обрезом ружья. Грохнул выстрел. Путник почувствовал, как обожгло щеку и кровавой пеленой затянуло правый глаз. Резко проведя ножом по горлу рябого, Путник рукоятью наотмашь ударил женщину. Та всплеснула руками и неуклюже повалилась набок. Рябой рухнул на колени и, выпучивая безумные глаза, тщетно пытался зажать руками бьющую из перерезанного горла кровь.
Озираясь по сторонам, Путник бросил взгляд на ребёнка. Девочка безмятежно улыбалась, доверчиво глядя ему в глаза.
Вновь наступила тишина. Соседние лачуги не подавали никаких признаков жизни. Подобрав с земли обрез, Путник бросил его вглубь лачуги и сам вошёл следом, пригнувшись в низком дверном проёме.
Внутри было темно. Морщась от подкатившего приступа тошноты, Путник шагнул дальше, сквозь спёртый воздух маленькой комнаты. В падающих сквозь крошечные оконца тусклых лучах света переступала копытами грязная коза.
Оглядевшись, Путник заметил стоящую рядом стеклянную банку, до половины наполненную молоком. Бережно подняв, Путник поднёс её к носу и, не почуяв неладного, прислонил к губам ребёнка. Девочка принялась жадно пить, схватив банку маленькими ручонками. Путник удивлённо заметил, как странно ноет где-то внутри при виде пьющего молоко ребёнка. И всё сильнее и сильнее, с каждым её глотком, стихающим в сытом полусне. Наконец девочка тихо засопела. Путник аккуратно отнял от её губ банку и, допив остатки, бросил на укрытый соломой пол.
Заметив висящий в полутьме осколок зеркала, он подошёл поближе и повернулся к нему повреждённой стороной лица. Главное – глаз цел. А засохшая на измождённом бесконечной дорогой лице кровь – это привычно…
Выйдя на свет, он увидел бессознательно постанывающую в пыли хозяйку лачуги. Рядом, в луже сворачивающейся в пыли крови, лежало бездыханное тело её огромного рябого сына.
– А зачем ты нужен? – пятясь назад, поспешно прошептал Путник – Зачем ты нужен?
* * *
От чтения меня отвлекла мама. Возникнув в дверном проёме, она громко и недовольно вздохнула. Я обернулся.
– Вставай, – сказала мама, – тебя ждут великие дела.
– Что случилось? – несмело поинтересовался я.
– Иди, сам увидишь.
Я обречённо встал из-за стола и поплёлся вслед за мамой.
– Вот, полюбуйся, – указала рукой мама, когда мы вошли в другую комнату. – Это твоя кошка. Не заставила себя долго ждать.
Кошка сидела в самом углу комнаты. Время от времени по её телу пробегала мучительная волна, словно выворачивая наизнанку. Её тошнило. На ковре в нескольких местах темнели свежие пятна. Я посмотрел на маму.
– Сожрала что-нибудь, – констатировала она. – Бери салфетки и тряпку – и вперёд!
Я на мгновение впал в ступор.
– Давай-давай! – подбодрила меня мама. – Или ты думаешь, я буду это делать?
Тяжко вздохнув, я взял ведро с тряпкой, салфетки, и принялся за работу. Опустившись на пол, принялся счищать пятно с ковра. К горлу подступил тошнотворный ком. Я запрокинул голову, чтобы глубоко вздохнуть.
– А как ты хотел? – услышал я за спиной мамин голос. – Я тебя предупреждала…
Ушедшее на это время показалось мне вечностью. Превозмогая тошноту, я снова принялся за работу. Где-то сбоку, конвульсивно содрогаясь и утробно урча, жалобно мяукала кошка. Порой становилось совсем невыносимо, и я стрелой выбегал из комнаты под неодобрительные взгляды мамы. Но снова и снова возвращался, чтобы довести дело до конца.
Наконец всё закончилось. Я вышел из ванной, много раз вымыв руки и умывшись холодной водой. Я взял на руки плачущую кошку и понёс с собой. Оглянувшись, я увидел, что мама глядит мне вслед, и во взгляде её отчётливо читается удивление, разбавленное толикой уважения.
Я положил кошку на постель и стал гладить. Она отворачивала голову, и я подумал, что она не хочет смотреть мне в глаза. И вдруг понял, что так и есть на самом деле.
– Ты что? – я попытался подтянуть её поближе. Но она дёрнула плечом, сбрасывая мою руку. Я удивился, насколько человеческим был жест. Я замер, словно поражённый громом. Всё в ней для меня открывалось заново: хрупкие плечи, матовая бледность кожи, изящный изгиб спины, тепло горячего тела, и плавно поднимающиеся и опадающие от дыхания бока…
– Ты что? – я осторожно прикоснулся к ней кончиками пальцев.
Она обернулась.
– Спасибо тебе, мой милый мальчик, – прочитал я в её глазах.
Я почему-то ждал, что она назовёт меня «хозяин». Уверен: она понимала это. Но не собиралась так делать.
Ну да ладно…
* * *
…И снова изнуряющая монотонная дорога. Сводящая с ума однообразием пыльная пустыня. Шаг за шагом навстречу солнцу. Шаг за шагом… Шаг за шагом…
К счастью, с наступлением сумерек на горизонте показался посёлок. Мёртвый посёлок. Очередной из множества встретившихся на пути. Брошенные дома, пустые глазницы окон, скрипящие на ветру двери. Путник заметил, как в одном из окон мелькнул тусклый свет. Значит, кто-то есть. Или показалось? Путник поправил укрывавшую лицо ребёнка ткань и зашагал быстрее.
В доме действительно кто-то был. Но тихие шаркающие шаги внутри стихли, как только Путник постучал в дверь. Подождав, Путник снова громко постучал кулаком. За дверью послышался шорох.
– Чего Вам нужно? – раздался скрипучий старческий голос.
– Ночлега, – твёрдо ответил Путник.
Дверь приоткрылась, и в полумраке тускло блеснул выцветший глаз. Длинный плащ и винтовка явно не вызывали у него никаких добрых ассоциаций. Наступила напряжённая тишина. К тому же свежий шрам через всю щеку…
Глаз подслеповато прищурился, приглядываясь, и вдруг округлился в недоумении:
– Святые угодники!
Дверь распахнулась, и на пороге показался высохший седой старик:
– Это ребёнок?
Путник неподвижно застыл в ожидании.
– Да чего же мы стоим? – засуетился старик. – Входите скорее!
Путник решительно шагнул внутрь дома. Старик засеменил следом, то и дело заглядывая ему через плечо, в надежде разглядеть лицо ребёнка.
В доме никого больше не оказалось.
– Да-да, я живу один, – подтвердил старик, заметив недоуменный взгляд Путника. – Только вот накормить мне Вас нечем…
Старик виновато сгорбился.
– Не переживайте, – успокоил его Путник, – мы сами разделим с Вами свой ужин.
Путник бережно уложил девочку на укрытую каким-то тряпьём старую кровать и аккуратно раздвинул укрывающую её ткань. Старик с любопытством наблюдал рядом. Девочка улыбалась, и взгляд чистых детских глаз светился счастливым серым светом.
Путник достал из сумки банку консервов, привычным жестом вскрыл её легионерским ножом и, зацепив содержимое на самый конец острия, поднёс к губам ребёнка.
– Да разве ж можно так? – охнул старик. – Ребёнка – с ножа?
Путник, не обращая на него никакого внимания, покормил ребёнка и потянулся за новой порцией. Вдруг девочка села и, протянув руки к повернувшемуся Путнику, схватилась за острие ножа пухлыми детскими ладошками.
– Спокойно, – тихо сказал Путник и бережно расцепил детские пальцы.
Старик, затаив дыхание, следил за происходящим. Путник, накормив девочку, напоил её водой из фляжки.
– Она – гриб? – испуганно спросил старик.
Путник не ответил. Старик растерянно что-то забормотал, топчась на месте.
Накормив ребёнка, Путник поел сам, поровну разделив скудный ужин со стариком. В благодарность старик принялся вытаскивать из рассохшихся шкафов невесть откуда взявшиеся детские вещи различных цветов и размеров.
– Берите-берите, – причитал он, – мне это без надобности. Здесь раньше жили дети. А я стар и одинок. Берите, не стесняйтесь. Вы же знаете, как быстро они растут…
Путник растерянно держал в руках цветастую детскую одежонку. Он вертел её в руках, словно в оцепенении, и вдруг поймал себя на мысли, что вряд ли что-то может быть сейчас более странным и причудливым. Здесь, в этой страшной комнате, с облупившейся на стенах краской и разбитыми окнами. Лишь девочка улыбалась, счастливая, издавая прекрасное мурлыканье, вот-вот готовое превратиться в нарождающийся детский смех.
Ссутуленная фигура старика уныло темнела на фоне закатного окна.
– Как Вы не боитесь тут один? – спросил Путник.
– А кого мне бояться? – пожал плечами старик. – Мародёры сюда, слава Богу, не добрались. А собаки… Так это всего лишь собаки.
– Ну. уж нет, – криво усмехнулся Путник. – Это не просто собаки. Это противоестественное подобие людей, пахнущее мокрой псиной. От них не стоит ждать ничего хорошего. И поэтому всех их…
– Ах, да, – печально вздохнул, спохватившись, старик, – зачем они нужны? Как я мог забыть?
– Считаете иначе? – нахмурился Путник.
– Да, конечно, – печально закивал старик. – Никого нельзя объявлять ненужным только потому, что он непонятен, уродлив, или спорит с тобой. Никого вообще нельзя объявлять ненужным. Это привилегия разве что самого Господа Бога. Никто никак не нужнее другого. Все имеют право быть…
– Вы уверены? – раздражённо спросил Путник.
– Вне всякого сомнения. В этом мире не будет ничего нового. Но, к сожалению, жизнь никого ничему не учит. И самые бредовые идеи завладевают умами человечества, захватывая и ведя его к самому краю пропасти. Снова и снова…
– Не стоит упрощать, – твёрдо возразил Путник. – Мы не проповедовали ни расовое превосходство, ни религиозную исключительность…
– А что же тогда? – воздел руки к небу старик. – Идею Главного Вопроса? Вы хоть понимаете, что неспособность простого человека доказать наделённому властью свою нужность, делала его таким же беспомощным, как и смотрящим в глаза расстрельной команде? И тем ужасающа зависимость от мнения судьи. Ведь для вас нужность означала безвредность. Непревышение опасности для общества. Обычность человека. И никак вы не хотели вспоминать о том, что вся история человечества движима ненормальными людьми. Ведь удел нормального человека – тихий сон после сытного ужина. А историю всегда творили гении. А гении – это за гранью нормы. Безумцы, как это ни прискорбно. Психопаты, наркоманы и извращенцы – вот отцы едва ли не всех открытий, бессмертных шедевров, революционных течений и будоражащих умы идей. Как раз те, кто, по вашему мнению, абсолютно не нужны… А в Ваших словах я снова слышу поступь римского ликтора, держащего на плечах секиру в обвязанном красным шнуром пучке берёзовых прутьев. И исключительное право казнить и миловать, в который раз, породит им, в итоге, и новую расу, и новую религию.
Старик обречённо махнул рукой:
– И знаете, я счастлив, что могу сказать Вам это, – устало продолжил он. – Потому что больше не боюсь. Мне не за кого бояться. Я остался один. И меня ничто не держит на этой несчастной земле. И я не боюсь. Совсем не боюсь. А Вы говорите…
– То есть, теперь – лучше? – снова усмехнулся Путник.
– Не надо передёргивать, – поморщился старик. – Одна крайность не должна оправдывать другую. И если бы человечество научилось, наконец, использовать накопленную мудрость, всё было бы совсем иначе…
– Мудрость? – презрительно скривился Путник. – И всё?
– А знаете, да, – лицо старика просияло. – У меня было предостаточно времени подумать об этом. И я постиг природу мудрости. Знаете, что это? Мудрость – это если ты, став богат, делишься с другим, сколь угодно щедро, пусть даже сделав богатым его, сам от этого ничуть не становясь беднее. И всё разумное должно, просто обязано, быть мудрым. Ведь имеющий разум – наделён душой, а обладающий душой – накопит мудрость. Но, к сожалению, в жизни происходит совсем иначе. И от этого все беды…
– Ну, всё! – оборвал его Путник. – С меня хватит. Время позднее. Пора спать.
…Он лежал на жёстком полу и, глядя на безмятежно посапывающую на кровати девочку, молчал, задумавшись. Он думал о том, какое всё-таки неблагодарное существо – человек. Ищущий крова, хлеба и защиты в своей беспомощности – и мгновенно начинающий хамить, едва насытившись. Не помнящий добра, не знающий верности, желающий продать, предать… И вспоминающий о своей человеческой сущности разве что перед лицом смерти. Или беспощадной силы, на худой конец… И зачем он тогда нужен?..
* * *
…– Ещё один? – устало вздохнул полковник, глядя на стоящего перед ним навытяжку легионера. – Что ж им надо-то?
Он перелистнул лежащее перед ним на столе личное дело и снова вздохнул.
– Вот скажите мне, – спросил он, – почему? Чего им не хватает? Я понимаю: это не люди, так, человеческий мусор. Мусор. Да, мусор, – кивнул полковник, словно убеждая самого себя. – Но мусор же человеческий… Раньше они, ютясь в тесных камерах, грязные, голодные, находясь в нечеловеческих условиях, зубами цеплялись за жизнь, карабкались… А теперь? Теперь, когда с ними обращаются как с людьми, когда у них есть возможность пользоваться всеми благами цивилизации, они не упускают ни малейшей возможности свести счёты с жизнью. Они вешаются, режутся, глотают всякую гадость… Вот скажите мне: кто из этого отребья мог раньше воочию видеть картины фламандских мастеров? Да они о существовании их не подозревали! И что в итоге? Ты ему Шекспира, а он в петлю… И знаете, почему?
– Всё-таки лишение свободы… – попытался предположить легионер.
– Да бросьте, – брезгливо поморщился полковник. – А раньше что они, беззаботны были? Всё дело в том, что именно теперь им в голову и стал приходить Главный Вопрос. И выходит, что все наши прежние потуги не стоят и ломаного гроша. Камеры, пытки, казни – всё это заставляло их чувствовать себя героями. И чем сильнее нами насаждалась политика Главного Вопроса, тем сильнее было противодействие. Вся наша воспитательная и просветительская работа для них как дешёвый балаган. У них наверняка был какой-то свой Главный Вопрос. Псевдо-Главный Вопрос. Но был! И только теперь, когда мы всего-то сделали вид, что пытаемся разглядеть в них человека, они возомнили себя полноценными личностями, и Главный Вопрос так прямо и стал возникать в каждой их дырявой голове. И ответ для каждого из них был очевиден. Потому-то и не иссякает эта их мертвецкая очередь. Потому как, действительно, зачем все они нужны?..
* * *
С первыми лучами солнца Путник взял ребёнка на руки и, не поблагодарив за ночлег, ушёл прочь…
* * *
Проснулся я от того, что кошка забралась мне на грудь. Открыв глаза, я увидел, как она возвышается надо мной, прищурив глаза в утренней истоме.
– Вставай! – услышал я сквозь громкое мурлыканье. – Я хочу показать тебе нечто удивительное.
Я послушно поднялся с кровати, оделся и пошёл вслед за кошкой. Подойдя к входной двери, она оглянулась и утвердительно кивнула мне. Я открыл дверь, и мы вышли.
На улице стояла мёртвая рассветная тишина. Дома и деревья тонули в молочных клубах тумана. Поражённый увиденным, я удивлённо озирался вокруг. Раньше знакомые и привычные места были совсем не похожи на себя.
– Куда мы идём? – спросил я.
– Я отведу тебя туда, где ты никогда не был, – не оборачиваясь, ответила идущая впереди кошка. – Никогда не был, и вряд ли смог бы когда-нибудь попасть. Но ты чист душой и способен к мудрости, и потому заслуживаешь того, чтобы увидеть это хотя бы раз…
– Что – это? – удивлённо спросил я.
– Это … – на мгновение задумалась кошка, – воплощение рая на земле. Место, где не жалко найти последний приют. Там время тычет неспешно в усыпляющей неге пуховых перин, под тихое мурлыканье кошек, дремлющих от сытости, вызванной изобилием рыбы, молока и сметаны. Там тепло, сытно и спокойно, а безмятежный сон прерывается лишь желанием потянуться что есть силы спросонья. Сладко потянуться, хрустнув косточками, чтобы потом снова задремать, свернувшись клубочком.
– И что же это за место?
– Это – город Старых Женщин. Говорят, где-то сразу за ним и находится настоящий рай. Но никто не стремится туда.
– Почему?
– А зачем? Какой в этом смысл, если ты уже в раю? В месте, населённом лишь самыми мудрыми, самыми добрыми людьми, которые только могут быть на земле. Женщинами, прожившими жизнь, избавившимися от губительных страстей и приобретшими взамен мудрость. Умеющими ладить со временем, творить добро, взбивать подушки и жарить рыбу в сметане. Я покажу тебе это…
– Довольно странное, должно быть, место, – заметил я.
– Чем же? – искренне удивилась кошка.
– Слышится лишь: женщины и кошки, кошки и женщины…
– Что же здесь странного? – снова удивилась кошка. – Так устроена эта жизнь. Миром правят женщины и кошки. И всё вертится вокруг них. Всё создаётся и разрушается во имя них. Всё. Для них слагаются в строки лучшие слова, сливаются в образы краски, теряет лишнее, обнажая скульптуры, мрамор. Для них возводятся города и храмы, истребляются народы, вершатся судьбы единственных и многих…
Кошка осеклась, увидев недоверие в моих глазах.
– Что-то не так? – почти раздражённо спросила она.
– Нет, я не спорю, – неуверенно пожал плечами я, – женщины… Но кошки…
– М-да, – недовольно протянула она. – Ну, тогда слушай…
…Александр III Великий, Александр Македонский, известный в арабском мире как Искандер Зулькарнайн, непобедимый воин и полководец, провозгласивший себя сыном Аммона-Ра, после десяти дней жестокой лихорадки покинул этот грешный мир. Он скончался в Вавилоне, не дожив чуть более месяца до 33-летия и не оставив распоряжений о наследниках, и поэтому основанная Александром огромная империя была поделена между его полководцами. Одному из них, верному слуге и телохранителю Александра, Птолемею Лагу, из знатного македонского рода Лагов, в управление достался Египет, и династия его правила Египтом на протяжении трёх веков. Став первым фараоном династии, Птолемей Лаг проявил себя как мудрый правитель, расположил к себе египтян, сделав их настолько верными себе, что они в последующих войнах ни разу ему не изменили. Птолемей, заботясь о соотечественниках, создал дальновидную политическую систему, наделив особыми привилегиями греческих и македонских воинов и чиновников, назначая их на высшие должности и доверяя управление государством. С берегов Эллады в Египет хлынули толпы переселенцев. Оседая на берегах Нила, они приобретали здесь землю, создавали хозяйства и женились на коренных египтянках. Эллины, растворяясь на благодатных землях Египта, приносили с собой свои обычаи, знания и труд, в то же время жадно впитывая всё новое, что находили здесь. Всё переплелось со временем, став неразрывным и неделимым целым. Покровителем Александрии стал вошедший в общий для греков и египтян пантеон бог Серапис. И греческие боги стали египетскими, и египетские – греческими.
И расцвёл Египет. Александрия стала сосредоточием торговли, искусств и науки, затмив собою Афины. Кишел судами порт, росли дворцы и дома. И полон город был самыми образованными людьми, стремящимися в известные на весь мир музей и библиотеку. И забылось персидское владычество, и воцарились мир и покой.
Но случилось страшное…
Однажды египетский мальчик Фенуку, чей отец плёл корзины и циновки в Мемфисе, по пути за тростником услышал жалобный, похожий на мяуканье, писк. Оглянувшись, он увидел, как вдалеке какой-то грек, размахнувшись, забросил в священные воды Нила туго завязанный мешок. Вода тут же сокрыла мешок, и писк прекратился. В ужасе бросился Фенуку вдоль берега, не отводя глаз от того места, куда упал мешок, но забурлившая от гребнистых спин крокодилов вода лишила его последней надежды спасти несчастных чад священной Бастет.
– Зачем, зачем ты это сделал? – задыхаясь от слёз, протянул он руки к уходящему греку, едва настигнув его.
– А что мне оставалось? – равнодушно пожал плечами грек. – Кормить я их не собираюсь, а от писка нет никакого житья. Так лучше уж так, покуда не прозрели они, и не осознают себя в этом грешном мире…
И неспешно направился в сторону греческого квартала, оставив безутешно рыдать на берегу Нила упавшего на колени Фенуку.
Заливаясь слезами, вернулся он домой и рассказал всё оставившему плетение тростниковой циновки отцу. И чем дальше рассказывал Фенуку, тем более серым от ужаса становилось лицо отца. А после, не сказав ни слова, встал отец и направился в сторону городского рынка.
В едва надвигающихся сумерках заполыхал греческий квартал. Египтяне, жители Мемфиса, ослеплённые праведным гневом, исступлённо принялись истреблять растерянных греков. До самого утра длилось восстание. До рассвета рекой лилась кровь. А когда всё закончилось, камня на камне не осталось от греческого квартала. Мудрый Птолемей, всё понимая, не стал мстить восставшим. А выжившие в страшной резне никогда не вернулись в то проклятое место…
Похожая история произошла два с половиной столетия спустя в Александрии, во время правления Птолемея XII Авлета. По улице ехала богато украшенная колесница, запряжённая мулами, которая везла ко двору правителя посланца Рима, жаждущего прибрать в свои крепнущие руки лакомый для всех Египет. Вдруг тишину раскалённого египетским солнцем воздуха разорвал пронзительный кошачий визг. Это перебегавшая дорогу кошка угодила под колеса повозки. Все находившиеся вокруг замерли. Ставший белее смерти возница беззвучно зашептал что-то сведёнными губами. Вокруг стала собираться толпа.
Сидящий в колеснице римлянин встревоженно озирался вокруг. Искалеченная кошка, жалобно мяукая, отползла на обочину, где корчилась от боли. И внезапно испустила дух. Находившийся неподалёку египетский солдат одним махом вскочил на колесницу и, выхватив изогнутый меч-хопеш, в мгновение ока поразил возницу. Римский чиновник, выскочив из повозки, пустился прочь. Разъярённая толпа с криками бросилась за ним. Римлянин, спасаясь, успел укрыться в собственном доме, вокруг которого стала собираться на глазах растущая толпа местных жителей. Прибывшие вскоре представители власти не смогли успокоить египтян ни уговорами, ни увещеваниями, ни угрозами. Ни действующие в Египте законы, ни опасность гнева всемогущего Рима не остановили ослеплённых гневом александрийцев. Вскоре петли и засовы не выдержали натиска народного гнева, и несчастный римлянин был растерзан разъярённой толпой…
Да, конечно, это Египет, где кошка была божеством. Но уверяю тебя, мой милый мальчик, во всей истории человечества с его войнами, восстаниями, интригами, заговорами и дворцовыми переворотами свой невидимый след оставили кошки. И если история вершится железными мужскими руками, то водят ими изящные женские пальцы, время от времени поглаживающие мурлычущую кошку. Кошки никого не оставляют равнодушными. Кошек либо любят, либо ненавидят. Третьего не дано. При всех прочих признаках люди так и делятся: на тех, кто любит кошек, и тех, кто ненавидит.
– А почему вас тогда так не любят собаки?
– А за что им нас любить? За чёрную человеческую неблагодарность? Им, преданно служащим и заискивающе заглядывающим в глаза достаются лишь цепь да тумаки, а вся любовь и обожание – нам, надменным, неприступным и своенравным. И какая же после этого у них к нам может быть любовь? А в остальном… Да-да, мой милый мальчик, именно так. Миром правят женщины и кошки…
«Ну-ну, – недоверчиво повторил я про себя, – женщины и кошки. Впрочем, если ей нравится так думать…»
* * *
… Жара становилась нестерпимой. Вскарабкавшееся на самую вершину неба солнце пекло так, словно хотело истребить всё живое, случайно оказавшееся в этой пыльной пустыне. Путник чувствовал, что каждый следующий шаг даётся ему всё труднее. Пот застилал глаза, и радужные пятна предвестниками надвигающего обморока появлялись с пугающей частотой.
Девочка сидела на руках у Путника, обхватив его шею слабыми детскими ручонками. Да, они действительно быстро растут… Бедный ребёнок, истощённый долгим переходом, впал в сонное оцепенение и почти не шевелился.
– Пить…
Путник вздрогнул. Отстранившись, посмотрел на ребёнка. Измождённое дитя смотрело на него усталым взглядом полузакрытых серых глаз. Запёкшиеся губы едва шевельнулись: