Великое княжество Литовское Левицкий Геннадий
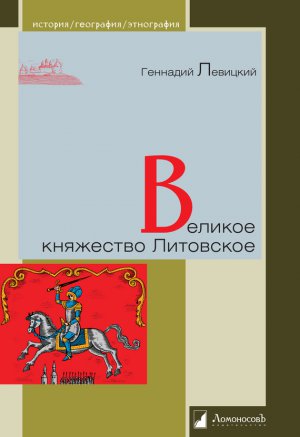
В начале 1563 года царь с огромным войском пересек литовскую границу, а 15 февраля был захвачен важнейший город Великого княжества Литовского – Полоцк. Поначалу Иван Грозный пытается быть милосердным: более 500 пленных королевских наемников были одарены шубами и отпущены на свободу; правда, всех евреев, отказавшихся немедленно принять крещение, царь велел утопить в Двине.
Люблинская уния. Рождение титана
Великое княжество Литовское и Польша шли навстречу друг другу долгим тернистым путем. Долго тянулся и Люблинский сейм – с 10 января по 12 августа 1569 года. Каждая из сторон – поляки и литовцы – имела своиинтересы, часто они не совпадали, а иногда были диаметрально противоположными. Собственно, соединить два государства в одно – дело не простое, и удивляться тут нечему. Но похоже, это был единственный шанс спасти Великое княжество Литовское от инкорпорации в состав Московского государства – родственного по языку, национальному составу, вере, но ужасно далекого по менталитету, образу жизнедеятельности, государственному устройству; в общем, за столетия раздельного существования ставшего абсолютно чужим.
С востока наседал опасный враг, грозивший поглотить Великое княжество Литовское, а на сейме торжествовал принцип: требовать всегда надо больше, чем рассчитываешь получить, тогда и получишь хотя бы то, что ожидаешь. Литовские послы уверяли поляков в горячем желании заключить унию «на основании сердечной любви», но хотели в составе объединенного королевства иметь больше свободы и прав, чем их было во время существования государств порознь. В частности, они упорно пытались протащить пункт, по которому запрещалось полякам занимать в княжестве любые должности и вообще владеть какимлибо имуществом – «чинов, должностей и арендных пожалований чужеземцам давать не будем».
Упорство немедленно подтвердили делами: «решено отнять литовские должности у тех поляков, которые их занимали, а именно: должность кухмистра отнята у Крочовского, конюшего – у Пясецкого…» Польский король заметил, «что должность конюшего дана поляку, поселившемуся в Литве, женившемуся там, и притом дана по просьбе самих литовских сенаторов, что точно так же пожалована и должность кухмистра. Литовцы отвечали, что тогда обстоятельства были иные, чем теперь, когда нужно решать и кончать дело унии. Настоящая мера нужна будто бы для того, чтобы потом поляки не ссылались, что в таком положении застали дела».
По этому поводу епископ Краковский выразил недоумение: «…вы точно решеткою отгораживаетесь… от нас. Вы хотите считать нас чужеземцами, отстраняете народ польский от должностей и других дел, и уже у вас отнимают должности у поляков без всякого основательного повода, и этимто начинается этот сейм!» В результате сейм более месяца фактически не работал. Литовцы, несмотря на свое бедственное положение, отказывались обсуждать с поляками условия унии и пытались вырвать у короля как можно больше привилегий. Все это изрядно злило гордых поляков, и наконец 12 февраля они вручают литовцам свой проект унии.
Вот его основные пункты:
«Прежде всего: Польское королевство и Великое княжество Литовское, согласно прежней инкорпорации между ними, составляют из обоих вышесказанных народов одно, неразличное, нераздельное тело, одно собрание, один народ, так что отныне у этого из двух народов одного собрания… будет на вечные времена одна глава, не особые государи, а един – король польский, который, согласно давнему обычаю и привилегии, общими голосами Поляков и Литвы будет избираться в Польше, а не в ином месте.
Главный сейм всегда должен быть один, а не отдельные; кроме того, должен быть один, никогда не разделяющийся сенат для всех дел и нужд тех народов, и никогда уже не должен быть он иным, то есть не должен состоять лишь из сенаторов того или другого народа.
Монета должна быть однообразная и одинаковая по весу, пробе, подразделению и по надписи… Что касается до договоров и союзов, то сделано такое постановление: отныне все соглашения, заключение мира, посылка послов в дальние и пограничные страны должны быть делаемы не иначе, как с ведома и по общему совету обоих этих народов; мир же и постановления, учиненные перед тем с каким бы то ни было народом и с каким бы то ни было государем, если они вредны которой-либо стороне (Польше или Литве), должны быть объявлены потерявшими силу и не должны быть соблюдаемы.
Обдуманы и приняты также меры к тому, чтобы это единение, уния Великого княжества Литовского с Польшей ни в чем не подрывали, не оскорбляли и не уменьшали тех прав, привилегий, вольностей и обычаев Великого княжества Литовского, которые не противны польскому народу; напротив, такие права, привилегии, вольности и обычаи обе стороны, по взаимному совету, будут усиливать и умножать.
Как в Польше, так и в Литве должны быть уничтожены все торговые пошлины и поборы на земле и на воде, под каким бы то ни было названием… Все законы и постановления, какие бы то ни было и по какой бы то ни было причине изданные в Литве против польского народа, касательно занятия высших и каких бы то ни было должностей, вверяемых и поручаемых нами, также касательно имений и земель, касательно приобретения земель и владения ими в Великом княжестве Литовском, приобретаемых за женой или по выслуге, покупкой, по наследству или по дару и каким-либо другим способом, сообразным с законом и обычаем, – все такие законы, по согласию всех чинов, разрушаем и обращаем в ничто. Отныне они не должны иметь никакой силы и значения, как законы, противные справедливости и взаимной любви и унии. Отныне как Поляк в Литве, так Литовец в Польше может приобретать имение и поселиться всяким законным способом и может по закону занимать должность в той земле, в которой будет иметь оседлость. Что же касается до духовных должностей, то вольно нам будет раздавать их безразлично, как было и до сих пор, не обращая внимания на оседлость лица в той стране».
Казалось бы, польская сторона предложила идеальный вариант союза двух держав, который не ущемлял ничьих интересов и предоставлял двум народам равные права. Но этот проект вызвал яростное сопротивление литовцев. Их абсолютно не устраивала равная возможность приобретать земли и получать государственные должности везде и для всех. Литовские магнаты опасались потерять влияние и власть, существовала реальная угроза не выдержать конкуренции с многочисленной польской шляхтой. Они не рассчитывали на какиелибо приобретения в Польше; просторов Великого княжества Литовского им было достаточно для деятельности, и литовская знать не желала делиться с «братьями-поляками» даже нереализованными возможностями.
Через несколько дней последовал литовский ответ на польское предложение. То, что больше всего волновало восточных союзников, было высказано открытым текстом. Литовцы понимали, что поляки устали за безрезультатно прошедший месяц сейма и новых витиеватых уверток могли не снести.
«Не меньшее унижение для нас и то, что в этой записке вы, господа, хотите от нас вещей, противных нашим законам и вольностям, – вы хотите, чтобы почести и должности Великого княжества Литовского давались безразлично вам и Литовцам, если у вас будет какаянибудь оседлость в Литве, а иные должности хотите получать даже независимо от оседлости. Какая, господа, нам польза от таких должностей, которых бы Литовец не мог занимать?» Яростной литовской атаке подверглись и другие пункты унии; зажатая со всех сторон врагами, Литва упорно не желала жить в «братской любви» по польским правилам. Она требовала больших прав для себя, чем полагалось Польше.
«Королевство Польское и Великое княжество Литовское вечные времена будут избирать одного общего государя – короля Польского и его же великого князя Литовского, общими голосами, при равном числе избирателей». А ведь население Польши было многочисленнее и по логике должно выставить большее количество избирателей.
«Место избрания должно быть на границе обоих государств, чтобы с равным удобством можно было прибыть на этот акт избрания как господам Полякам, так и господам Литовцам».
«Акт утверждения присягой всех прав, вольностей как королевства Польского, так и Великого княжества Литовского будет дан королевству за печатью королевства, а Великому княжеству Литовскому – за печатью Литовскою».
«Всякая монета должна быть в обоих государствах одинакова и одинакового весу. Поэтому для лучшего порядка в этом деле новая монета и монетный двор могут быть разрешаемы в королевстве и в Литве… притом монета должна быть с надписью великого князя Литовского».
Литовцы продолжали цепляться за все мыслимые и немыслимые атрибуты самостоятельности. Лишь в одном вопросе они выразили безоговорочную готовность объединиться с Польшей:
«О защите. Всегда, на вечные, последующие времена, у обоих эти государств и народов – королевства и Литовского княжества, против всякого неприятеля имеет быть общая защита, какая по взаимному согласию будет обдумана и постановлена, как самая лучшая и самая полезная».
Поляки оставались непреклонны, и их можно было понять. Общую мысль выразил один из участников сейма:
«Если мне придется иметь унию, похожую на тень человека, то на такую унию я и мои избиратели не согласны, потому что я знаю, что меня ждет, когда я соглашусь на унию: я должен буду давать Литве помощь моею жизнью, моим имуществом. Таких жертв я не желал бы приносить, если уния будет такою, какая была до сих пор; но на хорошую унию я соглашусь. Если мы получим такую унию, как обсудили, то мои избиратели охотно согласятся принять на себя вышеуказанные тягости, увидев, что государство распространилось и составляет уже одно целое…» Столкнулись польская и литовская гордыни, но поскольку польская сторона на тот момент была значительно могущественнее, то результат нетрудно предугадать. Поляки не торопились оказывать военную помощь, ничего не получая взамен. Польский сейм, видя безнадежность попыток склонить литовцев к подписанию унии, обратился к королю Сигизмунду. Монарху тоже изрядно надоело затянувшееся дело, и он решил своей высочайшей властью соединить два государства. Вот только объявлять высочайшую волю было некому: 28 февраля королю донесли, что многие литовцы уехали с сейма, а 1 марта последние депутаты покинули Люблин и бежали к себе на родину.
Разозленный король приказал аннексировать часть литовских земель – Волынь, Подлесье, а также отдал Польше свои литовские имения. При этом Сигизмунд пригрозил шляхте присоединенных земель, что если кто откажется присягнуть на верность королю, то лишится своих имений и должностей. Собственно, никто и не собирался сильно сопротивляться: слишком уж манили вольности польской шляхты, а для депутатов от присоединенных земель тотчас же отвели места в польском сенате.
Лишь один человек, владения которого находились на аннексированных землях, отказался принести присягу королю. То был подканцлер Великого княжества Литовского Евстафий Волович. Высокий сановник заявил, «что он уже раз присягал в Литве, что другому государству не может приносить присяги». Спустя некоторое время его примеру последовали подлесский воевода и подлесский кастелян – за что и поплатились своими должностями.
Тем временем жители Бельска и Брянска заявили о своем желании присоединиться к Польше. Тут даже литовские магнаты поняли, что у них нет иного пути, кроме как продолжить переговоры об унии. Чтобы поторопить литовцев с принятием правильного решения, король 5 июня 1569 года объявил о присоединении Киева к Польше. Буря возмущения с литовской стороны по поводу этого акта прошла скоро, и 24 июня, как гласит дневник сейма, «литовцы уже на все согласны».
27 июня польские и литовские депутаты наконец достигли соглашения по унии. Она была принята в первоначальном польском варианте, лишь за немногим смягчением формулировок статей по просьбе литовской стороны.
На следующий день документы были подписаны в торжественной обстановке. 28 июня 1569 года считается днем официального соединения Польши и Литвы в одно государство – Речь Посполитую.
Реванш Речи Посполитой
В 1572 году умирает король Сигизмунд-Август. Он не оставил наследников и потому стал последним правителем из литовской династии Ягеллонов. Начались поиски нового монарха. Они, как правило, были долгими, потому что поляки привыкли устраивать чтото вроде аукциона: какой претендент больше пообещает сделать для Польши, а главное, для шляхты, тот и получал трон. В числе соискателей назывались Иван Грозный и его сын. Впрочем, поляки не рассчитывали много получить от русского царя и потому едва ли рассматривали его кандидатуру всерьез. Но литовцы повели дипломатическую игру… Переговоры разожгли аппетит Ивана Грозного. Их дальнейшее затягивание грозило неприятностями для Литвы, ее земли в случае конфликта попадали под удар, а царь, подозревая, что его водят за нос, потребовал от Речи Посполитой послов для принятия окончательного решения. Поляки игнорировали нетерпение царя, и литовская Рада в начале 1573 года вынуждена была отправить к Ивану от одной себя посла Михаила Гарабурду.
Надо отдать должное Ивану Грозному, он считал нереальной перспективу своего избрания польским королем и даже обрадовался, что в переговоры вступили одни литовцы. Трудное положение Литвы вселяло в него надежду на объединение русских земель под владычеством московского царя.
Михаил Гарабурда изложил царю условия избрания в короли его или сына: прежде всего требовалась гарантия ненарушения прав и вольностей шляхетских; далее Иван должен уступить Литве четыре города – Смоленск, Полоцк, Усвят и Озерище; если же царевич Феодор будет избран в короли, то отец должен дать ему еще несколько городов и волостей.
Царя такие требования изрядно разозлили, но все же он продолжил торг:
«…Ты говорил о подтверждении прав и вольностей: дело известное, что в каких землях какие обычаи есть, отменять их не годится. Ты говорил, чтоб мы возвратили Литве Смоленск и Полоцк, Усвят и Озерище. Это пустое: для чего нам уменьшать свое государство? Хорошо государства увеличивать, а не уменьшать. Для чего я вам дам сына своего, князя Феодора, к убытку для своего государства?.. Корона Польская и Великое княжество Литовское – государства не голые, пробыть на них можно, а наш сын не девка, чтоб за ним еще приданое давать».
И далее Иван Васильевич высказывает свое главное пожелание:
«А если бы Великое княжество Литовское захотело нашего государствования одно, без Короны Польской, то нам еще приятнее. Мы на Великом княжестве Литовском быть хотим: хотим держать государство Московское и Великое княжество Литовское заодно, как были прежде Польша и Литва; титул наш будет, как прежде было сказано; а которые земли литовские забраны к Короне Польской, те будем отыскивать и присоединим их к Литве, кроме одного Киева, который должен отойти к Москве».
Уже перед самым отъездом из Москвы к литовскому послу пришли окольничий Умный-Колычов, думный дворянин Плещеев, дьяки Андрей и Василий Щелкаловы и сказали от имени Ивана:
«Если Великое княжество Литовское хочет видеть его своим государем, то он на это согласен; и будьте покойны, Польши не бойтесь: господарь помирит с нею Литву».
Если бы Москва имела достаточно сил надавить на Литву военной силой, то, возможно, объединение русских земель состоялось бы во времена Ивана Грозного. Но силы оказались растрачены на борьбу с внешними и внутренними врагами. А тем временем поляки, вдоволь поиздевавшись над французским принцем Генрихом, избрали в короли воинственного семиградского князя Стефана Батория. Среди прочего он пообещал отвоевать все земли, отнятые Москвой.
Стефан Баторий принялся исполнять предвыборные обещания даже вопреки желанию подданных. Послы Ивана Грозного Карпов и Головин, вернувшиеся из Польши летом 1579 года, доносили, «что из литовской шляхты идут с Баторием немногие охочие люди, которые захотели идти на своих грошах, а которые не захотели, те нейдут; из польских панов и шляхты никто нейдет, кроме наемных людей. Говорил король панам и шляхте, чтоб шли с ним всею землею к Смоленску или Полоцку; но паны радные королю отговаривают, чтоб он от литовских границ войны не начинал. Король говорил им: если вы сами со мною идти не хотите, то дайте людей, я и без вас пойду; но паны ему отговаривают, чтоб к Полоцку и Смоленску никак не ходил, а стоял бы за Ливонию».
Упрямый венгр много перетерпел от своих подданных, привыкших за несколько столетий пользоваться королями, словно игрушками, однако в деле войны Баторий поступал по собственному усмотрению. «Величие Батория оказалось именно в том, что он успел преодолеть все эти препятствия. Как полководец, Баторий в Восточной Европе произвел тот переворот в способе ведения войны, какой уже давно произведен был на Западе», – восхищается военачальником русский историк. И далее С. М. Соловьев раскрывает причины успеха Батория: «…на престоле Польши и Литвы явился государь энергический, славолюбивый,полководец искусный, понявший, какими средствами он может победить соперника, располагавшего большими, но только одними материальными средствами. Средства Батория были: искусная, закалившаяся в боях наемная пехота, венгерская и немецкая, исправная артиллерия, быстрое наступательное движение, которое давало ему огромное преимущество над врагом, принужденным растянуть свои полки по границам, над врагом, не знающим, откуда ждать нападения».
Первейшей задачей стало отвоевание Полоцка, так как обладание древним городом открывало московитам путь к литовской столице. Объединенное польско-литовское войско, усиленное отрядами немцев, венгров и прочих наемников, приблизилось к Полоцку.
Война была жестокой, словно сражались не братья-христиане, а чуждые друг другу культуры. «В то время как войско направлялось к Полоцку, – рассказывает Рейнгольд Гейденштейн, – московиты умертвили мучительным образом польских и литовских пленников, которых с давнего времени держали в тяжелых оковах, и, привязав их трупы к бревнам, они спустили их по реке Двине навстречу шедшим, полагая тем возбудить в них ужас». Они лишь добавили решимости осаждавшим. Войско Батория изза бездорожья лишилось подвоза провианта; поляки и венгры ели трупы падших лошадей, но все равно продолжали упорно штурмовать неприступные стены.
Однажды едва не погиб Стефан Баторий, ядро сразило всадника «подле самого короля». Наконец полусожженный город был взят. «Прежде всего, король хотел совершить богослужение и принести за настоящую победу благодарность Богу, но не мог войти в город вследствие сильного запаха от разбросанных повсюду трупов…» Если осажденные безжалостно уничтожали пленных, а попавших и их руки немцев варили в котлах заживо, то Стефан Баторий проявил к пленным невиданную милость. Он не только сохранил им жизни и отпустил на свободу, но лично защищал имущество врагов от мародеров. «Король приложил величайшее старание, чтобы они не подвергались обидам со стороны солдат, и сам с крепости смотрел на уходивших; когда же один солдат, надеясь в толпе остаться незамеченным, стал некоторых грабить, то король бросился на него с булавою и прибил его. Такой поступок короля внушил неприятелям большое уважение к нему; чем больше до сих пор милость, верность (данному обещанию) неизвестны были людям, находившимся в крайнем порабощении, тем более удивлялись они в нем этим добрым качествам».
Не столько христианским состраданием руководствовался Баторий; у него были далеко идущие планы на русской земле, и превосходный не только военачальник, но и политик играл в доброго царя – в противовес злому Ивану Грозному.
Старания польского короля оказались напрасными; война повелась без жалости и пощады – и с обеих сторон. При взятии небольшого городка Сокола отличилось разноплеменное войско Батория. Немцы, «желая отомстить за бедствия, претерпеваемые их соплеменниками в продолжение стольких лет от московской свирепой жестокости, новейший образец которой мы недавно видели при взятии Полоцка, умертвили всех и в том числе Шеина. Оставшиеся в крепости на коленях стали просить о пощаде, но при вторжении немецких солдат, убивавших без разбора всех, отчаявшись в спасении, опустили подъемную решетку, висевшую над воротами сверху, и перебили до 500 немцев, заперев их в крепости. Между тем Разражевский и некоторые немцы и поляки скоро разломали ворота, и когда последние были открыты, тогда одна часть защитников была перебита, другая, отчаявшись во всем, сгорела, бросившись в пламя. Повсюду происходило великое убийство, так что многие и, между прочими, Вейер, старый полковник, говоря о своем участии во многих сражениях, не задумывались утверждать, что никогда ни в одном месте битвы не видели они, чтобы так густо и тесно друг с другом лежали трупы. Многие из убитых отличались тучностью; немецкие маркитантки, взрезывая такие тела, вынимали жир для известных лекарств от ран, и между прочим это сделано было также у Шеина».
В 1580 году Стефан Баторий совершил новый поход против Московии. Выдающийся стратег до последнего момента скрывал направление главного удара: назначенное для войска место сбора находилось на равном расстоянии от Великих Лук и Смоленска. Учитывая давнее стремление Речи Посполитой вернуть Смоленск, воинственного короля московиты ждали именно под его стенами, а поляки упорно желали продолжать войну в Ливонии, но просчитались все. Баторий решил отрезать Ливонию от Московии и таким образом убить сразу несколько зайцев.
Польско-литовскому войску, как обычно усиленному разноплеменными наемниками, удалось довольно легко овладеть Великими Луками, Велижем, Усвятами и в следующем году подойти к Пскову. Город успел подготовиться к встрече: по данным польской стороны, его защищало до 7000 конницы и до 50 000 пехоты, а включая городских жителей, которые несли воинскую службу, Баторию противостояло до 100 000 человек. Король скоро понял, что на пути встало неодолимое препятствие, но почти пять месяцев потратил на его осаду, надеясь либо на ошибку врага, либо на чудо. Однако чуда не произошло.
Героическая оборона Пскова смогла остановить опасного врага, но в целом Ливонская война для Москвы была проиграна. В январе 1582 года было заключено Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой. Россия отказывалась от Ливонии и земель Великого княжества Литовского (включая Полоцк), завоеванных Стефаном Баторием во время первого похода. Великие Луки и близлежащие городки были возвращены Московии.
Стефану Баторию удалось остановить процесс поглощения Москвой Великого княжества Литовского. Он лишил Москву завоеваний в Ливонии, и вновь Россия начнет мечтать о Балтийских берегах лишь при Петре I. Лишь одной победы не смог одержать воинственный король – не удалось ему победить своеволие собственных подданных, которое в итоге и погубило великую державу.
Как когдато римские историки восхищались гением их заклятого врага – Ганнибала, так истинный патриот России С. М. Соловьев не может удержаться от лестных слов в адрес короля, доставившего множество неприятностей его родине:
«Баторий принадлежал к числу тех исторических лиц, которые, опираясь на свои личные силы, решаются идти наперекор уже установившемуся порядку вещей, наперекор делу веков и целых поколений, и успевают вовремя остановить ход неотразимых событий; эти люди показывают, какое значение может иметь в известное время одна великая личность, и в то же время показывают, как ничтожны силы одного человека, если они становятся на дороге тому, чему рано или поздно суждено быть. Явившись случайно на польском престоле, Баторий предположил себе целью утвердить могущество Польши, уничтожив могущество Московского государства, и, повидимому, достиг своей цели: победил, унизил Иоанна IV, отнял у него балтийские берега, обладание которыми было необходимым условием для дальнейшего преуспения, для могущества Московского государства; но когда он вздумал нанести этому государству решительный удар, то внутри собственной страны встретил тому препятствия, приготовленные веками и сокрушить которые он был не в состоянии: то было могущество вельмож, преследующих свои личные цели и согласных только в одном стремлении – не давать усилиться королевской власти».
Лев Сапега
Как мы видели, образование Великого княжества Литовского произошло без кровопролитных битв и сожженных городов, настолько тихо и мирно, что даже летописцы в основном пропустили это событие. Однако и далее множество судьбоносных событий решалось не острием меча, но кончиком пера. Умнейшие образованные люди как солдаты из сказочной табакерки появлялись на политическом небосклоне Великого княжества Литовского и упрямо вели государство, окруженное могущественными врагами, словно корабль между Сциллой и Харибдой. Одним из таких лоцманов был Лев Сапега.
Его страсть к знаниям может служить примером для всех, кто стремится достичь в жизни какихлибо высот. В семилетнем возрасте он стал учеником частной школы при дворе князя Николая Радзивилла Черного. Образовательный уровень заведения был весьма высок: здесь изучали философию и богословие, иностранные языки и литературу. В тринадцать лет Сапега мог изъяняться, кроме родного, на немецком, польском, латинском и греческом языках. Затем он продолжил обучение в Германии, в Лейпцигском университете. Юная душа жадно впитывала все: идеи Платона и Аристотеля, вольнолюбивые веяния Реформации и европейского Возрождения.
После окончания Лейпцигского университета Сапега остался наедине со своими знаниями и мечтами. Он желал быть полезным отечеству, но не представлял, где его место. Тем более сложно было устроиться на службу, что за время, проведенное в Европе, Лев успел вдохнуть полной грудью воздуха свободы. «До этого времени не умел подхалимничать, а учиться уже поздно…» – жалуется Сапега в письме Крыштофу Радзивиллу.
Радзивилл помог юноше необычным способом. Он послал Сапегу к Стефану Баторию – королю Речи Посполитой по мелким имущественным делам. Расчет оказался верным: Сапега попал на прием к монарху; его безукоризненное владение латынью, рассудительность, блестящая образованность были замечены Баторием. 23летний Лев Сапега получает должность королевского писаря, а в следующем году назначается писарем Великого княжества Литовского.
В 1584 году король поручает 27летнему Сапеге возглавить посольство в Москву, целью которого было достижение мирного соглашения. Сапегу сопровождало 275 человек прислуги и охраны; также с ним двигались купцы, которые везли товары на 177 возах.
Свою миссию Сапега исполнял в труднейших условиях. Когда посольство находилось в пути, умер царь Иван Грозный. Бояре дрались между собой за власть, черный люд занялся грабежами и поджогами богатых дворов и торговых лавок, Московия погружалась в хаос. В такой ситуации с людьми Сапеги не церемонились.
Сапега выказал твердость невзирая на то, что он и все посольство подвергались опасности. По словам С. М. Соловьева, «Лев Сапега, с целью застращать новое московское правительство, объявил, что султан приготовляется к войне с Москвой; требовал, чтобы царь дал королю 120 тысяч золотых за московских пленников, а литовских освободил без выкупа на том основании, что у короля пленники все знатные люди, а у царя простые; чтоб все жалобы литовских людей были удовлетворены и чтоб Федор исключил из своего титула название Ливонского».
Новый царь и его погрязшие в склоках бояре меньше всего хотели воевать с энергичным Стефаном Баторием и потому пошли на многие уступки. От титула царя Ливонского Федор не отказался, мотивируя тем, что он достался от отца, а вот 900 литовских пленников, которые не чаяли остаться в живых, были отпущены на свободу. Между Речью Посполитой и Москвой было заключено перемирие сроком на десять лет.
Дипломатический успех Сапеги был оценен и вознагражден королем. В феврале 1585 года он получает должность подканцлера Великого княжества Литовского, а в июле 1586 года назначается пожизненным старостой Слонимского воеводства – доходы с которого шли непосредственно Сапеге. То были последние милости могущественного покровителя: 12 декабря 1586 года король Стефан Баторий умер.
К этому времени Лев Сапега имел опыт, общественное положение и мог не только обходиться без покровителя, но сам делал политику Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, да и всей Восточной Европы.
Во времена бескоролевья положение Великого княжества Литовского было сложным, ситуацией собиралась воспользоваться Москва. И тогда политик предлагает фантастический план объединения Польши, Великого княжества Литовского и Московского государства в одну федерацию с единым королем. Возглавить супердержаву было предложено царю Федору Ивановичу.
Почему Сапега с легкостью предложил общий скипетр московскому царю? Сохранился портрет русского государя в письме Сапеги к папскому легату Болоньетти от 10 июля 1584 года: «Великий князь мал ростом; говорит он тихо и очень медленно; рассудка у него мало, или, как другие говорят и как я сам заметил, вовсе нет. Когда он во время моего представления сидел на престоле во всех царских украшениях, то, несмотря на скипетр и державу, все смеялся. Между вельможами раздоры и схватки беспрестанные; так и нынче, сказывали мне, чутьчуть дело не дошло у них до кровопролития, а государь не таков, чтобы мог этому воспрепятствовать». В общем, при таком короле Сапега мог надеяться и далее проводить нужную ему политику.
Русский царь некоторое время был озадачен грандиозным планом, а затем включился в соперничество за польский трон. Но там вели ожесточенную борьбу два более реальных конкурента: шведский королевич Сигизмунд Ваза и брат австрийского императора – эрцгерцог Максимилиан.
Идея объединения Польши, Великого княжества Литовского и Московии позволила некоторым исследователям представить Льва Сапегу сторонником идеи панславинизма – то есть объединения всех славянских государств. Но… Блистательный политик не мог не понимать, что народы Великого княжества Литовского и Московии, несмотря на родственность языка и религии, за времена оторванности друг от друга приобрели настолько разные взгляды на жизнь, что объединение могло произойти не иначе как через завоевание одного государства другим. Шляхта и магнаты Речи Посполитой, вырывавшие права и вольности у каждого нового короля, никогда бы не согласились добровольно жить по законам Москвы. Льву Сапеге просто необходимо было выиграть время. Он был настоящим господином ситуации и даже неблагоприятные моменты умел обратить в свою пользу, а заботился политик по большому счету только о Великом княжестве Литовском. Последующие события это подтвердят.
Сапега в полной мере воспользовался и польской неурядицей – вполне обычной в период междуцарствия, когда один король умирает, а выборы следующего растягиваются на долгие месяцы. В это время он возглавлял комиссию по подготовке третьего Статута Великого княжества Литовского. За девятнадцать лет до этого состоялось соглашение с Польшей, получившее название Люблинской унии, которое многие литовцы продолжали считать национальным позором. Фактически новый Статут позиционировал Великое княжество Литовское как независимое государство, имеющее собственные законы и атрибуты власти, а Речь Посполитая становилась федерацией двух держав.
Литовский свод законов был составлен таким образом, что мог вызвать только ненависть поляков, но Сапега хитроумным способом заставил признать его.
Литовцы поддержали Сигизмунда Вазу накануне решающей битвы с Максимилианом. Послы Великого княжества Литовского – Глебович и Сапега – находились в это драматическое время при его дворе, однако не спешили решать с ним свои вопросы.
«Литовцы сознательно затягивали переговоры, – описывает дальнейшие события В. Чаропка. – Война между Сигизмундом и Максимилианом еще не закончилась. Если б победил Максимилиан, то все договоренности с Сигизмундом утратили б свою силу. Не стоило спешить. Глебович и Сапега внимательно следили за событиями. Литовские шпионы находились в двух враждующих войсках. Все время оттуда шли вести. Приближалась решающая битва. Литовцы сделали все возможное, чтобы иметь новости с поля битвы раньше, чем Сигизмунд и его окружение. По дороге в Краков стояли смены лошадей. Свои действия литовцы сохраняли в тайне. Наконец, 24 января под местечком Бычина в Силезии состоялась решающая битва. Войско Яна Замойского разгромило войско Максимилиана. Эрцгерцог попал в плен. Литовские шпионы понесли эту весть в Краков. Не отдыхали, меняли коней – и в путь. На полтора дня опередили они польских вестников. Глебович и Сапега единственные в Кракове узнали о победе Замойского. Вот он подходящий момент для удара в этой напряженной и хитрой дипломатической битве. 27 января литовское посольство заявило, что если Сигизмунд и польский коронационный сейм не примут условий Великого княжества, то послы, не признав Вазу великим князем, покинут Краков. Ультиматум!
Решительность литовцев испугала Сигизмунда и его приближенных. Не зная о победе Замойского и испугавшись перехода Литвы на сторону Максимилиана, коронационный сейм уступил литовским требованиям и вынудил признать их и Сигизмунда. Таким образом Сигизмунд… обещал передать половину Ливонии Литве и без изучения и обсуждения утвердил Статут. Это была одна из самых ярких побед в истории литовской дипломатии… Кода же вечером поляки узнали о поражении Максимилиана, то уже поздно было чтото менять – дело было сделано, Литва добилась своего… В тот же день литовское посольство от имени Великого княжества Литовского принесло клятву Сигизмунду Вазе как великому князю Литовскому. В свою очередь и Сигизмунд дал клятву послам в сохранении и преумножении прав, свобод и вольностей княжества. А 28 января он утвердил и Статут…» Этот Статут действовал 252 года и был отменен лишь в 1840 году при Николае I.
Сапега был разным: коварным и благородным, бескомпромиссным и склонным учитывать чужие мнения, щедрым и бережливым, – но всегда высшим мерилом для него была общественная польза. В донесении королю Сигизмунду о делах московских Сапега выражает свое видение благополучного государства:
«В обществе благоустроенном позволительно быть другом или сродником, но прежде всего должно быть гражданином; разум и опыт согласны в том между собою. Величие Греции и Рима с тех пор поколебалось в основании своем, как начали уклоняться от строгого наблюдения сей истины и перетолковали ее наоборот; гибельны были следствия такового заблуждения. Скоро выгоды частные взяли перевес над выгодами общественными, голос любви к отечеству замолк перед голосом корысти; повреждение нравов не мешало порыву страстей, число продажных душ увеличивалось, потухла любовь к отечеству в Греции, в Риме не видать стало ничего римского; наконец преступления и пороки, терпимость злодеяния и бесчеловечия приблизили мгновение совершенного разрушения толикой славы этих колоссов, которая и теперь еще нас изумляет. Так отмщевает истина за пренебрежение законов справедливости!»
Союз христианских церквей
9 октября 1596 года на церковном соборе в Бресте был подписан документ, провозгласивший объединение католической и православной церквей на территории Великого княжества Литовского. Давняя мечта лучших умов человечества о воссоединении христиан сбылась (по крайней мере, в границах одного государства).
Великое княжество Литовское с начала своего существования было государством, чрезвычайно пестрым в религиозном плане. Веротерпимость охранялась государством, но одних лишь его усилий было недостаточно для избегания конфликтов на религиозной основе. Толерантность укоренялась в умах и простолюдинов, и представителей знати.
Обычным явлением стали браки между православными и католиками, лютеранами, кальвинистами… Общество перемешивалось задолго до знаменитого акта унии. Исследователь этого процесса в религиозной жизни Великого княжества Литовского С. А. Подокшин приводит следующий факт о главе православной антиуниатской партии Константине Острожском:
«Его отец – великий гетман Великого княжества Литовского К. И. Острожский, который прославился победой в битве под Оршей (1514 год), – происходил из туровских князей, мать – княгиня Александра Слуцкая, жена – дочь краковского каштеляна Софья Тарновская – католичка, сын Януш – также католик, дочери – замужем за протестантами Христофором Радзивиллом, Янушем Кишкой. Таким образом, надо было вернуть мир в общество, согласие в семьи, и многие надеялись, что это может сделать уния».
Православная церковь Великого княжества Литовского имела свои особенности. Она лояльно относилась к прочим христианским конфессиям и к новым демократическим веяниям, которые мощным потоком шли с Запада.
«Характер западного, белорусско-украинского, православия очень метко подметил русский православный князь– эмигрант Андрей Курбский, – анализирует тот же С. А. Подокшин. – В своих посланиях к Ивану Грозному Курбский отмечал, что православное сообщество Великого княжества Литовского существенно отличается от московского, потому что здесь в почете не только богословие, но и светские науки, философия, логика». То есть западное православие было вполне готово к трансформации, вроде союза с католиками. Пытливый ум жаждет изменений, новизны; лишь равнодушный к познанию человек может довольствоваться застывшими догмами и не желает ничего менять ни в себе, ни вокруг себя. Возрождение привело к возникновению новых христианских течений: англиканства, кальвинизма, лютеранства, – и в этой связи уния православных и католиков не кажется таким уж удивительным и необычным явлением.
Казалось, православный мир Великого княжества Литовского должен был тянуться к восточной соседке – духовная общность предполагала такое явление. Но… Западное православное духовенство принимало материальную помощь Москвы, пользовалось дипломатической поддержкой, но не стремилось к тесному союзу. Более того, восточная сестра пугала и невольно отталкивала западных православных концепцией истинного единого православия, которое должно существовать непременно под эгидой московского патриарха. А над патриархом, согласно византийской традиции стоял царь. Пугал и жестокий диктат, произвол самодержавия, тем более неприемлемый в сравнении с веками поощрявшейся гражданской и религиозной свободой, охраняемой правовыми нормами и сложившимися традициями. Православный мир Великого княжества Литовского отнюдь не стремился оказаться под властью московского самодержавия, не терпящего никакого другого мнения, кроме собственного. Инкорпорация, даже в духовном плане, не устраивала западное православие до такой степени, что оказался предпочтительнее союз с католическим Римом.
Еще один момент… В XVI веке православная церковь фактически не имела единого центра. Номинально православный мир подчинялся константинопольскому патриарху. Последний находился в полной власти у турецкого султана и не осуществлял практического руководства церковью: для отца церкви главной была проблема собственного выживания. Естественно, такой патриарх не мог пользоваться большим уважением паствы.
Само западное православное духовенство порядком растеряло авторитет у прихожан своим стяжательством. Для XVI века характерны позорные имущественные процессы в среде духовенства, на которых в конечном итоге наживались королевские и великокняжеские чиновники.
В 1534 году полоцкий воевода судил монахов Предтеченского монастыря с их архимандритом; монахи жаловались, что архимандрит берет себе следующую им половину доходов. Архимандрит оправдывался тем, что когда полоцкий воевода или его урядники приезжали в монастырь, то архимандрит и чернецы вместе их угощали и одаривали, но затем чернецы не перестали помогать ему в приеме пана воеводы.
В 1540 году девятью шляхтичами, четырьмя мещанами и возным рассматривалась жалоба монахов Уневского монастыря на львовского епископа Макария, поданная королю и митрополиту. Макарий оправдался, но потом признался, что дело это стоило ему двадцати волов, которых он подарил пану Краковскому. Монахи, в свою очередь, были вынуждены сознаться, что жаловались на епископа только для того, чтоб высвободиться изпод его управления вопреки королевской грамоте, по которой монастырь их был отдан в управление Макарию.
Через пятнадцать лет, в 1555 году, в криминальных хрониках Средневековья возникает все тот же Уневский монастырь; его архимандрит жаловался митрополиту Макарию на грабительство львовского епископа Арсения.
В дела церкви активно вмешивалась светская власть, что никому не шло на пользу. «В 1554 году митрополит Макарий жаловался королю, – рассказывает С. М. Соловьев, – что княгиня Слуцкая приказывает наместникам своим вступаться в дела духовные, судить священников, сажать их в заключение, разводить мужей с женами; когда митрополит за двукратную неявку к суду запретил отправлять службу слуцкому архимандриту Никандру, то последний митрополичьей грамоты не захотел и читать, служку, присланного с нею, прибил, а сам прибегнул к покровительству княгини Слуцкой, которая за него заступилась. Король запретил княгине подобные поступки». Речь здесь идет о воинственной княгине Слуцкой, которая участвовала в походе Стефана Батория на Московию. Шляхетская греховная гордыня не исчезала с принятием духовного сана: в 1548 году полоцкий архиепископ Симеон подал жалобу королю на митрополита Макария, что тот поставил его ниже владыки Владимирского.
Печальные события происходили даже в такой православной святыне, как Киево-Печерски монастырь. «В 1522 году вследствие челобитной, – описывает события С. М. Соловьев, – поданной королю Сигизмунду I монахами Киево-Печерского монастыря, восстановлена была у них община, которая пала от обнищания монастыря после татарских нашествий. Но восстановленная община существовала только при одном архимандрите Игнатии, преемники которого уничтожили ее для своих выгод, отдавая доходы монастырские детям своим и родственникам. Монастырь начал приходить в упадок, и старцы в половине века снова обратились к королю Сигизмунду-Августу с просьбою о восстановлении общины». Королю пришлось регламентировать жизнь монастыря, чтобы вновь избежать его разорения. Среди рекомендаций числятся и такие: «за погребение монахи должны брать то, что им дадут, а не торговаться», «монах, желающий выйти из монастыря, келью свою не продает, берет только движимое имущество», «чернецы не могут держать у себя бельцов, мальчиков и никакой живности».
Идея объединения христианства много столетий витала над миром, и впервые материализовалась во Флорентийской унии 1439 года. Однако слишком сильными оказались обстоятельства, которые препятствовали союзу Константинополя и Рима, а скорая гибель Византии отодвинула грандиозный проект. Ему было суждено возродиться на территории Великого княжества Литовского. Толерантная земля Великого княжества оказалась благодатной почвой. Горький опыт Флорентийской унии был учтен на землях Великого княжества Литовского, новый церковный союз пытался удовлетворить интересы двух сторон как можно более полно – без широких компромиссов он просто бы не состоялся. Собственно, потому уния и осуществилась, что религиозно пестрое население Великого княжества Литовского привыкло искать компромиссы и знаковый союз был воспринят, как один из путей решения проблем совместного проживания.
Интересно отношение к унии канцлера Великого княжества Литовского. Сапега неоднократно демонстрировал религиозную всеядность. Во время учебы в Лейпцигском университете он сменил свое православное вероисповедание на протестантское (кальвинизм). В 1586 году Сапега переходит из кальвинизма в католичество; на этот раз его религиозные воззрения не имели значения – католику было проще сделать политическую карьеру. На церковном соборе он выступил с пламенной речью в защиту унии.
Лев Сапега понимал, что с подписанием унии не установится сразу мир между католиками и православными, что создание национальной церкви – это долгий и трудный процесс. И это при том, что многие из знати не поняли значение унии, еще меньше понимания было у крестьян и горожан. Но Сапега проявлял истинно христианское терпение и твердо придерживался им же написанного Статута. В. Чаропка пишет по этому поводу: «На своем примере Сапега показывал идеал, как он это понимал, межконфессиональных отношений».
В то время, когда увеличивалась в Речи Посполитой нетерпимость к иному вероисповеданию, когда православный Константин Острожский называл папу антихристом и угрожал католикам и униатам войной, когда католик Юрий Радзивилл жег Библию, напечатанную его отцом-протестантом, когда униат Кунцевич закрывал православные церкви, Сапе– га строит и католические, и униатские, и православные храмы, основывает при них школы, издает православную литературу. Грозно звучит предупреждение Сапеги тем, кто сеял рознь между христианами: «Каждого такого я сейчас вызываю на суд Божий страшный, и с ним на том на страшном суде Христовом судиться хочу, где ему это пусть не будет прощено».
Ревностный проводник унии – могилевский архиепископ Юзафат Кунцевич проповедовал соединение церквей не только словом, но и делом. Он закрыл православные церкви в своей епархии. Сапега почувствовал, что ничем хорошим такое усердие не закончится. В письме к Кунцевичу от 12 марта 1621 года он настоятельно советует отказаться от насилия и не насаждать унию принудительно.
Архиепископ не услышал мудрые слова канцлера, православных в епархии Юзафата Кунцевича все так же встречали заколоченные двери церквей. Кончилось тем, что в 1623 году восстали жители Витебска и убили Кунцевича, а также несколько человек из его окружения.
Лев Сапега считал, что в происшедшем более всего виновен сам растерзанный могилевский архиепископ, но закон есть закон, и убийцы должны быть наказаны. Канцлер сам возглавил комиссию по розыску виновных. Двадцать человек было приговорено к смертной казни.
Канцлер литовский и Смутное время России
В 1601 – 1603 годах Россию поразил страшный голод, жертвами которого стало около полумиллиона человек. Крестьяне объединялись в разбойничьи ватаги и таким образом добывали себе пропитание. Россия напоминала пороховую бочку, когда в 1604 году в Польше появился молодой человек и объявил себя чудесным образом спасшимся царевичем Дмитрием сыном Ивана Грозного. Появился очень вовремя… «Доцарская» жизнь Лжедмитрия I полна разноречивых сведений. Впрочем, достаточно ясно, что без поддержки сильной руки подобная авантюра была бы не по плечу юноше, еще недавно безвестному, не обладавшему авторитетом ни в каких кругах, ни в какой стране. Талантливый кукловод подготовил сцену и зрительный зал для появления этого чертика из табакерки.
Опытный следователь начинает разматывать клубок преступления с постановки вопроса: кому это выгодно? В нашем случае ослабление Московской Руси с любыми последствиями было выгодно в первую очередь ее извечному сопернику – Великому княжеству Литовскому. А здесь у руля находился наш старый знакомый – канцлер Лев Иванович Сапега.
В октябре 1600 года в Москву прибыло посольство; его задачей было заключение мира между Речью Посполитой и Россией.
Посольство возглавил канцлер – номинально второе лицо в Великом княжестве Литовском по должностному рангу, а фактически первое. Даже для миссии заключения вечного мира – это уж слишком. Другое дело, если у посольства имелись другие цели. И действительно, Лев Сапега вновь принялся зондировать фантастическую идею: объединения в одно государство Польши, Литвы и Московской Руси. Канцлер предложил царю примерно такие же условия, на которых была заключена Люблинская уния между Польшей и Литвой.
Борис Годунов, недавно избранный царем и чувствовавший себя неуверенно, не мог решиться на подобный шаг. Впрочем, в проекте Сапеги были статьи, согласиться на которые русские в принципе не могли. Например, такая: «Тем русским, которые приедут в Польшу и Литву для науки или для службы, вольно держать веру русскую; а которые из них поселятся там, приобретут земли, таким вольно на своих землях строить церкви русские. Тем же правом пользуются поляки и литовцы в Московском государстве, держат веру римскую и ставят римские церкви на своих землях».
Восточнорусское православие в отличие от западного, литовского, не терпело никаких компромиссов в вопросах веры, а католиков в Москве считали более вредоносными, чем протестантов и даже мусульман.
Московские власти долго и упорно торговались изза Ливонии, они хотели вернуть хотя бы часть ее. Сапега, чтобы исключить эту территорию как предмет для обсуждения, сказал, что не имеет полномочия говорить о ней. Думный дворянин Татищев на это закричал: «Не лги, мы знаем, что у тебя есть полномочие».
Сапега ответил ему в тон – совсем не дипломатично. Он видел, что проект провалился, и быть любезным более не имело смысла. «Ты, лжец, привык лгать, я не хочу с таким грубияном ни сидеть вместе, ни рассуждать об делах». С последними словами Сапега встал и вышел.
Переговоры всячески затягивала московская сторона, потому что параллельно шел торг со шведскими послами. Еще в начале визита послов Речи Посполитой не допускали к царю под предлогом, что «у государя болит большой палец на ноге».
Лишь в августе 1601 года посольство оставило Москву и тронулось в обратный путь. Долгие и трудные переговоры окончились подписанием двадцатилетнего перемирия. Литовский канцлер уезжал сильно озлобленным на принимавшую сторону. Его идея не материализовалась, но Сапега не такой человек, чтобы отказываться от мечты, пусть даже самой фантастической. При этом он мог изменить способы ее воплощения, мог изменить действующих лиц в давно задумнной пьесе.
Однажды при дворе князя Адама Вишневецкого возникает молодой человек и открывает страшную тайну: он – царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного – чудесным образом спасшийся в Угличе. Он настолько убедительно рассказывал историю своей необыкновенной жизни, что, пожалуй, сам уверовал, что является царским сыном. Люди здравомыслящие приняли бы его рассказы за розыгрыш, однако поверили все, кому поверить было необходимо – в том числе князь Вишневецкий.
Подтверждение, так сказать, подлинности царевича Дмитрия поразительно вовремя пришло от самого влиятельного человека Великого княжества Литовского. Рассказывает польский хронист Иосиф Будило: «В это время приехал в Жуловцы к князю Константину Вишневецкому слуга канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги и сообщил, что служил в Угличе у царевича Димитрия, что у царевича были знаки на челе, а когда увидел их на Димитрии [самозванце], то признал в нем настоящего сына великого князя Московского Ивана Васильевича, Димитрия Ивановича».
«…Вопрос: кем же был подставлен самозванец? – рассуждает С. М. Соловьев. – Кто уверил его в том, что он царевич Димитрий? Кому было выгодно, нужно появление самозванца? Оно было выгодно для Польши, Лжедимитрий пришел отсюда, следовательно, он мог быть подставлен польским правительством. Кого же мы должны разуметь под польским правительством? Короля Сигизмунда III? Но характер последнего дает ли нам право приписать ему подобный план для заведения смут в Московском государстве? И осторожное, робкое поведение Сигизмунда в начале деятельности самозванца дает ли основание предполагать в короле главного виновника дела? План придуман кемнибудь из вельмож польских? Указывают на Льва Сапегу, канцлера литовского. Сапега два раза был в Москве послом: один раз – при царе Феодоре, другой – при Борисе, и в последний раз приехал из Москвы с сильным ожесточением против царя; когда самозванец объявился у князя Вишневецкого, то Петровский, беглый москвич, слуга Сапеги, первый явился к Вишневец– кому, признал Отрепьева царевичем и указал приметы: бородавки на лице и одну руку короче другой. Потом Сапега является сильным поборником планов Сигизмунда против Москвы, ожесточенным врагом нового царя Михаила, восшествие которого расстраивало его планы; в царствование Михаила, до самой смерти своей, держит под рукою, наготове, самозванца, несчастного Лубу, как орудие смут для Москвы. Любопытно, что и наш летописец злобу поляков и разорение, претерпенное от них Московским государством, приписывает раздражению Льва Сапеги и товарищей его за то, что они видели в Москве много иностранного войска. Наконец, некоторые рассказывают, что после сражения при Добрыничах самозванец издал манифест, в котором, между прочим, говорил, что был в Москве при посольстве Льва Сапеги; такого манифеста, впрочем, не сохранилось, и в дошедшем до нас ни слова не упоминается об этом обстоятельстве. Как бы то ни было, если заподозрить когонибудь из вельмож польских в подстановке самозванца, то, конечно, подозрение, прежде всего, должно пасть на Льва Сапегу…» Польский историк Г. Люлевич считает, что Лев Сапега еще при Стефане Батории «принадлежал… к кругу людей, формировавших политику Речи Посполитой относительно Москвы и одновременно был доверенным исполнителем королевских планов в этой области».
Современные исследователи называют Льва Сапегу крестным отцом русской Смуты и даже подозревают, что он содержал целый инкубатор российских лжецарей. Жак Маржерет, служивший Лжедмитрию I, передает ходившие слухи о самозванце, в доцарской жизни Григории Отрепьеве:
«Те же, кто считают себя самыми проницательными, как иностранцы, знавшие его, так и прочие, приводят суждение, что он был не русским, но поляком, трансильванцем или другой национальности, взращенным и воспитанным для этой цели». Собственно, склонные к бунту казаки могли последовать за простым монахом Отрепьевым, но нужно иметь совершенно другой уровень, чтобы поверили бояре и князья – потомки Рюриковичей и Гедиминовичей. «Итак, – рассуждает француз, – если он был поляк, воспитанный с этой целью, то нужно было бы в конце концов знать кем; притом я не думаю, чтобы взяли ребенка с улицы, и скажу мимоходом, что среди пятидесяти тысяч не найдется одного способного исполнить то, за что он взялся в возрасте 23 – 24 лет».
Французский наемник, охранявший царя, поверил, что Дмитрий Иванович – настоящий царь. Что ж, значит, образ сработан профессионалами, и, если невозможно подобрать актера на эту роль среди пятидесяти тысяч, значит, Сапега и иезуиты выбирали его из ста тысяч.
А вот мнение авторов современного учебника для вузов:
«Ряд исследователей высказывает предположение, что сам Отрепьев искренне уверовал в свое высокое происхождение и лицедействовал с внутренней убежденностью». Обладать такой убежденностью мог только человек, которого с детства готовили на должность царя.
Адам Вишневецкий передал новоявленного царевича Дмитрия сандомирскому воеводе Юрию Мнишеку. Юноша попал в надежные руки: он воспылал страстью к старшей дочери воеводы – Марине. Самозванец ради нее был готов на все: принял католичество, пообещал тотчас по вступлении на престол выдать Мнишеку миллион польских золотых, а Марине прислать бриллианты и столовое серебро из казны царской; отдать Марине Великий Новгород и Псков со всеми жителями, местами, доходами в полное владение. Юрий Мнишек милостиво дал согласие на обручение дочери и Дмитрия, но со свадьбой не спешили – она должна была состояться в Москве, после воцарения будущего зятя.
Король Сигизмунд внешне не принял никакого участия в судьбе Лжедмитрия и даже постарался отгородиться от самозванца. Но интерес к воскресшему чудесным образом царевичу у короля и магнатов был огромен; на сейме в 1605 года долгое время обсуждался вопрос: оказывать ли содействие Дмитрию? Предприятие было слишком рискованным, Речь Посполитую на тот момент связывало мирное соглашение с Москвой; нарушать нормы международного права, когда в затылок дышала враждебная Швеция, когда с юга не давали покоя турки, было опасно.
Естественно, никто из власть имущих в Речи Посполитой не поверил в подлинность Дмитрия. По этому вопросу наиболее ярко высказался коронный канцлер и гетман Ян Замойский: «Что касается личности самого Димитрия, который выдает себя за сына известного нам [царя] Ивана, то об этом я скажу следующее: правда, что у Ивана было два сына, но тот – оставшийся, за которого он выдает себя, как было слышно, был убит. Он говорит, что вместо него задушили когото другого: помилуй Бог! Это комедия Плавта или Теренция, что ли? Вероятное ли дело: велеть коголибо убить, а потом не посмотреть, тот ли убит, кого приказано убить, а не ктолибо другой! Если так, если приказано лишь убить, а затем никто не смотрел, действительно ли убит и кто убит, то можно было подставить для этого козла или барана».
Тем не менее тот же Замойский советует зорко следить за действиями «Дмитрия»: «По моему мнению, следовало бы как можно скорее послать когонибудь туда [к войскам самозванца], и узнать, что там делается, потому что мне кажется невероятным, чтобы там до сих пор не случилось какоголибо важного события».
Таким образом, магнаты приняли единственно верное решение: не вмешиваться в русские события и терпеливо ждать их развязки. Король и здесь оставил для себя лазейку: он не утвердил постановления сейма, которые запрещали подданным Речи Посполитой поддерживать самозванца и предписывали наказывать их за это. Тем временем паны, охочие до всякий воинских забав, точили сабли и на свой страх и риск отправлялись под знамена «царевича Дмитрия».
После провала предприятия ничто не мешало королю отмежеваться от неудачно завершившейся аферы. В речи Льва Сапеги на Варшавском сейме (1611 год) утверждается, что король «запрещал, рассылал универсал, чтобы люди не ходили с ним». Вроде бы все так и было, но если король чтото и запрещал, то уж точно не наказывал нарушивших его запрет.
Польские шляхтичи были падки на всякого рода приключения, Юрию Мнишеку удалось собрать для будущего зятя войско в 1600 человек. Еще больше желающих поучаствовать в авантюре нашлось в русских землях. Доские казаки, прослышав о появлении нового царя, направили в Польшу двух атаманов. Тем понравился Лжедмитрий, казаки признали его государем словом и делом: войско претендента на московский трон увеличилось на 2000 человек – причем таких, для которых война, грабеж были единственными занятиями.
В октябре 1604 года войско Лжедмитрия (примерно в 4000 человек) пересекло границу Великого княжества Литовского и Московского княжества. Как ни удивительно, перед малочисленной армией один за другим распахивали ворота города: Чернигов, Путивль, Рыльск, Кромы… Численность его войска вскоре достигла 15 000 человек. Борис Годунов был в панике, казалось, Провидение мстило ему за убийство несчастного ребенка в Угличе. Против Лжедмитрия была послана армия под началом князя Федора Ивановича Мстиславского; чтобы исключить измену, Годунов пообещал выдать за него свою дочь, с Казанью и Северскою землею в приданое. Две армии встретились под Новгородом Северским 18 декабря.
Мстиславский долго не решался начать битву, ждал подкреплений. «50 000 против 15 000 казалось ему еще мало!» – возмущается С. М. Соловьев. Скорее всего, дело было не в численном соотношении; на Руси поверили, что явился чудесным образом спасшийся сын Ивана Грозного, а поднять меч на прирожденного государя считалось страшным кощунством.
21 декабря Лжедмитрий первый начал битву. Царское войско не выдержало напора разноплеменного воинственного сброда, каким являлась рать самозванца. Князь Мстиславский был сброшен с лошади, получил несколько ран в голову и чудом избежал плена; войско его потеряло 4000 убитыми. «Словом, можно сказать, что у русских не было рук, чтобы биться, несмотря на то, что их было от сорока до пятидесяти тысяч человек. Армии, разойдясь в стороны, пребывали в бездействии…» – рассказывает французский наемник Жак Маржерет, вначале участвовавший в войне против Лжедмитрия I, затем перешедший к нему на службу и получивший в командование один из отрядов дворцовой гвардии.
Казалось, авантюра была обречена на успех, но тут Лев Сапега пишет Юрию Мнишеку, что на его предприятие в Польше смотрят очень дурно, и настоятельно советует вернуться обратно вместе с поляками. Сандомирский воевода немедленно собирается в обратный путь под предлогом участия в сейме. Впрочем, не все поляки подчинились совету Сапеги и приказу своего воеводы; 1500 человек продолжили служить в армии самозванца, избрав гетманом Дворжицкого вместо Мнишека. Потери вследствие ухода части поляков восполнились с лихвой: к Лжедмитрию присоединилось 12 000 малороссийских казаков.
Почему Сапега принял решение лишить самозванца польской поддержки после внушительной победы, когда открылись широчайшие перспективы? Да потому, что тот прочно стоял на ногах и в польской помощи не имелось острой необходимости. Хитроумный канцлер запустил механизм и теперь пытался представить смуту, как чисто русское дело. Это подтверждают доклады Сапеги сейму, когда авантюра с первым Лжедмитрием провалилась. Всемогущий канцлер умел загребать жар чужими руками, на эти же руки можно списать пожар, если впоследствии он поглотит все предприятие.
Годунов приложил все усилия, чтобы разгромить самозванца, – значительно возросшая численно и получившая новых военачальников, его армия в январе 1605 года нанесла жестокое поражение Лжедмитрию под Добрыничами. Но чтото опять помешало добить его окончательно. Лжедмитрий укрылся в Путивле и оставался здесь до мая. Обозрев жалкие остатки своего войска, самозванец хотел было уехать в Польшу, но сподвижники пригрозили в случае бегства выдать его живым Борису Годунову, дабы тем заслужить себе прощение. Пришлось продолжать войну помимо собственной воли. Вскоре в Путивль прибыло 4000 тысячи донских казаков, и разбитое войско самозванца возродилось, словно птица Феникс из пепла.
Борис Годунов не находил себе места, он гневался на воевод, которые, уничтожив почти полностью войско самозванца, так и не смогли его убить или пленить. Полгода шла странная война, и полгода царь жил в страхе. И наконец организм не выдержал: 13 апреля 1605 года, когда царь встал изза стола, кровь хлынула у него изо рта, ушей и носа; после двухчасовых страданий Борис Годунов умер.
Сын Бориса – Федор – царствовал недолго. 7 мая войско, которое должно было сражаться с Лжедмитрием, во главе с полководцем Петром Басмановым перешло на сторону самозванца.
Самозванец стоял в Туле, за сто шестьдесят верст от столицы, а Москва вдруг без боя и сражения оказалась в руках его невесть откуда взявшихся сторонников. Юного царя Федора Борисовича и его мать – царицу Марию – удавили самым жестоким образом. 20 июня 1605 года Лжедмитрий I под звон колоколов торжественно вступил в русскую столицу.
После Ивана Грозного, уничтожавшего под корень древние фамилии и репрессировавшего целые города, Россия мечтала о добром царе. Мнимый сын царя Грозного и был таким. «Когда поляки советовали ему принять строгие меры против подозрительных людей, то он отвечал им, что дал обет Богу не проливать христианской крови, что есть два средства удерживать подданных в повиновении: одно – быть мучителем, другое – расточать награды, не жалея ничего, и что он избрал последнее» (С. М. Соловьев). Однако на Руси нельзя быть бесконечно добрым царем. Несчастный, стремясь продемонстрировать свое милосердие, спас собственного могильщика. Вот что пишет Жак Маржерет:
«Немного времени спустя князь Василий Шуйский был обвинен и изобличен в присутствии лиц, избранных от всех сословий, в преступлении оскорбления величества и приговорен императором Дмитрием Ивановичем к отсечению головы, а два его брата – к ссылке. Четыре дня спустя он был приведен на площадь, но когда голова его была уже на плахе в ожидании удара, явилось помилование… Это было самой большой ошибкой, когдалибо совершенной императором Дмитрием, ибо это приблизило его смерть».
Тем временем царю напомнили об обещаниях те, что вытащили его из небытия и протащили к московскому трону. А он не мог отдать Речи Посполитой Смоленск и Северскую землю, потому что это было равносильно самоубийству. Не мог и ввести на Руси католичество, обещанное папскому послу; даже жену свою, Марину Мнишек, он просил публично придерживаться православных обрядов, а католичество исповедовать тайно ото всех.
Лжедмитрий щедро рассчитался с поляками, которые прошли с ним путь от замка сандомирского воеводы до Москвы, но и этим жестом нажил лишь врагов. С. М. Соловьев описывает результат его щедрости:
«После царского венчания своего Лжедмитрий отпустил иностранное войско, состоявшее преимущественно из поляков, выдав ему должное за поход жалованье, но этот сброд, привыкший жить на чужой счет, хотел подолее повеселиться на счет царя московского; взявши деньги, поляки остались в Москве, начали роскошничать, держать по 10 слуг, пошили им дорогое платье, стали буйствовать по улицам, бить встречных. Шляхтич Липский был захвачен в буйстве и приговорен к кнуту; когда перед наказанием, по обычаю, стали водить его по улицам, то поляки отбили его, переранивши сторожей. Царь послал сказать им, чтобы выдали Липского для наказания, иначе он велит пушками разгромить их двор и истребить их всех. Поляки отвечали, что помрут, а не выдадут товарища, но, прежде чем помрут, наделают много зла Москве. Тогда царь послал сказать им, чтобы выдали Липского для успокоения народа, а ему не будет ничего дурного, и поляки согласились. Пропировавши и проигравши все деньги, поляки снова обратились к царю с просьбами, когда же тот отказал им, то они отправились в Польшу с громкими жалобами на неблагодарность Лжедмитрия».
Лжедмитрия признала Россия, за него была Москва, казалось, его положение упрочилось, но на свою голову он вернул из ссылки опытного интригана и лицемера Василия Шуйского. Последний и возглавил заговор. 17 мая 1606 года заговорщики ворвались в Кремль. Петр Басманов, до последнего защищавший царя, был убит, причем «первый удар получил от Михаила Татищева, которому он незадолго до этого испросил свободу».
Лжедмитрия убили, но этого показалось мало. По рассказу Маржерета, «покойного Дмитрия, мертвого и нагого, протащили мимо монастыря императрицы – его матери – д площади, где сказанному Василию Шуйскому должны были отрубить голову, и положили сказанного Дмитрия на стол длиной около аршина, так что голова свешивалась с одной стороны и ноги – с другой, а сказанного Петра Басма– нова положили под… стол. Они три дня оставались зрелищем для каждого, пока… глава заговора Василий Иванович Шуйский… не был избран императором… он велел зарыть сказанного Дмитрия за городом у большой дороги».
Убийца Лжедмитрия, великодушно им помилованный накануне, стал царем, но царский венец не принес ему много радости, как не принес счастья уничтожившему настоящего царевича Дмитрия Борису Годунову и его потомству.
«1 июня 1606 года Шуйский венчался на царство: новый царь был маленький старик лет за 50 с лишком, очень некрасивый, с подслеповатыми глазами, начитанный, очень умный и очень скупой, любил только тех, которые шептали ему в уши доносы, и сильно верил чародейству», – так характеризует нового государя С. М. Соловьев.
Шуйский мог ведать Разбойным приказом и на этом поприще, несомненно, достиг бы успеха, однако на роль царя боярин никак не тянул.
Мечта князя Ольгерда сбылась
Коварный интриган и лицемер Василий Шуйский был нелюбим всеми сословиями, однако умом обделен не был: он сразу определил: откуда может исходить главная для него опасность. Слухи о том, что Дмитрий опять спасся, поползли по Руси, когда самозванец еще не был предан земле. Ведь московитам представили обезображенное, подвергшееся истязаниям тело, которое не было похоже на недавно правившего царя. Тогда Шуйский решил представить доказательство, что царевича Дмитрия давным-давно нет среди живых. По рассказу Жака Маржерета, «пытаясь усмирить волнение и ропот, избранный Василий Шуйский отправил своего брата Дмитрия и Михаила Татищева и других родственников в Углич, чтобы извлечь тело или кости истинного Дмитрия, который, как они утверждали, был сыном Ивана Васильевича, умерщвленным около семнадцати лет назад… Они обнаружили, что (как они распустили слух) тело совершенно цело, одежды же свежие и целые, какими были, когда его хоронили… и даже орехи в его руке целы. Говорят, что после того, как его извлекли из земли, он сотворил много чудес как в городе, так и по дороге. Крестным ходом, в сопровождении всех мощей, имеющихся у них во множестве, патриарх и все духовенство, избранный император Василий Шуйский, мать покойного Дмитрия и все дворянство перенесли его в город Москву, где он был канонизирован по приказу сказанного Василия Шуйского. Это почти не усмирило народ…» Единожды солгавший – кто тебе поверит?! Во времена Годунова Шуйский являлся главой следственной комиссии, которая установила, что Дмитрий случайно сам себе нанес ножом смертельную рану; при Лжедмитрии утверждал, что царевич Дмитрий жив, а погиб другой ребенок; в свое правление опять пришел к варианту, что Дмитрий погиб в детстве. Когда Шуйский с патриархом и всем духовенством отправился за город встречать останки Дмитрия, то «был едва не побит камнями» народом.
Вследствие шаткости своего положения, не будучи природным царем, Василий Шуйский не имел возможностей физически уничтожать недовольных по примеру Ивана Грозного, тем более что он дал клятвенное обещание не произносить смертных приговоров без соборного решения. Опасных бояр царь высылал на окраины государства, причем давал им в кормление города и земли. Эффект получался обратный: в руках соперников Шуйского оказывались материальные и людские ресурсы.
Князя Григория Петровича Шаховского царь послал воеводой в мятежный Путивль. Тот на всякий случай прихватил в Кремле, воспользовавшись неразберихой, государственную печать, а по прибытии в назначенный город объявил, что Дмитрий жив – вместо него казнили другого. Путивль отказался подчиняться Шуйскому. Управлявший Черниговом князь Андрей Телятьевский признал себя подданным Дмитрия Ивановича, хотя новый Лжедмитрий был лишь в проекте и еще не дал знать миру о своем существовании.
В такой ситуации новый Лжедмитрий просто не мог не появиться. А пока факел войны в свои руки взял Иван Болотников – холоп князя Телятьевского. Жизнь его полна приключений: в молодости Болотникова взяли в плен татары и продали туркам. Несколько лет он был гребцом на галерах, пока его корабль не оказался в плену, а невольники и надзиратели не поменялись ролями. Путь на родину был долгим: через Италию, Германию; по дороге Болотников повоевал против турок в качестве предводителя казачьего отряда на стороне австрийского императора. Затем он перебрался в Речь Посполитую и здесь узнал, что на Руси неспокойно. Доброжелатели в польско-литовском государстве или собственная привычка к авантюрам (а скорее всего, то и другое вместе) выдвинули Болотникова на роль воеводы «царя Дмитрия».
Восстание Болотникова принесло много бед России. Он подошел к Москве, и казалось, еще одно усилие – и Белокаменная окажется в его руках. Но битва под Москвой 2 декабря 1606 года окончилась поражением Болотникова.
Выход на арену нового Лжедмитрия несколько задержался; как пишет С. М. Соловьев, «долгое неявление провозглашенного Димитрия отнимало дух у добросовестных его приверженцев». Отсутствие объявленного вождя силы, враждебные Шуйскому, попытались компенсировать неким казачьим атаманом, который назвал себя царевичем Петром – «потомком государей Московских». Лжепетр мучительной смертью извел несколько воевод Шуйского, изнасиловал дочь убитого им князя Бахтеярова, но вынужден был отступить и затворился вместе с Болотниковым в тульском кремле. «Осажденные два раза отправляли гонца в Польшу, к друзьям Мнишека, чтобы те постарались немедленно выслать какогонибудь Лжедимитрия…» – пишет русский историк.
И наконец долгожданное действующее лицо проявилось. О его происхождении сохранились известия самые смутные, но противоречивые слухи в большинстве своем сходятся в одном: очередной «сын Ивана Грозного» вырос в духовной среде. Это не удивительно: чтобы претендовать на роль чудом спасшегося царевича, нужно было оставаться неузнанным. Дворянин будет непременно опознан, крестьянину – не поверят ни простой народ, ни бояре. Духовенство же вело затворнический образ жизни и вместе с тем получало коекакое образование. Недаром первый Лжедмитрий до восшествия на царство был монахом Григорием Отрепьевым. О происхождении второго С. М. Соловьев пишет:
«Наконец самозванец отыскался; что это был за человек, никто не мог ничего сказать наверное; ходили разные слухи: одни говорили, что это был попов сын, Матвей Веревкин, родом из Северской страны; другие – что попович Дмитрий из Москвы, от церкви Знаменья на Арбате, которую построил князь Василий Мосальский, иные разглашали, что это был сын князя Курбского, иные – царский дьяк, иные – школьный учитель, по имени Иван, из города Сокола, иные – жид, иные – сын стародубского служилого человека».
Самозванец обосновался в Стародубе и принялся рассылать призывные грамоты по городам Великого княжества Литовского: «В первый раз, – писал он, – я с литовскими людьми Москву взял, хочу и теперь идти к ней с ними же». За литовцами под знамя нового Лжедмитрия потянулись поляки.
Войско Болотникова самозванец не мог спасти ввиду малочисленности собственных сил. Несколько месяцев оно находилось в Туле, осажденное со всех сторон царскими войсками, и отчаянно отбивало все приступы. Но голод вынудил их прекратить сопротивление. Болотников сдался 10 октября 1607 года, поверив обещанию Шуйского о помиловании, но, так или иначе, все главари восстания были уничтожены. «Много москвитян погибло с обеих сторон в эту войну с Болотниковым, – говорят более 100 тысяч», – приводит такую цифру Лев Сапега.
Набрав около трех тысяч человек, Лжедмитрий II вступил на земли Московии и под Козельском разбил отряд царских войск. Накануне в Польше был мятеж против короля, и его участники искали спасение в войске самозванца; кроме того, многие надеялись с его помощью поправить свое материальное положение. Имена собрались под знамя нового Лжедмитрия представительные: князь Роман Рожинский прислал сначала тысячу человек, а затем явился сам; пожаловал Тышкевич с тысячью поляков, появился в стане мятежника князь Адам Вшневецкий, привел целые отряды поляков Лисовский. К самозванцу потянулись остатки разбитого войска Болотникова. Казаки всегда были рады участвовать в любом бунте: присоединилось 3000 запорожцев, бравый атаман Заруцкий привел 5000 донских казаков.
В июне 1608 года Лжедмитрий II подошел к Москве и остановился лагерем в селе Тушино. Польские и литовские магнаты продолжали прибывать в стан «Тушинского вора» (такое прозвище получил второй Лжедмитрий). «Самозванец укрепился под Москвою; вопреки договору, заключенному с послами королевскими, ни один поляк не оставил тушинский стан, напротив, приходили один за другим новые отряды: пришел прежде всего Бобровский с гусарской хоругвью, за ним – Андрей Млоцкий с двумя хоругвями, гусарскою и казацкою; потом Александр Зборовский; Выламовский привел 1000 добрых ратников; наконец, около осени пришел Ян Сапега, староста усвятский, которого имя вместе с именем Лисовского получило такую черную знаменитость в нашей истории. Сапега пришел вопреки королевским листам, разосланным во все пограничные города и к нему особенно. Мстиславский воевода Андрей Сапега прямо признался смоленскому воеводе Шеину, что польскому правительству нет никакой возможности удерживать своих подданных от перехода за границу…» (С. М. Соловьев).
Поляки и литовцы не особенно верили в подлинность нового Дмитрия, они прибыли в Тушинский лагерь, чтобы вести свою игру, целью которой была Москва и вся Восточная Русь. Они пришли исполнить заветную мечту великого князя Литовского Ольгерда, имевшего целью завоевать Московское княжество. Поэтому они изо всех сил препятствовали встрече бывшей царицы Марины Мнишек с новым Лжедмитрием. Ее признание сильно подняло бы его авторитет, и Лжедмитрий II мог бы стать реальным претендентом на власть в Москве.
Сама Марина Мнишек долго колебалась: признавать супругом нового Дмитрия или нет, – но не каждый простой смертный, вкусив единожды высокой власти, удержится от соблазна насладиться ею еще раз. Не устояла и дочь сандомирского воеводы. Хотя, когда отряд Лжедмитрия отбил ее у московского сопровождения, Марина не поехала сразу к «мужу»; «жена» остановилась в стане Яна Петра Сапеги и оттуда начала переговоры с «супругом». Что ж… поторговаться в этом случае обязывала ситуация. Юрий Мнишек также не желал отдавать дочь новому самозванцу дешево; он составил письменное соглашение, по которому зять обязался по овладении Москвой выдать ему 300 000 рублей и передать во владение Северское княжество с четырнадцатью городами. Но Москва так и не была взята. Накануне зимы Тушинский лагерь стал превращаться в город, сюда перебежало много бояр, появился собственный патриарх – так оформилось двоевластие, и продолжалось оно почти два года.
Из Речи Посполитой поступило множество инструкций для воскресшего Дмитрия. Все они сводились к тому, чтобы привести Московское государство к унии с Польшей и Великим княжеством Литовским, а это, как мы знаем, было заветной мечтой Льва Сапеги.
Коль появилось две столицы, то и страна стала делиться на две части. Шуйский в панике обратился к шведам с просьбой помочь в борьбе с самозванцем. Псковичи, услышав о переговорах с их извечным врагом, переметнулись на сторону самозванца, справедливо полагая, что от шведской помощи ничего хорошего ждать не придется. Иван-город последовал примеру Пскова, Орешек также присягнул Тушинскому вору.
Если города принимали ту или иную сторону из соображений выживаемости, под угрозой уничтожения, то цвет нации – бояре, дворяне – переход от одного царя к другому превратили в прибыльное дело. «Требование службы и верности с двух сторон, от двух покупщиков, необходимо возвысило ее цену, и вот нашлось много людей, которым показалось выгодно удовлетворять требованиям обеих сторон и получать двойную плату, – описывает С. М. Соловьев необычное явление. – Некоторые, целовав крест в Москве Шуйскому, уходили в Тушино, целовали там крест самозванцу и, взяв у него жалованье, возвращались назад в Москву; Шуйский принимал их ласково, ибо раскаявшийся изменник был для него дорог: своим возвращением он свидетельствовал пред другими о ложности тушинского царя или невыгоде службы у него; возвратившийся получал награду, но скоро узнавали, что он отправился опять в Тушино требовать жалованья от Лжедимитрия. Собирались родные и знакомые, обедали вместе, а после обеда одни отправлялись во дворец к царю Василию, а другие ехали в Тушино».
Так называемые «перелеты» историками оцениваются как признак нравственного оскудения общества. Однако тут еще дело в низком авторитете царской власти: ни Шуйский, ни Лжедмитрий не пользовались должным уважением в обществе.
В 1609 году Ян Сапега (двоюродный брат Льва Сапеги), бывший гетманом у Лжедмитрия II, осадил Троице-Сергиев монастырь; это стало самой большой ошибкой тушинцев. На помощь Сапеге подошел Лисовский – число осаждавших святыню дошло до 30 000 человек. Им противостояло не более 1500 человек – дворян, казаков, стрельцов, монахов. Штурмы не принесли Сапеге и Лисовскому ничего, кроме потерь, лестные предложения и угрозы также не дали результата. Героическая оборона святыни подняла русский дух и больно ударила по авторитету Лжедмитрия II. Ведь сражались не два царя за трон; в Троице-Сергиевом монастыре православные защищали мощи одного из самых почитаемых на Руси святых от иноверцев – поляков и литовцев.
Россия погрузилась в смуту, люди и города метались между двумя царями; казалось, никому никогда не разобраться в этом хаосе. И все это время за происходящим в Московии зорко следил канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега. Верной опорой его был Александр Гонсевский (иногда пишется «Госевский») – талантливый военачальник, превосходный дипломат и великолепный шпион, занимавший должность старосты маленького пограничного городка Велиж; на основании мнения Гонсевского строил свою восточную политику даже король.
Возможно, Гонсевский принял участие в подборке кандидата на роль Лжедмитрия II. По одной из версий претендент на московский трон продолжительное время находился в его владениях, прежде чем начать грандиозную авантюру. «Шеину сообщали также слухи, ходившие в Литве о самозванцах, – повествует С. М. Соловьев, – писали, что вор тушинский пришел с Белой на Велиж, звали его Богданом, и жил он на Велиже шесть недель… с Велижа съехал с одним литвином в Витебск, из Витебска – в Польшу, а из Польши объявился воровским именем».
Главной задачей велижского старосты была, конечно, разведка. Обо всем, что происходит на сопредельной территории, Гонсевский докладывает своему патрону: «…я сам посылаю из этого края частые известия В [ашей] м [илости] м [оему] милостивому п [ану], а через В [ашу] м [илость] – к [оролю] е [го] м [илости]». Сохранилось «Письмо пана Госевского, старосты велижского, его милости пану Льву Сапеге, канцлеру литовскому», датированное 26 июля 1609 года.
К этому времени положение Лжедмитрия II значительно усложнилось, он терял одну территорию за другой, а шансы отобрать у Шуйского Москву приближались к нулю. Воеводы пограничных городов Московии, которые признали власть самозванца, обращаются за помощью к соседним литовским городам.
Речь Посполитая и Москва были связаны мирным договором, и король, по крайней мере официально, его соблюдал. Но Гонсевский, когда соседние Великие Луки попросили навести порядок в городе, не преминул произвести разведку боем и перешел границу. Велижский староста преспокойно докладывает об этом канцлеру, прибавляя собственное мнение насчет мира между государствами: «Это я долго обдумывал, с одной стороны, оглядываясь на карканье людей, безосновательно полагающих, что у нас прочный мир с Москвой (которого давно у нас нет, и сама Москва, если бы удалось усилиться какойлибо из сторон, и появился бы, избави Боже, удобный случай, несомненно, не стала бы считаться с договором), и вяжущих нам этим руки…» Положение на землях Лжедмитрия было ужасное, крестьяне, уставшие от царских и боярских разборок, стали третьей силой, сметающей все, что имело цену, и уничтожающей всех, кто богаче нищего. Воевода Великих Лук жалуется Гонсевскому: «Наши собственные крестьяне стали нашими господами, нас самих избиваю и убивают, жен, детей, имущество наше берут как добычу. Здесь, на Луках, воеводу, который был до меня, посадили на кол, лучших бояр побили, повешали и погубили, и теперь всем владеют сами крестьяне, а мы, хоть и воеводы, из рук их смотрим на все».
В такой ситуации доверенное лицо Сапеги считает, что московские земли, во избежание большего зла, примут власть польского короля: ведь «с давних времен на памяти [нашего] народа не было такого случая, чтобы Москва сама стала с хоругвями просить нас в [свои] замки и свои замки нам в руки передавать, как это делается сейчас». Велижский староста даже описывает свой план, как без особого труда можно овладеть Псковом и прочими русскими городами.
Гонсевский советует Льву Сапеге поспешить с вторжением на земли Московии: «Сам видишь, В[аша] м[илость] м[ой] милостивый пан, что [сейчас] удобное время, только королю е[го] м[илости] нужно действовать быстро и стараться собрать силу, как можно большую. А тех, кто под Москвой, легче всего привлечь любезностью, ибо они сами выражают желание [служить королю]. А когда король е[го] м[илость] их к себе расположит, тогда дело наше наполовину будет выполнено, и меньше можно будет опасаться силы Шуйского. В целом положение московское таково, что московское дворянство и некоторые лучшие посадские люди желают иметь над собой государя королевской крови и расположены к к[оролю] е[го] м[илости]».
Несомненно, советы скромного старосты Велижа дошли до Сигизмунда III, и он их принял. В сентябре 1609 года войско Речи Посполитой направилось к Смоленску. Литовские хоругви шли «впереди его королевского величества»; причем самым многочисленным был отряд «его милости канцлера великого княжества Литовского Льва Сапеги – гусар 300, казаков 200, пятигорцев 100, волонтеров 120, пехоты 200». 19 сентября Сапега уже стоял под Смоленском, король со своим войском прибыл через два дня.
У Льва Сапеги везде свои глаза и уши. В «Дневнике похода его королевского величества в Москву» под 28 сентября сообщается, что некоего Михаила Борисовича, имевшего сношения с литовским канцлером и дававшего знать, что делается в Смоленске, русские повесили при дороге, вложив ему в – руку? – записку: «Это висит вор Михаил Борисович за воровство, какое делал с Львом Сапегой, давая ему знать, что делалось в крепости».
Сигизмунд пытался представить себя освободителем от смуты и междоусобиц, но жители Смоленска ему не поверили и защищали город долгих двадцать месяцев.
Интересно, что вступление короля в войну более всего возмутило поляков, которые находились в Тушинском лагере. Они посчитали, что Сигизмунд пришел отнять заслуженную добычу, которая должна перепасть им после взятия Москвы. Тушинские поляки составили так называемый конфедерационный акт и отправили королю под Смоленск просьбу, чтоб он вышел из Московского государства и не мешал их предприятию. Только Ян Сапега, безуспешно штурмовавший Троицкий монастырь, отказался присоединиться к конфедерации.
В свою очередь, король отправил посольство в Тушинский лагерь с целью привлечь на свою сторону бывших там поляков и литовцев. Последние колебались, но тут двоюродный брат канцлера пригрозил, что немедленно перейдет на королевскую службу, если тушинцы не вступят в переговоры с королевскими комиссарами. Угроза потери самого боеспособного подразделения во главе с опытным Яном Сапегой заставила остальных тушинских сидельцев благожелательнее отнестись к предложениям Сигизмунда. Тем более что по лагерю пошли слухи, будто у короля много денег, из которых он собирается выплатить жалованье всем, кто оставит самозванца.
В такой игре Лжедмитрий II становился лишней фигурой; он и сам понимал ситуацию и потому попытался бежать из собственного лагеря в сопровождении 400 донских казаков. Но поляки догнали его, вернули в Тушино и установили за ним строгий надзор. В конце концов Лжедмитрию удалось всетаки бежать в Калугу – переодевшись в крестьянское платье, в простых санях, в сопровождении лишь своего шута Кошелева.
Русские тушинцы оказались в щекотливом положении: собственный «царь» бежал, а на прощение Шуйского они не рассчитывали. Пришлось и им склоняться на сторону Сигизмунда. Было подписано соглашение о призвании его сына Владислава на московский трон в обмен на обещание блюсти православие и оставить в неприкосновенности прежние законы и порядки.
В общем, мало-помалу все находили свое место при новой расстановке сил. Был, однако, человек, который никак не мог смириться, что близкая и желанная корона вновь так нелепо ускользает. То была дочь сандомирского воеводы Юрия Мнишека. «Марина оставалась в Тушине; бледная, рыдающая, с распущенными волосами ходила она из палатки в палатку и умоляла ратных людей снова принять сторону ее мужа, хотя положение ее при самозванце было самое тяжелое, как видно из переписки ее с отцом» (С. М. Соловьев). Властолюбивая девушка не уставала надеяться на чудо. «Кого Бог осветит раз, тот будет всегда светел. Солнце не теряет своего блеска потому только, что иногда черные облака его заслоняют», – пишет Марина своему родственнику Стадницкому.
Марина надеялась не зря, солнце еще выглянет изза туч и порадует ее – если не великой удачей, то хотя бы новой надеждой. Среди всех перестановок забыли о вечно мятежных казаках, что были в Тушинском лагере. А они решили, что с воровским царем им сподручнее, и бросились во главе с князем Шаховским в Калугу. 11 февраля Марина Мнишек бежала туда же, к «мужу» – верхом, в одежде гусара, в сопровождении служанки и нескольких сотен донских казаков. Тушинский лагерь, второй год державший в страхе Москву, ликвидировался сам собою. Польский король прочно засел под Смоленском, другие приграничные города также оказывали упорное сопротивление. Народный любимец – племянник царя – 24летний Скопин-Шуйский в марте 1610 года вступил в Москву. Казалось бы, дела Шуйского должны пойти лучше. Так оно и было… на первых порах. Но неожиданно умирает Скопин-Шуйский; по слухам, его отравил брат бездетного царя Дмитрий Шуйский, который сам имел виды на трон и опасался конкуренции со стороны популярного полководца.
В июне 1610 года из Москвы выступило 40тысячное войско и направилось в сторону Смоленска. Целью его было деблокировать осажденный город и изгнать поляков из страны. Вроде бы численность армии позволяла решить такие задачи, но вел ее человек, обретший дурную славу, – Дмитрий Шуйский. Более того, полководческие способности его летописец подвергает большому сомнению: «Был он воевода сердца нехраброго, обложенный женствующими вещами, любящий красоту и пищу, а не луков натягивание». В результате гетман Жолкевский, по словам Льва Сапеги, «с небольшою горстью людей поразил большое московское войско, собранное не только из москвитян, но и из чужих народов – немцев, французов, англичан, шотландцев».
В это время неожиданно усилился недавний беглец – Лжедмитрий II. Ему опять удалось соблазнить деньгами Яна Сапегу; с помощью поляков самозванец захватил Серпухов, Коломну, Каширу и остановился у села Коломенского. Сил не хватало ни у той, ни у другой стороны, да и устали русские проливать братскую кровь. Московские служивые люди «начали сноситься с полками Лжедимитрия, однако не для того, чтоб принять вора на место Шуйского; не хотели ни того, ни другого и потому условились, что тушинцы отстанут от своего царя, а москвичи сведут своего. Тушинцы уже указывали на Сапегу как на человека, достойного быть московским государем» (С. М. Соловьев).
Наконец 17 июля 1610 года заговорщики во главе с рязанским дворянином Захарием Ляпуновым свергли всем надоевшего Шуйского. Тот отчаянно цеплялся за власть, даже угроза потерять жизнь на него не подействовала. 19 июля «Захар Ляпунов с тремя князьями – Засекиным, Тюфякиным и Мерином-Волконским, да еще с какимто Михайлою Аксеновым и другими, взявши с собою монахов из Чудова монастыря, пошли к отставленному царю и объявили, что для успокоения народа он должен постричься, – пишет русский историк. – Мысль отказаться навсегда от надежды на престол… была невыносима для старика: отчаянно боролся он против Ляпунова с товарищами, его должно было держать во время обряда; другой, князь Тюфякин, прозносил за него монашеские обеты, сам же Шуйский не переставал повторять, что не хочет пострижения. Пострижение это, как насильственное, не могло иметь никого значения, и патриарх не признал его: он называл монахом князя Тюфякина, а не Шуйского. Несмотря на то, невольного постриженника свезли в Чудов монастырь, постригли также и жену его, братьев посадили под стражу».
После свержения Шуйского власть в стране оказалась в руках бояр – так называемой Семибоярщины. Собственно, они не решались даже приступить к выборам нового царя, чтобы не злить уже имеющихся кандидатов – Лжедмитрия и польского королевича Владислава. И тот, и другой мало кого устраивали: самозванец с войском казаков, которые ничем не отличались от разбойников, всех пугал; от иноземца, чужой ненавистной веры, из государства издавна претендовавшего на московские территории, тоже ничего хорошего ждать не приходилось. Но выбрать из двух зол пришлось. «Лучше служить королевичу, – решили бояре, – чем быть побитыми от своих холопей и в вечной работе у них мучиться».
Переговоры с гетманом Жолкевским насчет Владислава прошли скоро; спешили, так как самозванец принялся штурмовать Москву – его отбросили русские из войска гетмана. Согласно сведениям хрониста, описывавшего поход Сигизмунда, Семибоярщина лишь поставила одно любопытное условие: «Думные бояре обещали гетману выдать королю всех Шуйских, но с тем условием, чтобы король не оказывал им никакой милости».
В конце августа 1610 года Москва принесла присягу новому царю – польскому королевичу Владиславу. Собственно, присягу принимал гетман Жолкевский, он же именем Владислава обещал соблюдать достигнутые соглашения. Тем временем Смоленск продолжал сражаться второй год; изнемогая от ран и голода, он наотрез отказался открыть ворота полякам и литовцам. И гдето по стране бродил Лжедмитрий II с вольными казаками.
Сбылась заветная мечта великих князей Литовских: Москва оказалась в их руках. Холодный, рассудительный канцлер Лев Сапега не скрывает своих эмоций:
«А разве когданибудь думали-гадали, что великий царь Московский, во всем свете славный и страшный, с братьями, воеводами и думными людьми будет пленником польского короля? А разве когданибудь наши предки мечтали о том, что московская столица будет в руках короля польского и займется его людьми, а весь народ московский принесет королевичу польскому Владиславу верноподданническую присягу в том, что ему самому и потомкам его сами они и потомки их будут служить, иного царя и государя не похотят иметь как из чужих, так из своего московского народа, помимо королевича Владислава? С его титулом вырезаны были печати; его именем делались все правительственные дела, всей земле посылались приказы, и все слушались их; во всех церквах молились за него Богу, как за своего государя; царем государем его звали; с его титулом чеканили монету; королю его милости и сыну его, даже в отсутствие его, подавали просьбы и били челом о боярстве, о чинах и должностях, об именьях и денежном жалованье: и раздавал его королевская милость всякие чины, должности, денежное жалованье в бытность как в земле Московской, так и в Польше и Литве, и не только московскому народу, но и польскому и литовскому: по его приказу из московской казны выдавалось по тысячам и по десяткам тысяч злотых; из московской казны платилось жалованье жолнерам, до несколько сот тысяч злотых выдано польским людям: и наконец, сокровища неоцененные – короны, скипетры, державы, украшения королей и великих монархов, которые московские монархи собирали много лет не только со своих государств, но и с иноземной добычи, – все были расхищены: даже не пропущены были церкви, дома Божии, иконы, украшенные золотом, серебром, жемчугом, дорогими каменьями, золотые и серебряные раки: все было обокрадено и ничего не оставлено».
Битва за Москву
Под Смоленск к новому царю отправилось представительное посольство в числе 1246 человек. Везло оно и, так сказать, наказы избирателей, среди которых первым требованием было принятие Владиславом греческой веры в Смоленске от митрополита Филарета и смоленского архиепископа Сергия, чтоб пришел в Москву православным.
Россия – страна с глубокими православными корнями; царя-католика не могло быть в ней по определению. Владислав же рассчитывал впоследствии занять престол Речи Посполитой, где королем не мог быть некатолик. Эта дилемма стала миной замедленного действия – одной из многих. Но пока что поляки и литовцы были хозяевами положения; бояре, в страхе перед Лжедмитрием и собственным народом, сами попросили оккупантов войти в Москву и Кремль.
Избранный царь попрежнему не спешил к своим подданным, от имени Владислава правил наш недавний знакомый – велижский староста Александр Гонсевский. Сделавший молниеносную карьеру от воеводы в небольшом пограничном городке до фактически правителя одного из крупнейших в Европе государств, он неплохо управлялся с новыми обязанностями. По словам польского хрониста, «Госевский часто умел делать тщетными замыслы неприятеля, останавливал его пыл и не упускал ничего, что принадлежало к заботам его власти и чем отличается деятельность храброго вождя».
Гибель Лжедмитрия II в декабре 1610 года пробудила от спячки московитов, все чаще стали раздаваться призывы к изгнанию оккупантов. Основу первого всенародного ополчения составили вольные казаки под началом Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого, а также дворянские отряды Прокопия Ляпунова. Союз столь различных социальных слоев не мог быть прочным, и его коварно разрушил Александр Гонсевский, если судить по известиям Станислава Кобержицкого – биографа королевича Владислава:
«Против Ляпунова, самого мужественного и сильного воеводы русского, он употребил необыкновенную хитрость. Донские казаки составляли значительную часть неприятельского войска; их привел гетман Заруцкий, всей душою преданный вдове самозванца. Ляпунов обманывал гетмана надеждой, что, по изгнании поляков, сын Марины будет возведен на престол. Госевский, желая ослабить и силы Ляпунова удалением от него казаков и войскам чужеземным внушить подозрение к русским, подделался под руку и печать Ляпунова и написал от его имени воззвание к народу – в назначенный день неожиданно восстать всем и истребить казаков до последнего. Воззвание вручено было человеку, знавшему тайну; оно досталось в руки казакам и произвело ужасное волнение. Тотчас Ляпунова позвали на суды, напрасно он клялся всем священным, что ничего подобного не писал, что это ковы врагов; напрасно призывал Бога в свидетели своей невинности – рассвирепевшие казаки убили его. Русские были поражены страхом; а казаки с той поры не доверяли русским. И так проделка Госевского сошла с рук удачно – погиб Прокопий Ляпунов, муж отличавшийся телесной красотою, заботливостью в делах, заслуживший в народе славу человека искусного и опытного в войне».
Однако, несмотря на некоторые успехи, поляки оставались чужими во враждебной стране. Осажденный в Москве польский гарнизон начал голодать. «Предусмотрительный ум Госевского нашел средство против этой гидры: он вошел в сношение с старостою усвятским Иваном Сапегою, и тот великодушно предложил свою помощь; взял от Госевского избранных от всех хоругвий всадников и, присоединив их к своим войскам, пустился в набеги для собрания съестных припасов».
Ян Сапега, не первый год воевавший в России, чувствовал себя в предместьях Москвы, как рыба в приличной глубины водоеме. Он собрал требуемое продовольствие, осталась лишь мелочь: доставить его сквозь заслон князя Трубецкого, который сменил погибшего Ляпунова. Эту задачу помогла решить не хитрость, но острая нужда. Рассказывает польский хронист:
«В кровавой сече дружины Сапеги, презирая смерть, прорывались чрез русские ряды и открывали себе путь с такой силою, что русские, бросив укрепления, снабженные всеми воинскими припасами, дали тыл, а поляки с быстротою ввезли обоз с провиантом. В то же самое время осажденные сделали вылазку и привели неприятеля в совершенный ужас: не понимая, откуда у поляков взялось столько духа и силы, он полагал, что в крепость тайно введены новые войска. Русские не знали, что бешенство голдного желудка было лучшим вспоможением осажденных».
Ошарашенный неприятель бежал, и поляки могли его разбить совершенно. Помешала… польская гордыня: военачальников перестал радовать успех, когда они узнали, «что приближается Ходкевич, и слава победы могла бы быть приписана его помощи».
Кобержицкий подозревает, что общественное мнение против гетмана Ходкевича настроил воевода смоленский, староста брацлавский Яков Потоцкий, из ревности, что Ходкевичу, а не ему король вверил верховное начальство над войском в Московии, «и мучился мыслью, что соперник может покрыть себя славою». Далее случилось то, что запрограммировали польско-литовские магнаты своим поведением:
«Несогласие вождей было явно; личные неудовольствия они предпочли общей пользе, и все стало стремиться к бездне погибели. Неприятель торжествовал победу за победой, поражая ляха, недавно пожинавшего лавры».
После битвы при Каннах начальник карфагенской конницы Магарбал произнес: «Ганнибал, ты умеешь побеждать, но пользоваться победой не умеешь». Несправедливы слова эти по отношению к гениальнейшему полководцу Античности, потому что у него шансов взять Рим не было, но эта древняя фраза верно характеризует магнатов Речи Посполитой, в руках которых оказалась Москва. Даже окруженные со всех сторон в чужой стране, они оставались в плену собственных амбиций. Сапега, Лисовский, Гонсевский и многие другие командиры умели сражаться и побеждать, но они сражались исключительно ради собственных интересов, презирая интересы государственные.
Полякам и литовцам в Москве были чужды гениальные замыслы их вождей – канцлера Сапеги и короля Сигизмунда; их войско чувствовало себя калифом на час. «По приказанию короля, – сообщает хронист, – из древней казны князей московских войску довольно роздано было серебра, золота и драгоценной рухляди. При бережливости войско могло бы этим содержаться… но поляки предавались разврату, мотали без счету и презирали увещания короля… 6 января войско постыдно бросило стан и вышло из Московии с шумом и угрозами. Осталась небольшая часть воинов, которые, получив остатки вконец разграбленной казны московских князей, обещались еще повиноваться».
Ходкевич умолял прислать войско, иначе малочисленный московский гарнизон обрекался на гибель. Наконец пришел со значительным числом пехоты и конницы хмельницкий староста Николай Струс. Но с новым войском пришла и новая ссора, на этот раз между военачальниками-магнатами. Струс был ставленником Потоцкого, который стремился вырвать пальму первенства у Ходкевича и взять Москву в свои руки. Оказался оттесненным от кормила власти талантливый Гонсевский; впрочем, он не обижался на судьбу, ибо понимал – из постоянных склок ничего хорошего не получится.






