Богоборец Чикин Александр
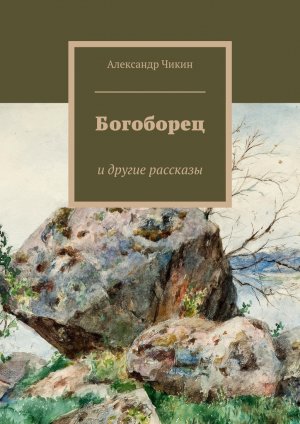
Игорь вытащил из-под себя бездыханное тельце. Из ушей и ноздрей зверька выступила кровь.
– Не обломится Иришке подарок…, – огорчился Гоша. – Что ж ты какой хлипкий?
– Его, похоже, выстрелом убило, он же, как пуля в стволе оказался, – рассудил я.
– Думаешь? … Ох, мразь! – Игорь отшвырнул суслика и стал лихорадочно отряхивать рукава.
– Ты чего?
– Блохи! Как из мешка посыпались. Господи боже, неужели на такой маленькой зверюшке, столько насекомых живёт?
4
– Рядовые, ко мне! – заорал Петруха. Из полыни опять торчали головы наших ребят, а Петров, уперев руки в бока, метал громы и молнии: мы не дошли до них всего метров сто.
– Смирно! – заорал прапор, едва мы приблизились. – Рядовой Дрягин!
– Я! – Гоша подобострастно вытаращил глаза
– Рядовой Павлов!
– Я!
– Объявляю вам: два наряда вне очереди!
– Служим Советскому Союзу! – заорал Гоша.
– Рядовой Павлов!
– Я!
– Как нужно отвечать? – Петруха с ненавистью посмотрел на Гошу.
– Хайль Гитлер? – с надеждой спросил я: безалаберная Гошина дурь заразила и меня.
Сержанты прыснули со смеху.
– Идиоты! Рядовой Киселёв! – прапор повернулся к Киселю. – Как нужно отвечать?
– Есть: два наряда вне очереди! – заорал салабон, напуганный Петрухиным криком и нашей дерзостью.
– Уроды! – Петруха закашлялся и харкнул в землю. Мокроты, кувыркнувшись по глине, покрылись мохнатой шубкой из пыли.
– О! Эта «фаланга» покрупнее прежней будет, – Гоша поманил Киселя. – Где коробок? Вот эту мамусе пошли.
– Да вы, …! – Петруха извергал матерщину, как треска икру. – Всё командиру доложу! Вольно! Занять оборону! – закончил он.
– Точно «стуканёт» командиру, – бормотал Игорь, устраиваясь на земле. – А меня начальник «губы» ненавидит… – вздохнул он.
– А что ты ему сделал? – я начал переживать за Гошу.
– Да он дурак какой-то! Чуть меня не расстрелял. Помнишь, – начал он, – мне командир в последний раз «сутки» объявил, а я целый месяц на «губе» просидел? Я напился там случайно за сутки-то. Вместе с часовым, который меня охранял: больше не с кем было. Так-то, сам знаешь, я бы ни за что с салагой пить не стал – одни неприятности из-за них! Такой же балбес, как Кисель. Вечером, как привели, начальник «губы» меня в камеру оприходовал и уже домой ушёл, я и говорю этому «щеглу» – часовому: «Дай закурить!». А он мне, мол, не положено, дымом пахнуть будет, начкар завоет и всё такое прочее. Был бы наш брат, старослужащий, он просто послал бы меня – и вся недолга! А этот – гниль так и сквозит! Тогда, говорю, веди меня во двор, пока ещё двери не закрыли. Ну, он и «потрясся», идиот, выгуливать меня. Если бы не он – всё хорошо было бы. Двор-то «губы», сам знаешь, с автопарком граничит. Ну, курю я и слышу: вроде, Андрюхи Виногурского голос! Я к забору, дырочку нашёл, и покричал его. Андрюшка обрадовался, привалился с той стороны к доскам: перегаром от него – так и прёт. Ребята с его автобата водку в «Военторг» возили и два ящика спёрли: уже облевались все, а водки всё ещё полно! Куда её девать – не знают. Всю её проблевать у них сил нет: четверо уже «плахами» лежат, а остальные на алкоголь смотреть не могут: глаза уже почти не открываются. А тут я, на их счастье! Они и давай мне под забор бутылки совать. Насовали двенадцать с половиной штук – мне уж и девать их некуда: во всех карманах пузыри торчат и в руках охапка. А этот часовой, дурачина, помочь не хочет, говорит, мол, оружие у него и вообще он охранять меня должен, а не бутылки носить. Словом, насилу от Андрюхи отбился и под конвоем проследовал в помещение. Сам понимаешь, в камере из мебели – одни нары, да и те на день в стене запирают, всё это хозяйство спрятать некуда и значит, к утру всё оприходовать придется. Расставил вдоль стены пузыри и думаю: с чего начать? Полбутылки сначала допить или наоборот, на конец её оставить?
Тут, на моё счастье, помощник начкара – сержант, с разводящим и новым караульным, идёт менять моего часового. Я их всех в камеру пригласил, предъявил батарею бутылок и предложил провести ночь в моём «номере» за дружеской беседой о жизни, о службе, узнать какими РВК призывались и прочие разные разности.
– Ты что, с ума сошёл? – перебил я. – А как же начальник караула? Он что, не хватился помощника и разводящего? А говорил ещё, что пил с одним часовым?
– Да не перебивай! В том-то и дело, – продолжал Игорь. – что начкаром с ними заступил летёха, а у него жена и он её ревнует. Вот он, летёха-то, и свалил супругу выслеживать, а в карауле сержант остался за старшего. Ребята уж к этому привыкли, не в первый раз с этим лейтенантом в караул ходили и знали, что раньше семи утра летёха не появится. А вот посидеть со мной сержантик не может: у него в карауле под началом девять душ и он за ними смотреть должен. Дал я им на всех по бутылке и они умчались. От радости даже моего салагу поменять забыли. Хотя, – призадумался Гоша, – его всё равно бы менять не стали – он один в карауле «молодой» был: по любому ему всю ночь куковать. Они его просто проверить зашли – вдруг уже повесился?
– Ты лучше бы арестантам водку отдал. Зачем же караул-то спаивать? – спросил Кисель.
– Да что ты лезешь? – возмутился Гоша. – Что я виноват, по-твоему, что на десять тысяч личного состава я один, на тот момент, арестованным оказался? – Игорь обиженно засопел.
– Ну вот, стало быть: – продолжал он. – осталось у меня две с половиной бутылки – уже легче! Но одному-то пить, всё равно, в «ломы». Эй, говорю, воин, поди сюда!
Ну, посидели, попили, а ему, лоботрясу, и рассказать-то мне нечего: этот караул – первое событие в его жизни после окончания детского сада. Попели с ним немного и только собрались ему автомат во дворе пристрелять – он блевать начал. «Опарафинил» всю камеру! А на улице-то уже давно светло стало: утро. Думаю, скоро начальник караула придёт, а следом и начальник «губы» объявится: времени в обрез, а этому дурню ещё полы помыть надо и в себя прийти. Сам-то я себя хорошо чувствовал, даже жалеть стал, что много водки в караул отправил. Пошёл в туалет, воды набрать. Вышел в коридор, дверь в камеру прикрыл на замок…
– А на замок-то зачем? Побоялся, что часовой от тебя удерёт? – влез Кисель.
– Шура, дай ему свой ремень, – отвлёкся Гоша. – Иди за дорогой наблюдай и пряху почисти: нечего встревать, когда «дедушка» говорит.
– Дверь на замок запер, – продолжил Игорь, – потому, что вдруг зайдёт кто? А у нас бардачина – дверь в камеру настежь! Это ж – трибунал! – пояснил любитель порядка. – Зашёл в туалет, воду в ведро набираю, другой рукой автомат на плече придерживаю, (он почему-то у меня оказался, хотели же его пристреливать идти). А этот придурок проблевался, ему, видать, полегче стало, он возьми, да заори: «Из-за острова на стрежень…", – Шаляпин хренов! Ну, думаю, сейчас я на него ведро воды вылью, он и орать перестанет, и очухается, и полы сразу мыть начнёт. Стал из туалета в коридор выходить, а там две ступеньки вниз. Меня качнуло немного, ведро из руки выскочило – блямс! Всё и разлилось на линолеум в коридоре. А я, представляешь, босиком. Слетел я со ступенек в эту лужу и как на коньках поехал. Там напротив туалета, через коридор, тамбурчик небольшой перед кабинетом начальника «губы». Вот меня через коридор в этот тамбур и прокатило. Я, пока летел, разглядеть успел, что возле моей камеры этот самый начальник-то «губы» и стоит. В глазок смотрит: кто, мол, там так выводит-старается, глотки не жалеет? Меня-то он тоже углядел: ещё бы такой грохот не заметить? А я, значит, так ловко в этом тупичке перед его дверью брякнулся, что только автомат в коридор торчит! Ни хрена себе, думаю: откуда этот урод в такую рань припёрся? Может, его летёха-начкар со своей любимой вспугнул? И, представляешь, этот лоботряс увидел, что на него АКаэМ из-за угла торчит, да и возомнил невесть что! Детский сад, ей богу! Где таких идиотов в армию набирают? Этот дебил выхватывает из кобуры «макара», ковбой недоделанный, и давай в мой тупичок палить! Ему, недоумку, пригрезилось, что я салагу-то разоружил и в бега собрался! Это я-то! Мне ж тогда всего четыре месяца до дембеля оставалось, скорее бы этот салабон от меня сбежал!
– Он в тебя попал? – опять влез Кисель.
– Шура, убери этого «щегла»! Вали отсюда! Тебе, что сказано было? Пряжку почистил? На и мою заодно. Всё, иди! – Гоша сунул Киселю свой ремень и толкнул его к дороге.
– Про что уж я говорил? А! – Гоша продолжил, – Ну вот, значит: я еле втолковал ему ситуацию, когда у него патроны кончились. Он только тогда мне верить начал, когда мы с ним в камеру зашли и он, дубина такая, узрел, что салага пьяный лежит. Тогда этот прапор, начальник-то «губы», и давай на меня орать: я тебя убить мог, и всё такое прочее. Я его успокаиваю как могу, мол, не расстраивайтесь, товарищ прапорщик, у вас так руки тряслись, что вы бы с двух шагов в сарай не попали, что я сильно переживал за него: как бы он себе ноги не отстрелил, пока пистолетом махал. А он только пуще разошёлся!… К вечеру на «губе» – яблоку упасть негде было: пол-автобата приволокли с Андрюшкой Виногурским во главе и весь караул в полном составе. А летёха-начкар опять «шланганул» – его не видно было. Снова, наверное, за женой следить отпросился: вот служба у офицеров – лафа! – Гоша на минуту примолк.
– Да, – вновь начал он, – с Андрюшкой-то в камере веселее стало, но знаешь, что я думаю? Не верно это: такие длинные наказания людям давать – получишь наряд вне очереди и пока его отбываешь, очень даже запросто ещё один, как минимум, схватишь! Постоянно со мной такая хренотень приключается. Я раз за время наряда ещё шесть нарядов получил от старшины, комбата и командира части. И с Андрюхой мы, как начали от начальника «губы» по суткам, да по трое хватать, так я через месяц насилу вырвался, а Виногурский, кажется, ещё до сих пор сидит.
5
Гоша замолчал, минут пять полежал, глядя в небо, и позвал Киселя: «Дай-ка автомат! Пойду «до ветру». Через некоторое время прозвучал приглушённый выстрел и следом Гошина матерщина. Петруха уже ни на что не реагировал.
– Что случилось? – разглядывал я расквашенную Гошину рожу.
– Нора глухая.
– ???
– Ну, хотел ещё одного суслика поймать, – рассердился Игорь на мою тупость, – не верится мне, что его порохом убить может. Стрельнул в нору, а она тупиком закончилась: пороховые газы вместе с камешками из норы мне в лицо ударили. Вот, полюбуйся: все руки ободрало. И морду посекло, ладно хоть глаза целы! – Гоша лёг на землю. – Кисель! Забери свой автомат долбаный!
– Больно, Игорь? – заюлил Кисель.
– Да отвали ты от меня! «Брат милосердия» выискался! – Гоша оттолкнул «щегла». – Шура, у тебя вода ещё осталась? Полей, рожу ополосну.
Через полчаса верхняя губа, нос и левая скула Гоши раздулись и стали лиловыми.
– Товарищ прапорщик, пойдёмте в часть, – предложил Игорь Петрову. – Обед уже прошёл давно и вода кончается, может хоть к ужину успеем?
– В какую «часть»? – отозвался Петруха. – До дивизии километров восемьдесят! С такими придурками, как ты с Павловым, мы и к Киселёвскому дембелю туда не попадём. Нас всех из-за вас либо в тюрьму посадят, либо казахи кетменями забьют! Лежи уж! Заберут рано или поздно.
– А вдруг про нас забыли? – влез Кисель.
– Да надо бы вас тут забыть – сколько бы сразу у командира головных болей исчезло, – мечтательно закончил разговор прапор.
Начинало смеркаться и вскоре, ночь накрыла степь. Где-то в темноте появился какой-то отблеск и потом, далеко-далеко, из небытия выскочил крошечный огонёк. Прихотливо подрагивая, то исчезая, то, вновь появляясь, искорка стала приближаться. Медленно увеличиваясь, она превратилась в одинокую фару.
Я тронул Игоря за плечо и показал на мотоцикл вдали. Гоша приподнялся, глянул в темноту, с тоской в не заплывшем глазу повернул ко мне опухшее лицо и покачал головой: «Давай, Шура, сам». «Совсем расквасился, – подумал я, – придётся мне за всех отдуваться. Ну, что ж? Жара – не жара, а косить надо!» Я схватил Киселёвский автомат и пополз вдоль дороги, подальше от прапора, навстречу мотоциклу.
– Стоять! – заорал я, выпрыгнув из темноты на освещённую фарой дорогу и передёрнул затвор.
– Твою мать! – донеслась приглушённая расстоянием Петрухина матерщина, (опять он всё проспал). – Да когда же это кончится?
– Твою мать! – вторя Петрову, разнёсся львиный рык, отозвавшийся чем-то знакомым в ушах и кузнечными ударами в сердце, – Это что ещё за фрукт?
Ослеплённому светом и парализованному собственной дерзостью, отступать мне было некуда: голос принадлежал полковнику Капустяну – начальнику штаба дивизии. Мужик он был крутой и в дивизии его боялись все, вплоть до комдива. Взыскания он раздавал щедрой рукой направо и налево, как нищим милостыню. Даже наш командир, убелённый сединами ветеран и не последний вояка в соединении, в его присутствии начинал лебезить и бестолково носиться, как цыплёнок с отрубленной башкой.
– Рядовой Павлов, товарищ полковник! – заорал я, млея от собственной борзости и продолжая держать фару на мушке, – Вы арестованы разведдиверсионной группой «синих»!
– Да? Где старший? – пророкотал он и выплыл вперёд. Рассеявшийся назад свет, рефлексирующий от его спины, показал, что передо мной вовсе не мотоцикл, а просто «УАЗик» с одной не горящей фарой.
– Командир диверсионной группы «синих» прапорщик Петров! – затявкал Петруха, одной рукой отдавая честь, а на другую наматывая сзади меня мой ремень, чтобы начищенная Киселём бляха заняла положенное ей по уставу место на моём животе.
После небольшого разговора выяснилось, что десятый полк ещё утром отрапортовал об успешном выполнении норматива, что раз так, то наша миссия провалилась, нас значит «убили» в перестрелке и все считали, что мы в «плену» у полкашей, в тепле и сытости. Начальник штаба как раз едет в караул десятого полка, где пребывает комиссия штаба округа, проверявшая выполнение норматива и придумавшая трюк с нашей засадой. Вертолётчики не ошиблись, высадив нас на эту дорогу, но, видимо, где-то на уровне штаба дивизии, то есть в хозяйстве товарища полковника, прошла утечка и хитрый жук, командир десятого полка, объехал нас овечьими тропами и избежал засады. Теперь он с комиссией отмечает зачёт норматива и товарищ начштаба едет к ним присоединиться.
Было решено посетить всем диверсионным составом полк с целью на месте проверить боеготовность караула. Все полезли в «УАЗик».
– Что с бойцом? – строго поинтересовался гроза нарушителей. – Что у него за рожа?
«Рожа» скромно, но с достоинством потупилась.
– С вертолёта выпал, товарищ полковник! – не моргнув глазом соврал Петруха.
– С какой высоты?
– Да нет, после приземления уже, товарищ начштаба! – Петруха показал Гоше кулак за своей спиной.
Втиснулись в машину и поехали.
– Хоть какая-то польза от Киселёвского автомата, – зашептал мне в ухо Гоша, – слава богу, не признал! – покосился он на полковника, – Теперь главное не проговориться, чтобы меня голос не выдал.
– Да? А что он и голос твой знает? – я начал переживать за Гошу.
– Да он дурачок какой-то! Чуть меня не расстрелял. Потом расскажу как-нибудь. – Гоша умолк.
6
В тёмной дали запрыгали три пары лучей, ощупывающих ночь. Потом появились источники лучей – фары: нам на встречу двигались три автомобиля. Вскоре мы пронеслись мимо грузовиков – «Уралов». В призрачном свете я разглядел полкашей в полной боевой выкладке, сидящих в машинах. По моим прикидкам их было человек шестьдесят-семьдесят и ехали они явно по наши души.
«Расчёт усиления. Значит, на точке осталось человек двенадцать караула, – промелькнула в голове мысль, – но у часовых-то боекомплект не „холостой“. Как это мы с ними воевать будем?»
Из темноты неожиданно выскочила «сетка-100», высоковольтное ограждение-ловушка. За ней едва угадывалось «сто первое» сооружение – караул десятого полка. Фара «УАЗика» осветила сетчатые ворота, за которыми, щурясь от света и направив на нас автомат, стоял часовой.
– Караул: в ружьё! – заревел начштаба, предавая нас. – Тревога!
Эффект получился обратный: вместо того, чтобы занять оборону, солдатик, узнав голос полковника, кинулся открывать ворота. Растворив их, он стал толкать одну половинку ворот, повернувшись к нам спиной. Мы как горох высыпались из машины и бросились к нему.
– Ты убит! – я сшиб часового на землю и помчался к карпому. Бойца тут же оседлали Олег с Оскаром – наши сержанты.
Я летел пулей. Судя по топоту за моей спиной, тылы у меня были прикрыты. Карпом прорезала слепящая щель приоткрывшейся двери.
– Тревога! – заорал кто-то мелькнувший в дверном проёме и оказавшийся полковником, командиром десятого полка, тычущим в мой нос своим пистолетом. Мне этот приём сразу не понравился, он меня напугал. Я инстинктивно дёрнул Киселёвским автоматом, случайно ударив полковника стволом по руке и «макар» улетел в темноту. Глаза «полкана» удивлённо раскрылись, (похоже, он узнал во мне «кракатиста» и «дзюбориста», агента 09 из справочного бюро), и он попытался, оттесняя меня, навалиться на дверь. Швырнув в его объятия подлетевшего Киселя, верхом на них, я ввалился внутрь помещения, вскочил и бросился по коридору. Сзади, бряцая оружием, посыпались «ястребы» – диверсанты, образуя «кучу-малу» на командире полка.
Часовой, оказавшийся, почему-то, в другом конце коридора, а не за дверью, бежал мне навстречу стаскивая с плеча АКаэМ. Сзади грохнула по ушам автоматная очередь и завыли пули, сбивая штукатурку впереди меня. Часовой обронил АКаэМ, не прекращая бега, нырнул головой вперёд в боковую стену и исчез. В стене оказалось кухонное окно раздачи, и я заметил, боковым зрением, там, далеко за кастрюлями и плитами, удирающего бойца. Подхватив его автомат, я на секунду оглянулся и увидел стоящего Гошу. В руках у него был чей-то «калаш» с примкнутым штык-ножом. Игорь удивлённо таращился здоровым глазом в изуродованный потолок, с которого, как снег на его голову, сыпалась известь. У его ног, скорчившись и прикрыв головы руками, валялись все диверсанты и оба полковника.
Оказавшись в конце коридора, я увидел дверь с пришпиленной бумажкой, на которой писарским почерком было выведено: «Комиссия». Дверь растворилась и на пороге возник генерал в расхристанном «п/ш» на голое тело. В руках он держал портупею. Он был пьян и обнаружив меня, прилипнув к косяку, начал неловко копаться в хитросплетении поясных и наплечных ремней портупеи, пытаясь выковырять из них кобуру с пистолетом.
– Тревога! – заревел он так, что вздулись вены на шее.
«И этот туда же! – подумалось мне. – Сейчас начнёт пистолетом в меня тыкать». Я бесцеремонно забрал у него портупею с кобурой и, обронив её на пол, слегка толкнул автоматом генерала назад, в комнату. То ли уж я не рассчитал свои силы, то ли генерал был ещё пьянее, чем притворялся, но он улетел и грохнулся под богато сервированный объедками стол.
– Товарищ генерал! – заорал я на него. – Вы арестованы диверсионной группой «синих»!.. Остальные убиты! – добавил я, окинув взглядом лежащих вповалку на диванах офицеров.
Двигаться дальше было некуда и я, прикрыв дверь, приставил к стене трофейный автомат, а Киселёвский повесив на грудь, встал на охрану «Комиссии». По коридору, в мою сторону, размашистым шагом приближался полковник Капустян, в одной руке держа автомат, а другой таща за ухо Гошу. Игорь торопливо семенил, страдальчески кривя и без того перекошенную физиономию. «Откуда я знал, что там „боевые“, ведь учения же!» – оправдывался Дрягин. Командир десятого полка, поспевавший следом, дал Гоше пинка для скорости. В некотором отдалении, испуганой стайкой институток, трусили «диверсанты» с Петрухой во главе. Среди них виднелись оба часовых: «убитый» мною у ворот и второй, едва не подстрелянный Гошей.
– Товарищ полковник, караульное помещение группой «синих» захвачено! – заорал я. – Комиссия штаба округа уничтожена! Взят в плен генерал-майор! Захвачен один АКаэМ и один ПээМ! Рядовой Павлов доклад закончил!
Начальник штаба, бросив крутить Гошино ухо, поспешно схватил генеральскую портупею с «пушкой» и ловко подхватил автомат.
– Прапорщик, ко мне! – скомандовал Капустян. – Людей в столовую: накормить и отдыхать. Этого, – ткнул пальцем в Гошу, – отведи в караул под арест.
Полковники скрылись в «Комиссии».
– На отпуск «прогнулся»! – шушукались между собой наши сержанты, поглощая ужин и косясь на меня. – А Дрягин – на «губу». Нечего было у часового автомат хватать: мог бы и из своего «холостыми» пострелять, если бы не ленился оружие чистить. Чуть всех не перестрелял, идиот!
От наряда по кухне мы узнали, что затея с нашей засадой была незрелой авантюрой, по-пьяни родившейся в головах генерала из округа и нашего начальника штаба дивизии. Прошлой ночью, подгуляв, они решили поиграть в войну. Капустян позвонил, ближе к утру, своему заместителю с приказом: разработать план учений. Заместитель, справедливо рассудив, что утро утра раннего мудренее, спокойно удрых, а придя на службу обнаружил, что ещё не разработанный им план уже действует. По наущению начальника штаба и генерала была сформирована группа «диверсантов» в нашей части и вертолётчики уже закинули «синих» в степь. Всё было «на мази», маховик раскрутился, была только одна «маленькая» деталь: десятый полк ничего об этом не знал. Соответственно они не получили никаких холостых патронов и взрывпакетов, а отправились на обычное боевое дежурство с боевым же оружием. Испугавшись, что «диверсантов» искрошат в «капусту», заместитель начштаба догнал на машине колонну полка и объехал вместе с ней нас по большой дуге. В норматив, каким-то чудом, уложились и даже, чтобы потешить генерала с комиссией, заброшенных на точку вертолётом, предъявили им лжедиверсантов, якобы пленённых по дороге. После этого они сели отмечать «победу», а про нас все забыли.
Ночью командир полка про нас вспомнил и решил дать поиграть в войну своим подчинённым, которых и спровадил в степь на наши поиски. Он к тому времени выяснил, что мы ещё в часть не вернулись. Ещё он узнал, что с дружественным визитом к генералу едет начальник штаба и предупредил часовых. Только поэтому нас и не подстрелили.
Гоша просидел на «губе» три недели. Мне, за оккупацию карпома, никакого отпуска не объявили. А ещё, за мой «подвиг», ко мне прилипла кличка «Матрасов» и во все разведки меня брали.
Андрюшка
1
Я познакомился с Андреем Виногурским в армейском карантине. Он был родом из Москвы, а москвичей в армии тогда не любили. Но он был не простой москвич.
Его родители развелись, когда Андрею было лет тринадцать. Отец работал фокусником-иллюзионистом в одном из московских цирков. Мать в прошлом была цирковой воздушной гимнасткой, а на тот момент – мелким клерком в Министерстве обороны.
Детство Андрея прошло в цирке. Он объездил всю страну с гастролировавшими родителями и многому от них научился. На спортивной площадке ему не было равных. Но самым примечательным было, конечно, не это, а то, с какой лёгкостью он при желании мог обчистить карманы собеседника или набить их какой-нибудь дрянью. Да и вообще, мелкие предметы в его руках теряли материальность и становились фантомами, то исчезавшими, то возникавшими ниоткуда по Андрюшкиному произволу. Предметами покрупнее он ловко жонглировал, а уж совсем большие использовал как спортивные тренажёры.
Матушка Андрея, потакая материнским инстинктам, привела в действие бюрократическую машину Минобороны и на четвёртом месяце его службы, когда Андрей окончил учебку и стал водителем в автобате, пришёл приказ о его переводе в Москву, под заботливое мамино крылышко.
– Чёрт его знает, – чеша затылок, бормотал старшина автобата, – как тебя отправлять? Ни шинели, ни шапки, ни парадки, ни ботинок: ничего у тебя, Виногурский, нет!
– Так всё же «деды» забрали, товарищ прапорщик, едва я порог казармы переступил! – оправдывался Андрей.
– Понятно, что не «салаги», а мне-то что делать? – прапор задумчиво обозревал ряды шинелей и кителей, висевших в каптёрке. – Ладно, боец, иди пока: что-нибудь найду.
Те, кому доводилось получать военную форму, знают, что её шьют на очень маленьких толстых людей с короткими ручками и ножками. Но под этот общевойсковой стандарт подпадают не все. Для стройных великанов от метра пятидесяти и выше найти подходящую форму – неразрешимая проблема. Надписи, типа «рост пятый» обозначают полноту, и вам вручат бриджи для бегемота.
Прощаться с нами Андрей пришёл широченным амбалом. Погоны не давали обвиснуть плечам кителя и он едва пролез в дверь. Бутафорность громилы выдавали эфемерная толщина профиля и торчавшие из широченных рукавов и штанин тонкие запястья и голени. Церковной хоругвью проплыл он по коридору в нашу сторону.
– Ну, ребята, не поминайте лихом! – пообнимавшись с нами начал Андрей. – Зашёл попрощаться, подарить вам на память котлы, – он начал раздавать нам наши же часы, которые поснимал с нас во время объятий, – а Витьке – военный билет. Всё равно он часов не носит.
Витька испуганно схватился за опустевший карман и, цапнув военник, отошёл на безопасное расстояние от Виногурского.
– Где это ты такие «черевички» удохлял? – плеснул желчью обидевшийся Витька и все посмотрели на ботинки Андрея. – Как «чмо» в столицу завалишься.
– Не, мне больше нравится слово «панк», – начал объяснять Андрюшка.
Он тоже глянул на свои башмаки и его фуражка, висевшая на затылке, свалилась на нос.
– Классно экипировал меня старшина, – продолжал Андрей, – один башмак допотопный, кирзовый, а второй – яловый, новый. Фура – шестьдесят второго размера. Парадку вы сами видите, а шинель с шапкой – это шедевр! В них, наверное, лет пять под машиной валялись: ремонт делали. Мазута на их пропитку килограмм шесть ушло.
Как ни жалко было расставаться – разошлись.
Андрей по дороге на вокзал оторвал где-то кусок алюминиевой проволоки, согнул её «змейкой» и, свернув в кольцо, пристроил внутри фуражки. Фура перестала балансировать на ушах и заняла устойчивое положение.
В вагоне Виногурский обнаружил, что его спутницами будут две смазливые девчонки, едущие на учёбу в Оренбург. Он тут же покорил их сердца своим глазомером и твёрдостью руки, метнув с порога на гвоздь фуражку. Фура точно легла в цель, но алюминиевая конструкция отстыковалась в полёте и, брякнув о стену, со звоном опрокинула со стола стаканы с чаем на девичьи колени.
В Оренбурге, при пересадке на московский поезд, Андрей стал жертвой городского военного патруля. За внешний вид, порочащий Советскую армию, Виногурский дня три просидел на «губе».
В Москве Андрей первым делом кинулся домой – проведать маму. Открывшая ему дверь родительница, увидев на пороге огородное пугало в лихо заломленной на затылок фуражке, из-под которой торчали алюминиевые провода, и угадав материнским чутьём в нём своё чадо, выронила из рук полотенце, привалилась к стене, подперев рукой щёку, и замерла. Через секунду её губы, задрожав, искривились и из широко раскрытых глаз побежали слёзы: узнала.
Затащив блудное чадо в дом, мать сорвала с него танковые чехлы, открыв для себя преступную худобу, и прогнала Андрюшку отъедаться на кухню, а сама, схватив ножницы, линейку и мел, занялась кройкой и шитьём мундира параллельно со стиркой шинели и шапки.
К утру всё было готово: стиральная машина покрылась изнутри толстым слоем мазута, швейная – сломалась, а Виногурский стал дезертиром – в армию отправляться было не в чем. Достирывалось и дошивалось всё руками ещё дня три. При этом было сломано сколько-то ногтей и иголок, а бывшая белая ванна, стала похожа на Мойдодыра, любящего купать мотоциклы. От дезертирства Андрюшка реабилитировался, выкинув в мусорное ведро проездные билеты и смело исправив в документах три дня гауптвахты на шесть. Взяв в адвокаты маму, безумно тоскующую по утраченным ногтям и от ожидающей разлуки, Виногурский храбро вторгся на территорию новой части.
В Москве Андрюха пропадал не долго – месяца три. Он возил какого-то генерала из какого-то штаба на «Волге». Генеральская дочка положила на Виногурского глаз и её папик, удручённый мизерностью выбора своего дитяти, сослал Андрюшку обратно к нам. Интриги бывшей воздушной гимнастки, по возвращению блудного сына, не возымели действия и генеральской недоросли пришлось строчить пламенные письма, хотя Андрей предпочитал телеграфные переводы.
Архаровцы из автобата, куда вновь попал Виногурский, могли любого довести до ручки. Командиры этой части менялись как перчатки. Текучка руководящих кадров не способствовала укреплению воинской дисциплины и часть, попав в порочный круг, не вылезала из отстающих. Новый командир автобата, майор Коржов, решил исправить положение и начал своё командование со строевого смотра.
Осмотрев чумазых водил и полупьяных офицеров, майор заметил Виногурского, который выгодно отличался чистотой, постиранной и отутюженной маминой рукой, гимнастёрки, так как только вчера прибыл из Москвы.
– Как фамилия? – спросил командир.
– Рядовой Виногурский, товарищ майор! – отчеканил Андрей.
– Рядовой Виногурский, выйти из строя! – приказал Коржов. – Вот, посмотрите, в каком виде вы должны быть каждый день. Приятно глазу посмотреть на бойца! И постиран, и поглажен, и побрит, и образцово подстрижен. Снять головной убор!
Пилотка вспорхнула с Андрюхиной головы в руку. Часть, после секундного замешательства, схватилась за животы и грохнула со смеху.
Дело происходило в 1979 году и мало кто в стране, даже в редких тогда иностранных журналах, видел панковскую причёску «ирокез», которая, как петушиный гребень, украшала Андрюхину голову.
– Это что за …!? – выругался майор, лицо которого пошло багровыми пятнами.
– Это – чтобы пилотку ветром не унесло, товарищ майор, – соврал Андрей, – В Москве, при штабе, все солдаты так ходят.
– Прапорщик Орлов! Побрить этого урода под Котовского, – пунцовый командир достал платок и вытер лоб. – Рядовой Виногурский!
– Я!
– Объявляю вам: трое суток ареста!
– Есть, трое суток!
Отсидев на «губе», Андрей объявил командиру войну.
Майор Коржов заступил в наряд дежурным по части. Андрюшка сделал из кальсон, нательной рубашки и сапогов чучело молодого бойца и, после вечерней поверки, вывесил его под потолком сушилки, самой тёплой комнаты в казарме, где сушились портянки и сапоги. Эта комната постоянно использовалась для ночных посиделок старослужащими и их разборок с салагами. Офицеры про это знали, знали про их знания и солдаты, и когда в наряд заступали рьяные служаки, типа Коржа, считавшие своим долгом: контроль сушилки, в ней никто не собирался.
Лампочки в этой каморке, по традиции, не горели, чтобы зашедший со света не мог разглядеть лиц собравшихся. Коржик, после «отбоя», заглянул в эту комнату и оторопел: в жутком, душном мраке сушилки, под потолком, в пугающей выси, покачивая сапогами и смутно белея исподним бельём, болтался «жмурик». Неведомая сила вышибла майора из комнаты. Припечатав снаружи спиной дверь, дрожащей рукой, Коржов вытащил из кармана платок и вытер пот, высыпавший на лбу. Суицид и неуставные взаимоотношения тяжким грузом ложились на плечи командиров и майор запаниковал.
– Дневальный, бегом сюда помощника дежурного по части! – приказал Коржов.
– Товарищ майор… – начал доклад подлетевший помощник, но Коржик его перебил:
– Орлов, у нас жмур в сушилке.
Поняв по виду командира, что тот не шутит, прапор засуетился:
– Кто, товарищ майор? Как фамилия? Своими руками удавлю, гада! – рассердился Орёл. – Может просто спит? Пульс щупали?
– Хрен ты до этого пульса дотянешься: под самым потолком висит!
– Срезать! Может, откачаем? – прапорщик полез в карман за ножом.
– Думаешь: самоубийство? А если неуставняк? Улики уничтожить хочешь? – обозлился Коржик. – Нет уж, стой здесь! Я уже и так там натоптал – все следы, наверное, испортил. В сушилку никого не пускать, самому не заходить! Я к дежурному по соединению с докладом.
Сушилка имела смежную стену с каптёркой и предыдущий каптенармус, узбек, уволившийся прошлой весной, чтобы меньше мёрзнуть, прорубил маленькое оконце в кирпичной кладке возле самого потолка. Занявший его место якут, чтобы не изнывать от духоты, не придумал ничего лучше, чем сделать, для вентиляции, в противоположной стене аналогичную дырку в бытовку. На взгляд простого смертного, в эти маленькие отдушины пролезть было нельзя, тем более что находились они под потолком, на высоте в четыре метра. Для сына воздушной гимнастки, это оказалось – плёвым делом.
Бытовка выходила в расположение батальона и из коридора, куда имели выходы сушилка и каптёрка, её дверь была не видна. Увидев, как Коржик кинулся вниз по лестнице, а у двери встал на охрану прапор, Андрюха понял, что его чучело снимать без посторонней помощи, пока, не собираются. Через минуту он уже перебирал руками по трубе, проходящей под потолком сушилки, подбираясь к «висельнику». Спрятав чучелку в каптёрке, Виногурский выскользнул из бытовки и тихонько забрался в постель.
По лестнице загрохотали сапоги – в казарму вошли Коржов и дежурный по соединению полковник Капустян, он же начальник штаба нашей дивизии.
– Значит, ты говоришь, что твои солдаты судом линча занялись? – полковник остановился возле прапора.
– Никак нет, товарищ полковник! – Орлов посчитал, что риторический вопрос обращён к нему. – Похоже, слава богу, – самоубийца! Пока вы, товарищ майор, за товарищем полковником бегали, удавленник в конвульсиях бился: ажно труба ходуном ходила! Меня чуть инфаркт не хватил! Как отопление не лопнуло? Только ведь ремонт на первом этаже закончили! Ну, думаю: хана – сейчас сорвётся, паразит, и все потолки внизу прольёт! Обошлось… Весь бы обварился, дурачок.
Капустян захлопал глазами, переваривая услышанное.
– Да вы, что! – полковник схватил Орла за грудки. – Спасать пацана надо! Идиот! Я вас обоих под суд отдам!
Начштаба отшвырнул старшину и, распахнув дверь, прищурил глаза, силясь разглядеть что-либо в душной темноте.
– За что это под суд? – не понял прапор. – Приказ командира – закон для подчинённого! Мне было велено не входить и никого не впускать. А оне сюда могут, товарищ майор? – указывая на Капустяна поинтересовался Орёл. Коржик молча потел и протирал лоб платочком.
«Оне», наконец-то всё рассмотрев, с разворота двинули прапору в зубы. Орёл кувыркнулся к туалету.
– Шутки шутить!? – Капустян сгрёб Коржа. – Скотина!
От полученной колобахи, майор, чтобы не потерять равновесие, привалился к полу возле каптёрки. Разъярённый полковник вылетел в дверь, врезав, на всякий случай, подзатыльник дневальному.
Оклемавшись от Капустяновского «благодарю за службу», Орёл стал приводить в чувство Коржова:
– А жмурика товарищ полковник унёс? – спросил он, увидев, что майор начинает подавать признаки жизни. – Как рапорт писать? Я даже не понял кто и повесился-то! Фамилию-то какую указывать? Может, это и не наш вовсе боец, а приблудный какой?
– Ну-ка слезь с меня! – майор поднялся. – Ты удавленника снял?
– Как можно, товарищ майор? – удивился прапор. – Я, по вашему приказу, даже дверь не открывал! Да и боюсь я этих покойников, а вы говорите: «снял»!
Коржик осмотрел сушилку: спрятаться было негде – голый пол, батареи на стенах, зарешёченное окно и труба под потолком.
– Ты, сволочь, его снял! – опять наехал на прапора Коржов.
– Да что вы заладили: снял, да снял! – рассердился Орлов. – Дневальный! Капустян, что ли, жмура унёс?
– Никак нет! – отозвался похмелённый в чужом пиру.
– Куда же он подевался? – прапор заглянул за батарею. – Я же, своими ушами слышал, как он трубу ломал!
– Мистика, какая-то! – возмутился Коржик. – Он же вот здесь, прямо перед дверью, висел! Не привиделось же мне!? Давай, старшина, личный состав пересчитаем, – майор опять смахнул платочком пот.
Принялись считать, бродя между кроватями. Даже после пятого пересчёта все были на месте. Пересчитали первый этаж – тоже самое.
Неожиданную, для себя, смётку проявил Орлов:
– Нужно скомандовать «подъём», товарищ майор! Висельник-то не встанет, останется лежать. Тут мы его и повяжем!
– Тебя послушать – с ума сойдёшь! – уязвил Орла Коржик. – Если он, получается, до кровати добрался, то хрен ли ему и при подъёме не встать?
– Ну и пусть встанет! – у Орла оказался на редкость изощрённый ум. – Мы у них шеи проверим!
По команде все построились повзводно, недовольно щурясь от света.
– Сержантам: проверить наличие личного состава! – скомандовал майор, расхаживая перед строем, скромно прикрывая платочком опухающую скулу.
Прапорщик бросился осматривать двуярусные кровати:
– Есть покойничек! – радостно возвестил он через минуту из дальнего угла. – А, так ты ещё живой, сволочь! А ну иди!
Орёл выгнал из кроватного лабиринта на свет заспанного, растерянного якута – каптенармуса, которого никакие «тревоги» не касались: при любых манёврах, он всё равно оставался в казарме спать в своей каптёрке.
Схватив солдата за загривок, прапор согнул его буквой «Г» и, развернув к свету, стал рассматривать шею:
– Кажись, этот, товарищ майор! – Орёл показал Коржу на багровые следы от своих пальцев на шее у каптёра. – Ну, ты, поверни голову, гад! И что тебе, сволочи, не жилось?
– Это не тот, – определил Коржов, увидев, что покраснение на шее быстро проходит.
Сержанты доложили о наличии людей и прапорщик с майором пошли вдоль строя, пристально всматриваясь в адамовы яблоки. Не обнаружив ничего подозрительного, объявили отбой.
Бережно поглаживая синяки и рассуждая о боксёрских качествах Капустяна, спустились на первый этаж. Процедура с подъёмом и осмотром была безрезультатно продублирована: тайна исчезнувшего жмура не открылась.
2
Андрюха натёр сапогом ногу. Образовался абсцесс и щиколотку раздуло. Виногурского госпитализировали. Оказавшись в отделении хирургии, Андрей стал любимцем сердобольных сестёр. Раз уж он имел власть над генеральскими чадами, то дочерей рабочих и колхозников своими фокусами покорял легко, а дочки интеллигенции, даже сельской, только о нём и мечтали.
Я тоже оказался в госпитале, в том же отделении. Все два года армии я был болен музой живописи и в моменты обострения оказывался госпитализированным. Тогда из меня лезли санпросветовские плакаты, и очередной красный уголок какого-нибудь отделения госпиталя покрывался росписью. Поскольку послеоперационных травм у меня не было, меня назначили старшиной отделения. Я должен был следить за чистотой в палатах, составлять графики мытья полов и вообще быть правой рукой дежурившего медперсонала – что, впрочем, не мешало мне переводить краску.
– Ребята, вы когда-нибудь клизму делали? – спросила нас медсестра Зина, когда я рисовал очередную хирургическую страшилку о ранней диагностике геморроя, а Андрюха мне позировал, подставив нарыв на ноге. – Может, поможете мне?
Перспектива поставить клизму фигуристой красотке нас сильно воодушевила и мы сказали, что готовы делать с ней эту процедуру каждые пять минут. Я даже готов набросать эскизы для будущего эпического полотна «Венера Эсмарха».
– Дураки! – обиделась Зинуля. – Не мне, бестолочи, а Семёнову из вашей палаты. У меня работы полно и я до отбоя не поспеваю! Поможете, а?
Отказать ей было невозможно, и она повела нас в комнату, где, помимо ванны, стояла кушетка, гинекологическое кресло и много других спортивных снарядов. Семёнов уже покорно лежал на кушетке, спустив штаны.
– Ну, справитесь? – вручив нам кружку с резиновой кишкой, спросила Зина.
Признаться в том, что человек, запросто рисующий геморрой любого размера, в жизни не делал клизму – не позволило самолюбие. Самолюбие Виногурского было не меньше моего: мы соврали, что справимся.
– Это ты зачем делаешь? – спросил я Андрюшку, выковыривающего шпателем из баночки вазелин в кружку Эсмарха.
– С водой вместе в него загрузим, чтобы всё из него, как по маслу, выскочило! – объяснил Андрей. – А иначе, зачем же ещё она нам этот вазелин дала?
– Ребята, – забеспокоился Семёнов, – им надо наконечник на шланге смазать!
– Не трепись, а то изо рта всё выльется! – Андрюха ткнул его в бок, но вазелин на всякий случай выловил и уложил в баночку, – Сань, ты надевай фартук, а мне дай перчатки.
– Мне кажется, что фартук и перчатки для кого-нибудь одного. Или ты всё сразу надевай, или давай мне.
– Раз уж нас двое, – остановил мои пререкания Виногурский, – то давай соблюдать технику безопасности. Ты наденешь фартук и встанешь около кушетки. Я встану за тобой и буду в перчатках держать кружку – вдруг гидроудар? Я не хочу руки пачкать! А фартук нас обоих от брызг защитит.
– Что значит: «гидроудар»? – опять заворочался обеспокоенный Семёнов, ни черта не смысливший в гидравлике. – Вы что делать собрались?
– Сань, воткни ему эту кишку в рот, чтобы заткнулся. Давай его с переднего конца, через желудок промоем! – Андрюха стал зловеще натягивать перчатки.






