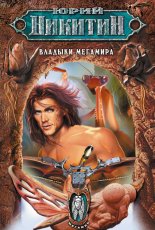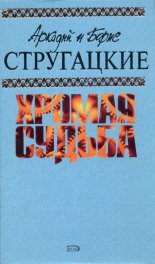Долина смерти Алексеев Сергей
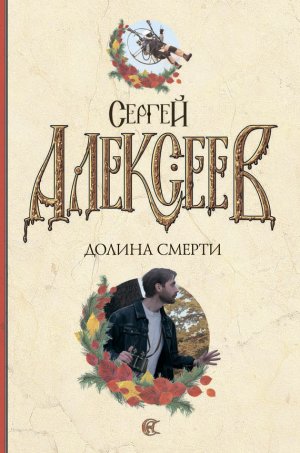
– Значит так, Георгий. У Татьяны есть сынишка, четыре года. Живет с бабушкой. Так что ты особенно-то губу не раскатывай: она не шлюха, а человек семейный. Чтоб все у вас там было… по совести, что ли. Не обижай ее… Что так глядишь? Совсем не нравится?
Поспелов сунул руки в карманы, сел на край стула: перед глазами стояла черная дыра окна с силуэтом Нины…
– Да нет, ничего… Только я прихожу в восторг всего лишь от одной женщины – от бывшей жены.
– От восторга и разошелся?
– Тяжелый случай…
– Ладно, твои заморочки, – проворчал Заремба. – С Татьяной найди общий язык… Ну нет другой в «женском батальоне»! Чтоб с тобой на ферме смогла жить. Кроме нее, конечно… И предупреждаю: чтоб без всяких там драм и трагедий.
– Это вы о чем, товарищ полковник? – насторожился Георгий.
– Да все о том же! Ты в семейных парах не работал и не знаешь… Когда живешь неделю – ничего, в удовольствие. А месяц-два – вот тут и начинается. Природа-то берет свое, обычно «жены» влюбляются, голову теряют. И плевать им на операцию, на службу. Конфликты, рапорта на увольнение… Вплоть до самоубийства. Ты мужик, береги ее, держи в руках и повода не давай. Конечно, это бесчеловечно… Но мой тебе совет: постоянно ворчи на нее, нуди, брюзжи. Женщины в нудных не влюбляются. Впрочем, и это не панацея. Они же в этом «батальоне» после трех лет службы спят и видят себя настоящими женами и матерями. У них для любви душа всегда нараспашку.
Георгий слушал его и почему-то примерял все не на товарища по службе, а на бывшую свою жену, некогда купавшуюся во всеобщей любви и теперь обделенную…
4
Бывший хозяин Горячего Урочища выстроил дом по финскому проекту, с претензией на полную автономность и отчасти – на европейскую культуру. Но русский характер проявился и тут: английский камин оказался удачно спаренным с русской печью, средневековая кладка из дикого камня первого этажа соседствовала с деревенскими лавками, и вдобавок ко всему скотный двор был прирублен непосредственно к самому дому, как будто к крестьянской избе.
Полковник Заремба не обманул: место действительно напоминало уголок Швейцарии.
Сосны, взбегающие уступами к вершинам сопок, живописное поле на склоне, где когда-то стояла деревня, голубое озеро, над которым дом несколько даже нависал, одна стена поднималась непосредственно из воды, и тихо шумящая на перекатах речка с широкими плесами. Но жить здесь человеку, не приспособленному к хуторской «финской» жизни наособицу, человеку, древними корнями напрочь привязанному к общинной жизни, вероятно, было трудно, если вообще возможно.
Ощущение пустоты, глуши и безлюдья отчего-то начиналось вечером, когда солнце садилось за сопки и багровые отблески покрывали каждый бугорок на земле. В полном безветрии природа замирала, настораживалась, вслушивалась и дичала: чернела голубая вода, чернели золотые стволы старых сосен, и по-весеннему зеленеющее поле напитывалось мраком, расплывалось неясными, бегущими тенями.
Здесь было очень легко напугать себя, вызвать щемящий, необъяснимый страх, испытанный разве что в раннем детстве. Пробыв всего сутки в Горячем Урочище, Поспелов успел почувствовать и понять, отчего бывший хозяин Ворожцов, вложив в ферму много денег и труда, все-таки не вынес одинокой жизни и бежал, отдав свое детище за совсем не большую сумму. Поди, еще и радовался, что нашелся ненормальный, согласившийся жить в этом первозданном, но – увы! – неуютном месте.
А так бы вообще все прахом пошло…
Однако предаваться чувствам и собственным ощущениям в первые недели жизни в Урочище особенно-то было некогда. Следовало оправдывать легенду, отработанную в конторе, то бишь обзаводиться скотом, ремонтировать технику, пахать и сеять ячмень и овес на фураж. Одним словом, внушать своей ежедневной жизнью, что на ферму пришел настоящий хозяин. По новым документам Поспелов был уроженцем Карельской АССР из города Кондопога, а его жена Татьяна, финка по национальности, из Сортовалы. То есть не чужие пришли в эти земли обетованные, а как бы свои, волею судьбы унесенные когда-то в дальние края.
Конечно, в течение нескольких дней пришлось обставлять и обустраивать дом и, главное, наделать удобных тайников, где следовало спрятать до времени большое количество аппаратуры, спецтехники, в том числе и компьютер, поскольку для начинающего фермера держать его открыто было бы слишком. А кроме того, установить во всех комнатах и помещениях вплоть до скотного двора незаметную охранную сигнализацию, которая не звенит, не ревет в случае проникновения посторонних, но тихо записывает на аудио– и видеопленку и в критической ситуации без всякого участия человека передает по космической связи сигнал тревоги в контору. И устроить конспиративные встречи с двумя агентами, внедренными сюда Зарембой после исчезновения самолета Ан-2 и теперь переданными на связь Поспелову. Один носил кличку Ромул, жил в Верхних Сволочах и работал сельским фельдшером, другой, разумеется, Рем, был завклубом в Нижних Сволочах. И оба были женщинами… Пока что они собирали информацию в виде сельских сплетен и бабушкиных сказок, однако могли сослужить хорошую службу в период адаптации супружеской пары в Урочище: что там поговаривают в народе по поводу новопоселенцев-фермеров?
Однажды вечером Георгий взял спиннинг и отправился на озеро к мысу, выступавшему с южной сопки: лед сошел совсем недавно и рыба неплохо играла у самой поверхности полой воды. Играла, но почему-то никак не желала брать ни блесну, ни «обманки», сделанные в виде насекомых и мышей. Он хотел уж возвращаться домой – наступило как раз то неуютное состояние природы, когда солнце опустилось за сопку, – однако почувствовал пристальный человеческий взгляд из прибрежных кустов. Сомнений не оставалось: кто-то крадучись наблюдал за ним, почти неслышно передвигаясь следом, и это было любопытно, если учесть, что на тридцать километров вокруг нет ни одной живой души. Уже для проформы бросая спиннинг, Поспелов спокойно выжидал дальнейшее развитие ситуации и прикидывал, кто это мог быть. И получалось, что кроме старого хозяина Ворожцова больше некому. Из ревности, из жалости к своему оставленному поместью пришел, возможно, попытается теперь пугнуть его из кустов, устроить какую-нибудь «пионерскую» шутку с воем, с белой тряпкой, с диким смехом.
Прошло минут двадцать, стало совсем сумеречно, а Ворожцов по-прежнему таился в кустах либо призрачной тенью двигался вдоль берега. Поспелов достал сигареты и решил прервать эту игру.
– Ладно, хватит прятаться! – сказал громко. – Иди покурим!
За спиной ни звука, но взгляд будто стал еще пронзительнее и острее, как если бы человек прицеливался и смотрел сейчас через прорезь. Непроизвольный легкий холодок пробежал между лопаток, и глаз сам по себе избрал направление, куда безопаснее всего сделать прыжок, чтобы не сорваться со скользких камней в воду.
Георгий медленно прикурил, растянул сигарету и обернулся…
На обрыве, метрах в восьми, стояла свинья, высокая, на ногах, с громадной головой, висячими ушами и плоская, как камбала. Взгляд был внимательный, человеческий, пытливый… Поспелов сделал два шага в гору, и тут эта скотина внезапно завизжала, да так, что захолодела душа. Будто резали ее! Тем более усиленный звучным эхом, визг этот показался громогласным.
– Понял, ты – ведьма! – сказал он. – Гоголевская героиня. Я тебя узнал, и потому смойся с глаз. Исчезни, нечисть! Иначе схожу за ружьем и пущу на шашлык. Или перекрещу тебя, и улетишь отсюда к чертовой матери.
Кажется, человеческий голос ее успокаивал или завораживал. Свинья перестала кричать, негромко захрюкала и потрусила, однако же, следом за Георгием. Долина между сопок, что, собственно, и называлось Урочищем, после захода солнца быстро заволакивалась сумраком, словно темной водой, и пока Георгий шел к светящимся окнам дома, свинья пропала из виду и слышался лишь ее мелкий, торопливый топот.
Он оставил калитку открытой и пошел через черный ход, выводящий сразу на кухню.
Татьяна готовила ужин под финскую речь, доносящуюся из динамиков магнитофона.
– Жена, иди принимай скотину! – засмеялся Поспелов. – Определяй на место. А я посмотрю, какая ты хозяйка, какая фермерша.
Она вопросительно посмотрела, убавила звук, подбоченилась.
– Где тебя носит? Где носит-то? Рыбак!.. Только бы удочку в руки и из дома бежать.
По легенде она должна была играть роль несколько сварливой и достаточно властной женщины, старающейся загнать мужа под каблук. По разумению конструкторов, жена-финка после восьми лет супружества обычно такой и становится, поскольку мужья к этому сроку теряют интерес к семейной жизни и поглядывают на сторону.
– Нет, правда! – заверил Георгий. – К нам свинья приблудилась, у ворот стоит.
– Ты-то ни к кому не приблудился? – проворчала она, однако стала менять шлепанцы на калоши – самую удобную обувь в крестьянском хозяйстве.
В свою очередь Поспелов обязан был прослыть скрытным бабником – это самый лучший предлог, чтобы появляться в соседних селах, особенно не афишируя, к кому и зачем. Тем более, оба агента – женщины. Замкнутая жизнь на ферме из-за отдаленности помешала бы работе, а ему следовало часто быть на людях, знакомиться, с кем-то заводить дружбу, иногда выпивки, тащить к себе в гости кого нужно. Первый семейный скандал они уже запланировали с Татьяной, для чего Георгий познакомился и весьма навязчиво полюбезничал с молоденькой продавщицей из Верхних Сволочей. В следующий раз ее следовало прокатить по селу на своей «Ниве» и сунуть дешевенький подарок в виде бус или сережек – то, что носят на виду. Потом Татьяна поедет за продуктами, увидит и покажет, как заманивать чужих мужей. Продавщице это пойдет только на пользу, ибо, стоя за прилавком, неизвестно что продает – товар или себя.
А после принародного скандала Георгий начнет тщательно скрывать свои амурные дела. Скоро потребуется часто встречаться с Ромулом и Ремом, давать конкретные задания на разработку «объектов», получать оперативную информацию и тут одним почтовым ящиком не обойтись. Кроме того, Заремба обещал подготовить и ввести в операцию еще одного агента, и тоже женщину, поселив ее на вершину «Бермудского треугольника» – в качестве начальника метеостанции, расположенной у Одинозера. «Там сейчас работала семейная пара, к разведке не имеющая отношения, а начальника пришлось „отправить“ на пенсию, чтобы освободить место». Георгий настаивал, чтобы на Одинозеро посадили мужика, но новый шеф любил работать с женщинами, считая, что они больше видят и замечают, острее чувствуют и обладают даром предчувствия.
Так что несчастной жене Татьяне не позавидуешь: кругом одни бабы…
Свинья никуда не ушла, рюхала за калиткой, не смея ступить во двор. Все попытки заманить ее, а потом и насильно загнать в скотник не увенчались успехом. Похоже, она одичала, скитаясь по сопкам, но и от жилья не хотела уходить, а младший оперуполномоченный старший лейтенант Курдюкова пока что больше умела быть сварливой женой, нежели хозяйкой на ферме. Несмотря на то что родилась и выросла в деревне Новгородской области. Наконец она догадалась, что приблудная животина попросту голодная. Ей выставили за ворота таз с наскоро запаренным комбикормом и на том успокоились.
– Исправлюсь, товарищ майор, – стреляя глазками не хуже продавщицы из Верхних Сволочей, сказала «жена», перед тем как уйти в свою спальню. – Разрешите идти на ночной отдых?
План разведмероприятий, проводимых в «Бермудском треугольнике», предусматривал почти полное разделение их обязанностей. Татьяна занималась связью, шифровкой и передачей донесений, накоплением уже готовой информации в компьютере – короче, только вспомогательной работой. О всей операции она знала лишь в общих чертах. И не лезла в кухню Поспелова даже из простого женского любопытства. Она имела четкие инструкции, что и как делать, если вдруг возникнет нештатная ситуация, но и тут Заремба ее полностью обезопасил, запретив всякие самостоятельные шаги, любую инициативу, кроме необходимой обороны личной жизни.
Иное дело, просто жизнь на ферме «семейной пары», та самая жизнь, которая занимала основное время и которая была главным прикрытием разведоперации. Без труда они купили и пригнали пару коров, десяток бычков поставили на откорм, благо, что и пасти не надо: бывший хозяин обнес свои тридцать гектаров выпасов и семьдесят – посевов клевера проволочной поскотиной. Уже получена ссуда в банке на приобретение пасеки в двадцать пять ульев и всего необходимого инвентаря, чтобы сделать кочующий пчельник на базе грузовика ГАЗ-66 с прицепом – с ней можно было все лето ползать по «треугольнику»: лучшего предлога не придумать.
С первого же дня знакомства со своей «женой» Георгий понял, что вряд ли когда свыкнется с мыслью, что они так и останутся чужими людьми. И что станут жить под одной крышей как начальник и подчиненный, а не как мужчина и женщина.
Еще в Москве Георгий привез Татьяну к себе домой и, говоря языком бабников, распустил перья. Она весьма искусно ему подыгрывала, пила шампанское, кокетничала и заметно хотела понравиться, что было совершенно естественно: пожалуй, не одна она из «женского батальона» с удовольствием бы поехала поработать года на два в экзотических условиях фермы в карельских сопках среди голубых озер и рек, где плещется форель. Вместо того чтобы прислуживать какому-нибудь ожиревшему директору оборонки или вовсе таскать белье и стелить постели в гостинице, попутно выполняя литерные мероприятия.
Он почти не сомневался в успехе первого вечера и порой мстительно вспоминал свою бывшую законную жену, в простреленной постели которой наверняка уже лежал любовник, о котором она напоминала часто и навязчиво. После двух ночи Георгий открыл дверь ванной комнаты.
– Старший лейтенант Курдюкова! Сначала сюда, а потом – в койку!
– Есть, товарищ майор! – откликнулась Татьяна и без всяких комплексов попросила халат или на крайний случай длинную мужскую рубашку, потому что ночью она зябнет.
Он дал ей халат и пообещал, что сегодня будет тепло и, может быть, даже жарко.
Пока он на правах хозяина прибирался на кухне, Татьяна выполнила приказ, и Георгий явился в спальню как молодожен к брачному ложу.
– Извините, товарищ майор, – вдруг трезвым и холодноватым голосом сказала она, – служба на сегодня кончилась.
Я и так работала до двух часов. Спокойной ночи.
Он тогда еще не поверил в стопроцентное «динамо», хотел пошутить:
– Я по легенде – бабник и обязан работать всю ночь. К тому же нам следует приспосабливаться друг к другу, не так ли?
– Непременно, Георгий Петрович. Вот и будем приспосабливаться.
– Так в чем же дело? Сейчас и начнем.
– Начнем. Идите спать. На диван. Или мне уйти?
Он ощутил прилив раздражения от ее внезапной сухости и решительности, однако настаивать сейчас, тем более проявлять свою волю было глупо. Судя по ее тону, она не моргнув глазом пойдет на обострение, и вовсе не из-за своего целомудрия, а из-за какой-то жесткой принципиальности. Ко всему прочему, Георгий вспомнил отеческое предупреждение Зарембы и совет найти общий язык. Он сел на край постели.
– Ты меня сбила с толку, – сказал он, смиряя гордыню. – Прошу прощения… Скажи, что ты имела в виду, когда говорила… о приспособлении друг к другу? – Георгий будто бы заботливо подоткнул одеяло под ее ноги.
– А то и имела, – не сразу сказала она. – Придется приспосабливаться жить под одной крышей, изображать семейную пару, разыгрывать то любовь и согласие, то ревность и ссоры. Если, конечно, после этой ночи вы от меня не откажетесь.
Георгий и тогда не поверил в искренность, зная по опыту, как самые опытные шлюхи умеют разыгрывать неприступных девочек-дюймовочек. Он сделал вид, что вполне удовлетворен ответом, попросил извинения и ушел спать в зал, на диван. И всю ночь не мог уснуть от одной лишь мысли, что он, Жора Поспелов, никогда не знавший отказа, вынужден спать сейчас в одной квартире с молодой, приятной женщиной, которая пусть и не возбуждает такую дикую страсть, как бывшая жена, однако притягивает воображение новизной ощущений; вынужден ворочаться с боку на бок, без конца думать о ней, представлять, как бы это все восхитительно у них произошло. И тихо злиться от собственного бессилия, и вспоминать, как он с блеском выхватил из грязных рук не какого-нибудь старшего лейтенанта спецслужбы, а саму «Мисс Очарование». Взял одной смелостью и напором, будто крепость на шпагу! Правда, и первая их ночь тоже походила на насилие, только вместо истерики, обиды и стрельбы родилось совершенно обратное: Нина покорилась ему и сама назвала мужем, отныне и навеки…
Под утро он окончательно накрутил себя, взвел и разозлился на Татьяну, решив отказаться от ее участия в разведоперации. С этой мыслью он и уснул, сжав кулаки и стиснув зубы, ругая ее про себя так же, как вчера Нину – шлюха, тварь, дрянь…
Тогда и в голову не пришло, что Татьяна за стенкой тоже не спала, тоже думала, вспоминала… И тоже уснула под утро, всего на пару часов, потому что в семь разбудила его тем, что готовила на кухне завтрак и, не зная «секретов» старой поспеловской мебели, уронила дверцу настенного шкафа, оторванную во время переезда, так и не отремонтированную.
Он лежал и делал вид, что не проснулся. Ее инициативу он сначала расценил как желание угодить, подлизаться, искупить как-то издержки собственных принципов.
Потом Татьяна осторожно вошла в комнату, постояла возле «спящего», сделала движение, чтобы тронуть за плечо, но вместо этого как-то бережно прикоснулась к сжатому кулаку на подушке, погладила и осторожно, один по одному, распрямила пальцы. И второй кулак отчего-то разжался сам…
– Не притворяйся, – сказала с улыбкой. – Вставай, я приготовила завтрак. Начнем есть наш пуд соли.
В этот момент Георгию вспомнилось, что у Татьяны есть сын, живущий с бабушкой где-то в Новгородской области. От мысли об этом ребенке эта строптивая, дразнящая, своенравная женщина предстала перед ним с неуловимой печатью иного качества – материнства, которое служило некой защитой от всякого на нее посягательства. За ее плотью стояла еще одна плоть, еще одна живая душа, и всякое оскорбление, нанесенное ей, немедленно отзывалось в ребенке. Что бы он, Жора Поспелов, чувствовал, если бы кто-то чужой посмел оскорбить его мать? Посмел говорить с ней развязно, предлагать «приспособиться»?
А сын Татьяны еще маленький и не способен отомстить за мать.
Неожиданным образом увязанные эти мысли в один момент развеяли все ночные мысли и страсти. Только осталась одна мстительная в отношении бывшей жены, за насилие над которой никогда никто не отомстит, потому что некому мстить: Нина о детях и слышать не хотела! И он когда-то не хотел, но к тридцати, и еще чуть раньше, окончательно созрел, потому что начал матереть, ощущать опасность своей работы, страх, уровень риска и эфемерность жизни. Словишь пулю – и ничего после тебя не останется! Никого! Жена? Так жена, как поется в старой казачьей песне, погорюет и забудет про меня…
– Вставай. – Татьяна положила руку ему на лоб. – Остыла твоя горячая голова, утро вечера мудренее, вставай.
Георгий осторожно убрал ее дразнящую ладонь: эти игрушки в утреннюю ласку после ночного «динамо» были известны и означали единственное – Татьяна не хотела портить с ним отношения и выбрала неприемлемую для него тактику постоянно подогревать чувства и воображение, но всякий раз ускользать из рук под самыми разными предлогами. Эдакая кошечка с мышью.
Только Георгий сам привык быть котом.
– Отлично, – холодно проговорил он и встал. – Ты сделала выбор в наших отношениях. Я тоже. Люблю, когда у меня развязаны руки. Когда с товарищем по службе связывают только служебные, а не постельные дела.
Вероятно, тогда она приняла это за шутку или за некую месть уязвленного мужского самолюбия и серьезно к его словам не отнеслась. На деле же теперь получалось точно так, как он сказал: Георгий разъезжал по «треугольнику», заводил знакомства с женщинами, любезничал с очумевшими от тоски одинокой жизни в глухих местах агентами Ромулом и Ремом – одним словом, был все время на людях, а Татьяна как опостылевшая нелюбимая жена сидела на хуторе и ждала у окошка блудливого «мужа». Мало того, скоро хозяйство резко прибавилось: бродячая свинья, прибившись на ферму, привела с собой девять полосатых поросят – признак того, что огулялась с диким кабаном, – и хочешь не хочешь, забот у хозяйки прибавилось.
Когда же в конце мая Поспелов наконец купил пасеку, «жена» не то чтобы затосковала, но почувствовала себя обманутой: дачная жизнь на ферме, как корабль, обрастала ракушками и тянула ко дну.
А пасека была необходима как прикрытие: часть ульев выставлена на ферме, а большая часть превращена в кочующую пасеку, которая позволяла в любое время появляться в той части «Бермудского треугольника», где было необходимо. Георгий сразу же начал готовиться к выезду на несколько ночей и заметил, что строптивая, несостоявшаяся любовница ждет этого часа, как муки, ибо выяснилось, что боится оставаться на ферме одна, несмотря на электронную охранную сигнализацию и автоматическую связь.
– Ты жесткий парень, Поспелов, – сказала она накануне отъезда его с пасекой в недра загадочного «треугольника». – Знаешь ведь, что мне будет страшно, и даже душа не дрогнет… Ты всегда так с женщинами?
Он не хотел ни завоевывать ее таким образом, ни тем более пугать, а сказал в общем-то правду.
– Не жесткий, а жестокий, – поправил. – Представляешь, в последнюю встречу с женой я изнасиловал ее. Да, а она в меня стреляла. Ничего отношения? А знаешь, кто моя бывшая? «Мисс Очарование» восемьдесят восьмого года, Нина Соломина, помнишь?
Она пожала плечами:
– Нет, не помню… Роковая женщина?
– Они все у меня роковые, – признался Георгий. – Потому что надо мной рок висит. Так спецпрокурор определил. Хорошо, что нас судьба повязала только… легендарными супружескими отношениями.
Татьяна смотрела хоть и недоверчиво, но в глазах таился испуг. Поспелов рассмеялся и похлопал ее по щеке:
– Ладно, не бойся, я скоро собаку куплю. Даже двух, кавказских овчарок. Будешь дама с собачками!
Наутро же стало ясно, что заезд с пасекой в Долину Смерти придется отложить на неопределенный срок, поскольку Татьяна приняла шифровку, ключом к которой владел только он сам. Это означало особую важность информации…
Заремба сообщал, что в Петрозаводске внезапно объявились два охотника-медвежатника, исчезнувшие вместе с вертолетом Ми-2 пять месяцев назад. Требовалось немедленно установить, вернулся ли из небытия егерь, продавший им медведя в берлоге, и срочно выезжать в столицу Карелии, чтобы через местную спецслужбу выяснить, в каком параллельном мире побывали новые и все-таки земные русские люди…
5
«Новые русские» до этой самой злополучной охоты были людьми малознакомыми, хотя жили в одном городе давно и бизнесом занимались лет по восемь. Надо сказать, что и по роду занятий они были близки: оба когда-то относились к интеллигенции.
Хардиков начинал жизненный путь в милиции, когда еще существовал ОБХСС, дослужился до капитана, а потом его свел с ума один известный художник, заразил тягой к прекрасному, к живописи и поэзии, и он уехал учиться на журналистский факультет. Парень он был симпатичный, светловолосый, слегка скуластый, с острым, пронзительным взглядом, что нравилось женщинам и не нравилось преступникам. Эдакий «истинный ариец», баловень судьбы, белокурая бестия.
Журналистом он поработать не успел, началась перестройка, некоторое время занимался издательской деятельностью, в которой наварил первоначальный капитал, и ушел в область прозаическую: стал торговать обувью, организовав частную фирму «Стивал-Карел». К началу памятной охоты Хардиков имел до сорока магазинов в самом Петрозаводске и многих городах России, включая Питер, мечтал открыть свой банк и уже достраивал для него здание в центре карельской столицы. Бандиты его никогда не доставали и своими налогами не обкладывали, поскольку бывший капитан сидел под «крышей» МВД и обувал в итальянские ботинки половину милиции.
Человеком он был смелым, богатым, способным на поступок и никакими комплексами не страдал. Кроме бизнеса с такой же страстью любил охоту, а когда хорошо выпивал, в душе просыпалась зараза, внесенная художником: тянуло к поэзии, причем исконно русской – к стихам Есенина, Клюева, Рубцова.
Благодаря ей они и сошлись со Скарлыгиным, когда встретились на юбилее общего знакомого. Выпивший Скарлыгин встал и вместо тоста начал читать стихи Рубцова:
- Россия, Русь! Храни себя, храни!
- Смотри, опять в леса твои и долы
- Со всех сторон нагрянули они,
- Иных времен татары и монголы.
Читал со страстью, с душевной болью, до слез, пытаясь пробить силой слова галдящую толщу застолья. Не пробил…
Скарлыгин обликом своим напоминал народовольцев прошлого века: борода, очочки, а за ними глаза, полные любви и сострадания к своему народу. По образованию он был геолог-геофизик, но работал корреспондентом в газете долгое время, и направление в бизнесе избрал как бы по третьему пути – образовал фирму «Сантехмонтаж», строил канализации, водопроводы, ставил раковины и унитазы. В отличие от Хардикова, едва сводил концы с концами, выкручивался, искал ссуды и страдал от рэкета. Поэтому сошлись они не на бизнесе, а на страсти к поэзии и охоте. На юбилее они уединились, до утра пили водку и читали стихи, пели и плакали, умилялись и покрывались ознобом от повышенной чувствительности и силы поэтического слова. Тут же поклялись: немедленно, как только придут на работу собственные бухгалтера, перевести крупные суммы на памятник Николаю Рубцову в Вологду, – и заодно договорились поехать на медведя. Хардиков накануне купил берлогу.
Проспавшись к обеду, про перевод денег на памятник они мгновенно забыли, но отлично помнили об охоте, поскольку любили ее во всяком состоянии. Хардиков зафрахтовал вертолет Ми-2, посадил нового друга, и полетели они в неизвестность.
И вот спустя пять месяцев объявились в городе внезапно – причем не только для своих домочадцев, работников предприятий, но и для себя лично. Пришли в себя и обнаружили, что находятся на складе труб, чугунной фасонины и фаянса, принадлежащем Скарлыгину, запертые снаружи на замок и опечатанные печатью банка; за долги фирма полностью перешла в собственность кредитора.
Скарлыгин разорился, пока был на этой странной, длительной охоте. Даже некоторую мебель из квартиры продали с молотка… Пустить в трубу фирму «Стивал-Карел» за такой срок было не так-то просто, хотя и Хардиков понес крупные убытки за время отсутствия. Об исчезнувшем вертолете, двух пилотах и егере у него, разумеется, спросили сразу же, но по-свойски. И он так же по-свойски рассказал, что благополучно подхватили на борт егеря в Нижних Сволочах, взлетели по направлению к Горячему Урочищу, и тут началась болтанка, так что выпить в воздухе было невозможно. Из горлышка же «новым русским» пить не пристало, и они дважды приземлялись на голые вершины сопок, минут на пять: пилоты двигатели не глушили.
И вот когда пришло время приземлиться в третий раз, командир экипажа забеспокоился – что-то непонятное творилось с приборами, будто зашкаливало или вовсе не работало. Бывший геофизик успокоил, дескать, это магнитная буря, а Хардиков приказал все-таки сесть и, пока выпивают и закусывают, посмотреть машину. Приземлились на лысой сопке, от винтов поднялся высокий столб сухого рыхлого снега, и когда он осел, – двигатель на сей раз выключили, – то все увидели, что со всех сторон к вертолету идут какие-то люди в скафандрах, а, может, и в заиндевевших, обросших куржаком капюшонах – тут мнения расходились.
Снег был глубокий, поэтому людишки казались маленькими, тонули по пояс. Водки на борту было целых полтора ящика – есть чем попотчевать нежданных гостей, так что «новые русские», уже читавшие стихи, компании обрадовались, сами открыли дверь и еще зазывать стали.
А это оказались вовсе не люди – уроды какие-то! Зеленые, похожие на чертей! Они чем-то брызнули в салон вертолета, как из газового баллона, и все враз полегли, потеряли сознание…
Дальше «новые русские» несли вообще полную чушь, бредятину про летающую тарелку, в которой они потом очутились, про полет на планету Гомос, находящуюся в другой солнечной системе, про открытие внеземной цивилизации и про то, как там устроен мир. Работники прокуратуры и милиции, отлично знавшие Хардикова, не могли поступить с ним грубо и сразу же определять в местную психлечебницу. Его отпустили домой, а разорившегося Скарлыгина с помощью специальной бригады «скорой помощи» отвезли в наркологическое отделение: диагноз был поставлен соответствующий – алкогольный психоз, шизофрения крайней степени, сумеречное состояние. Владелец фирмы «Стивал-Карел» хоть и был по-товарищески предупрежден молчать, что с ним произошло, не послушал советов и созвал пресс-конференцию, где сделал сенсационное заявление. Инцидент получил широчайшую огласку, Хардикова показывали по телевидению, о нем писала вся свободная пресса, начался нездоровый ажиотаж. Но и плевать бы на него: чем бы народ ни тешился, лишь бы не плакал, не ныл, что вовремя не дают зарплаты. Бывший капитан милиции пошел дальше, совершая безумные действия – все свободные деньги в сумме сто пятнадцать тысяч долларов перевел на строительство памятника поэту Рубцову, в магазинах убрал кассовые аппараты и приказал раздавать обувь бесплатно. Стало ясно, что оставлять его на свободе больше нельзя, а уговорить, подействовать невозможно.
Хардикова снова пригласили в прокуратуру, спровоцировали буйство и увезли в наркологию.
Тимоха не умер, хотя испытал полное ощущение смерти – так, как ее себе и представлял. Очнувшись, он увидел перед собой стерильно чистый, матово-блестящий потолок, набранный из металлических плиток, почувствовал, что руки вытянуты вдоль тела и чем-то привязаны. Сразу же подумал, что это операционная: значит, «сломался» на прыжке, скорее всего, повредил позвоночник. Голову вроде бы ничего не сдавливает, шея работает – значит, черепно-мозговой нет. И слава богу! А то бы ходил потом по деревне, улыбался и фиги показывал, как покровский дурачок Мотя.
Он чуть приподнял голову, еще тяжелую, пьяную после наркоза, – перед глазами закружились какие-то приборы, блестящий металл, мониторы. Похоже, не операционная, а реанимация, где он бывал несколько раз, когда кто-то из десантуры неудачно приземлялся. На душе полегчало – кризис прошел, если очнулся, жить буду! Попробовал шевельнуть позвоночником, двинуть ногой – все двигается, пальцы шевелятся. И писать охота – просто смерть!
Мочиться в штаны десантнику, даже прикованному к постели, было «западло».
Паршивый какой-то, нудно режущий свет быстро утомлял зрение, Тимоха прикрыл глаза и позвал:
– Сестра? Эй, сестрица!
Вокруг была полная тишина, если не считать урчащего звука где-то за головой – видимо, работал холодильник. Конечно, на дворе ночь, и эти сестрицы-сучки либо спят, либо собрались и пьют чай. А ты лежи тут и жди, когда мочевой пузырь лопнет. И ведь еще привязали, курвы!
Он пошевелил запястьем – поддалось, что-то затрещало. Вмиг догадался: распяли липучей лентой. Ну, это тебе не ремень с пряжкой-самозахватом! Через несколько секунд он высвободил правую руку, с левой же просто сдернул завязку и, забыв о позвоночнике, сел…
Сначала обнаружил, что не голый вовсе, как обычно лежат в реанимации, а обряженный в какой-то тоненький, глухой комбинезон из ткани, похожей на серебристый металл. И нет ни гипса, ни повязок! На ногах же высокие ботинки, очень похожие на десантные, только сшитые из какой-то ерунды в виде фольги от сигаретной пачки.
И кровать под ним – вовсе не кровать, а кресло с мягкой, откинутой горизонтально спинкой. Подивиться и осмыслить все увиденное еще не хватало времени да и эмоциональных сил, которые сейчас были прикованы к мочевому пузырю. Мать их так, где тут у них туалет? Хоть бы утку поставили… Он спустился с кресла, и спинка вдруг сама встала вертикально. Пьяно шатаясь, он сделал несколько шагов и на секунду забыл о туалете…
По правую руку от него, точно в таких же креслах, выстроенных вдоль стены, как в «боинге», дрыхла вся группа, все пятеро! Нет лишь пилота Леши и летнаба Дитятева. И помещение реанимационной какое-то вытянутое, округлое, без углов, без окон и дверей, как в сумасшедшем доме. Тимоха потоптался, держась за стеночку, прошел назад, вперед: хрен знает, где этот туалет!
Пока все спят, можно куда-нибудь в угол почирикать, а потом отпереться. И пусть сестрицы промокают тряпками!
Он так и сделал, зайдя за пластиковую тумбу с приборами. Лужа потекла вдоль стены по серебристому рифленому полу в сторону кресел со спящими мужиками – уклон туда был. Испытав облегчение, Тимоха в тот час же вытаращил глаза, предаваясь изумлению. Кипит-твое-молоко! Ну и палата! Не иначе как все побились, может, самолет гробанулся? И всех в Москву привезли, к Склифосовскому. Возили же туда якутскую десантуру после вынужденной посадки, когда мужики и парашюты надеть не успели, переломались. Значит, и их в столицу приперли. Сколько же это без памяти-то был? Дня два?..
Тимоха подобрался к соседнему креслу, где лежал Лобан, одетый точно в такой же комбинезон, потолкал его, оторвал липучки, связывающие руки. Старшой спал, и от него все еще воняло перегаром… Но такого и быть не может! К вечеру всяко бы продышался, перегнал бы сивуху из крови в мочу…
– Стоп! – сказал он, осененный внезапной догадкой.
Их же еще только везли в Москву! На самолете! На санитарном! Вон и гул какой-то за стенкой. А самолет – импортный, не советский, пригнали откуда-нибудь в качестве гуманитарной помощи. И комбинезоны эти, видимо, входят в комплект для перевозки раненых… Но кто же ранен-то здесь? Изломанные парашютисты обычно что утюги – так закатают в гипс, будто живой памятник.
Все лежат красавцами, ни одной повязки, ни шины, ничего! И сон у всех странный, как под наркозом. Иначе бы ворочались, храпели, сопели и чмокали.
В следующий миг Тимохе стало нехорошо, заболело под ложечкой от тоски: вспомнил, что перед тем, как потерял сознание, видел каких-то мужичков в скафандрах под деревом, коротеньких и зеленых. Чего-то они суетились, бегали, как муравьи…
Значит, крыша поехала! Причем у всех сразу. Вся группа накрылась, и везут в какую-нибудь психбольницу. А пристегнули всех, чтоб не буянили, снотворным накачали…
Он сел в свое кресло и чуть не заплакал от жалости к себе. Руки увидел, по-прежнему черные, измазанные родной печной сажей, глубоко въевшейся в кожу.
Дома печь развалена, Ольга матерится, ребятишки в грязи ползают… Куда везут? В какой город? И письма не дадут написать. Говорят, дуракам не разрешают, чтобы домашних с ума не сводили… У Тимохи началась вдруг такая смертная тоска – лучше бы не приходил в сознание. Лежал бы себе, как вся гвардия лежит, и сопел в две норки. И не думал бы… Домашняя сажа на руках показалась ему такой дорогой, милой сердцу, что он руки к губам поднес и чуть ли не поцеловал. Не надо смывать! – подумал, – пусть хоть эта частичка родимого крова всегда будет с ним. А то ведь все свое содрали, трусов не оставили, в какую-то униформу обрядили, паскуды. Грязь же от домашней печи – это не грязь!
– Погоди-ка, Тимофей! – вслух сказал он и слегка оживился. – Если ты думаешь… Да так складно думаешь, значит, не все потеряно! Дураки-то вовсе не соображают…
Он замолк и огляделся: услышат – скажут, сам с собой базарит. Это первый признак душевного заболевания. Мотя покровский ходит вон и бухтит-бухтит себе под нос.
И руки надо бы отмыть! Отпарить, вытравить всю сажу. Потому что когда ее бережешь, тоже ненормально. Разве умный человек ходит с грязными руками? Разве трясется от умиления над неопрятностью?
Эх, и отмыть нечем! Ни крана, ни раковины. Надо было, когда писал, хоть мочой, что ли… Тимоха поплевал на ладони, потер о комбез – ничуть не посветлело.
Да и чиститься сейчас сидеть, когда летишь хрен знает куда и зачем, признак нездоровый. Вроде, слышал, мания такая есть – мания чистоплотности…
– Тьфу! Мать ее так… Не знаешь, что хорошо, что плохо, – забывшись, выругался он. – Ну ты и влип, Тимоха! Удружил тебе шеф!..
Он снова осекся и огляделся – спят. А чего это он говорит сам о себе, будто со стороны видит? Надо контролировать себя, в руках держать, бороться, если в самом деле небольшой завих случился. Поди, пройдет. Вот же, все вижу, все понимаю правильно, осознаю себя, ориентируюсь в пространстве, по полу хожу – н по стенам. Правда, написал за тумбу, так от нужды! Гады, хоть бы сортир сделали в этой труповозке, буржуи проклятые…
Вообще-то разобраться – почти здоров. Наполеоном себе не кажусь, твердо знаю, что я – Тимофей Трофимович Алейский, парашютист из авиалесоохраны, живу в селе Покровском, имею жену Ольгу и двух девок, Наташку и Олеську. Одной пять, другой четыре года… Сам родился в семидесятом году, третьего декабря, кончил десятилетку, отслужил в Рязанской воздушно-десантной дивизии, пятьдесят семь прыжков сделал…
Да с мозгами-то все в порядке! Никаких сдвигов! «Мороз и солнце, день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись!..» Это Пушкин. Семью девять – шестьдесят три. Площадь круга – два пи эр в квадрате. Брат Колька – тракторист, пьет, паразит. Сестра на Украину уехала с мужем и теперь за рубежом оказалась, за границей – ни слуху ни духу. Живая ли?..
Однако в следующий момент взлетевшая было душа снова оборвалась в пропасть, будто при первом прыжке с аэростата: мужичков-то зеленых видел! В скафандрах бегали… Это труба! Как живые перед глазами стоят. Маленькие, с метр, передвигаются странно, как инвалиды, с раскачкой. Не приснилось же! Видел. А если пришельцев начал видеть – кранты, затягивай кильванты, приехали. Был приступ…
Неожиданно темный большой квадрат на стене вспыхнул голубым и засветился – да телевизор же! Вот пошли титры… Да это же фильм «Белое солнце пустыни»! Ничего сервис. Должно быть, чтоб больные нервы успокаивали.
Федор Сухов шел с чайником по пескам, с бархана на бархан. Сейчас Абдуллу найдет, закопанного по горло, водой напоит… Все помню!
– Тим? Тимошка? – вдруг послышался за спиной слабый голос, заставивший вздрогнуть. Спина заледенела – будто с того света говорят. Не оборачиваться! Не реагировать! Пусть хоть черти лохматые выползут!
– Тимофей, мы где вчера так надрались? Что-то забыл… Кто раскошелился-то?
Фу, блин! Да это же Лобан очнулся! Тимоха резко обернулся – старшой боялся тряхнуть головой, лишь глазами хлопал, как кукла.
– Дай водички, Тима…
– Где я возьму? – проворчал Тимофей. – Водички ему…
– Сходи на колодец… Холодненькой…
– Разбежался!.. Башку-то свою подыми, посмотри, где мы.
– А где мы? В вытрезвителе, что ли?
– Ага! – зловредно протянул он. – В вытрезвителе! Хмелеуборочная подобрала!
– Тебя-то за что?
– Балда, в самолете мы! Летим!
Лобан помолчал, помыслил, предположил:
– Не помню… Меня что, пьяного погрузили? И Дитятев согласился?.. Придется фуфырь поставить…
– Поставишь. Вставай, погляди кругом. Самолет-то не наш. Санборт пригнали, импортный. С телевизором вон.
– А я думаю, что там горит на стене… Куда это нас?
– В дурдом, куда… – Слегка взвинченный тон в общении среди десантуры считался хорошим тоном, ребятишки-то все крутоватые…
Тимоха чувствовал себя уже хозяином положения, эдаким «старожилом» в брюхе урчащего, как холодильник, аппарата. Успел кое-что обдумать, понять…
– Слышь, Тим, – Лобан с трудом сел, – в самом деле, куда летим-то?
– Сказал же – в психбольницу. Куда еще нас?
– Кончай балдеть… Почему?
– Потому что ты – дурак. Напился до чертиков.
Старшой только простонал, попробовал собраться с мыслями – не вышло. Матюгнулся обреченно.
– Тебя сопровождать послали?
– Ну! До Москвы!
– Теперь из летной книжки талоны выстригут, – отчаянно проговорил Лобан. – А мне до пенсии – три года…
– Жрать меньше надо было! – подзадорил Тимоха.
– Слышь, Тимоха, – воющим каким-то, волчьим голосом протянул старшой. – Я ведь и правда чертиков видел. Будто повесился на сосну, а подо мной бегают. Зеленые…
Тимофей незаметно и облегченно перевел дух: значит, не один видел! Вдвоем уже легче, можно биться спиной к спине…
– Рожки-то были? Хвосты?
– Не-а… На них одежа… Как у нас защита. И будто вместо касок гермошлемы. Рожи мерзкие, зеленые…
– Во-во! Белая горячка! – определил Тимоха.
– За чей счет самолет-то наняли? – вдруг спохватился Лобан. – Мне же за такое лечение за всю жизнь не рассчитаться. В Москву! Ничего так… Мог бы в Петрозаводске спокойно подшиться. Или закодироваться. За каким фигом в Москву, Тим?
– Давай поднимать остальных! – распорядился тот. – Хватит дрыхнуть.
– Кого – остальных? – с опаской и не сразу спросил старшой.
– Десантуру. Ты оглядись, оглядись. Вся группа с тобой.
Лобан сполз с кресла, механично переставляя ноги, поплелся по салону. Глазел с любопытством и страхом, как на покойников, и врубался трудно, со скрипом в мозгах.
– Тимоха… А мы все – живые? Или… того?
– Пока я мыслю – я живу! – вспомнил тот. – Великие так говорили. Все. Ничего не мыслю, – признался старшой. – Ладно, меня на психу. Ну еще Азария… Молодняк-то куда? Зачем? Пашка только женился, в рот не берет… Почему, Тимошка? Ну, ты же всегда по трезвяку! Ты-то все помнишь!
– Однозначно, в дурдом! – Тимофей потряс тяжелую богатырскую тушу Азария – бесполезно. Запечатал ему ладонями рот и нос.
– Зачем?..
– Затем, что все тут чертиков видели, маленьких и зелененьких! Вот разбудим и спросим. Буди!
Старшой, как обычно в таких случаях, почувствовал острое желание действовать и руководить.
– Подъем! – заорал он и стащил на пол сначала Шуру, потом Игоря. Растряс, растолкал, полусонных поставил на ноги. Наконец заворочался и замычал Азарий, лишенный кислорода, разлепил глаза. Молодожен Пашка от суеты и голосов проснулся сам, сел, принюхался и вдруг сказал совершенно трезвым, нудноватым голосом:
– Мужики, ну кто опять в штаны наделал? В одной казарме с вами спать невозможно. Опять вонища…
И тут началось – где, почему, зачем? Хлопали глазами, вертели головами, щупали себя, металлические стены, глазки приборов. Тимоха объяснял популярно – кто верил, кто сильно сомневался, а кто и вовсе отрицал, что палата – салон санитарного самолета.
В том, что видели зеленых мужичков под деревьями, признался один только Азарий.
Рассказал откровенно, без утайки; остальные, включая Тимоху, напрочь отрицали чертей. И терялись в догадках, каким образом угодили в эту камеру без окон и дверей.
А Тимоха-то сразу понял, что зеленых мужичков видели все без исключения! Темнили только по своим соображениям, чтоб за дураков не приняли. Это Лобану с Азарием все равно: они и так были на грани белой горячки – что им не признаваться!
Горлопанили почти час и даже немного развеселились, что хоть и оказались в заднице, но зато всей группой, как на пожаре. Плевать на этих уродцев, что под деревьями чудились!
Потом всем скопом навалились на Тимоху, разобравшись, что он очнулся раньше всех, а может, и вовсе не спал, хитрец-трезвенник.
– Откуда мы здесь взялись? – орали. – Кто сюда посадил? И насколько?
– Пошли вы! Не знаю! – решил не отделяться от коллектива Тимоха. – Меня тоже одели, как вас, обули! И в такое же кресло закопали!
– Мужики! – вдохновился Лобан. – Тимоха – ментяра! Стукач! Давно подозревал! Давно! Почему не пьет никогда?.. Ах ты, козел!
– Ах, падло! – громыхнул Азарий и буром пошел на Тимоху. – Своих корешей заложить? Куму десантуру сдать?!
Он после армии с годик посидел в тюрьме за хулиганку и считался мужиком бывалым и невероятно честным – век воли не видать! И если уж Азарий взорвался и слово молвил – чистая правда…
Тимоха вновь ощущал себя почти здоровым, попятился к стене, вжался спиной, изготовившись драться со всей командой – десант умирает стоя! Что с них взять – дураки же! Толпа во главе с Азарием приблизилась вплотную: кто в каратистской стойке, кто в боксерской, кто выбросил руку, чтоб схватить за шею, как в вольной борьбе. Зека Азарий по-кошачьи держал перед собой руку с двумя растопыренными пальцами – фазы замкну! Тимоха выставил защитный блок и больно ударился локтем о металлическую стенку, замозжило руку, задергало, будто ток пробежал…
Да чего это они, полудурки? Глаза вытаращили, рты разинули… И глаза устремили куда-то мимо Тимохиной головы…
За спиной что-то тихо зажужжало и зашевелилось…
И спиной же он ощутил бесконечную пустоту, открывшуюся сзади…
Как зачарованный, он медленно повернул голову и оцепенел.
Большой сегмент, из которых состояли стенки этой палаты номер шесть, отъехал в сторону. А за ним обнаружился приличный овальный иллюминатор с выпуклым стеклом.
Где-то на высоте пояса…
За стеклом была звездная чернота ночи. И больше не требовалось ни разборок, ни объяснений, ибо, единожды взглянув в эту бездонную пропасть, все становилось предельно ясно, как божий день.
За бортом медленно плыл открытый космос.
И планета Земля хоть и была далеко, хоть и выглядела не крупнее школьного глобуса, но все еще четко различались на ее поверхности материки и крупные острова, разбросанные в голубом океане…
6
Поспелову очень хотелось увидеть пострадавших «новых русских» воочию, побеседовать с ними, попробовать из полного бреда выстроить хоть какую-нибудь логическую картинку, однако он не имел права раскрываться и вступать в контакты с кем бы то ни было, кроме сотрудников спецслужб, и то под другой фамилией и легендой. В Петрозаводск он якобы прибыл из Москвы для выяснения обстоятельств, связанных с пропавшим вертолетом и объявившимися «новыми русскими». Командированным из главной конторы на местах обычно лишних вопросов не задавали, обходились шифрованным предписанием оказывать всяческое содействие.
Петрозаводские коллеги думали о происшедшем совершенно однозначно, их выводы полностью совпадали с медицинским заключением, но при этом они никак не могли ответить на вопрос, где же вертолет с пилотами и егерем, которого в Нижних Сволочах не оказалось. Строили предположения, что летчики тоже выпили крепко и заснули в вертолете, а охотники спьяну выбрались из машины и отправились искать берлогу. И потерялись. Проснувшись, пилоты полетали, поискали их и не нашли.