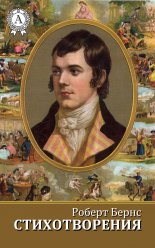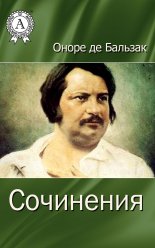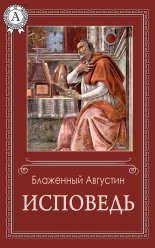Россия и становление сербской государственности. 1812–1856 Кудрявцева Елена
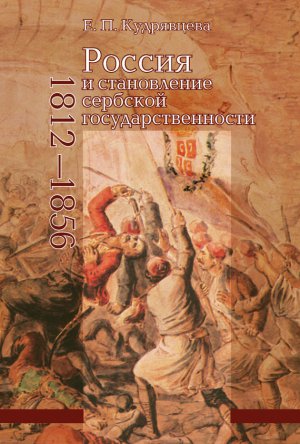
Николай I с готовностью принял предложение султана. Европейские революции начала 30-х гг. способствовали укреплению легитимистских тенденций во внешней политике российского императора. Таким образом, борьба с мятежным пашой укладывалась в общее русло контрреволюционных выступлений, поддержанных Россией. Ее правительство открыто демонстрировало дружеское расположение к Порте, сближение с которой стало одним из доминирующих принципов сохранения «законного порядка» в Европе. К тому же российские политики спешили воспользоваться возможностью занять в Турции то место, от которого отказались ранее Англия и Франция. Роль единственной союзницы Османской империи в таком важном регионе, каким являлись Проливы, давно была заветным желанием российского руководства. Оно издавна стремилось к заключению таких соглашений с Османской империей, которые исключали бы вмешательство в них третьих стран[202]. На этот раз намерение создать для себя режим наибольшего благоприятствования в регионе, за которым с особым вниманием следили все ведущие европейские державы, казалось, было близко к осуществлению.
Таким образом, принимая предложение султана, Россия оказалась единственной державой, откликнувшейся на просьбу о помощи. Такая тактическая комбинация стала возможной вследствие изменения внешнеполитических ориентиров российского правительства. Опасаясь нежелательного ослабления Османской империи, Николай I принял решение выслать к берегам Константинополя эскадру с военным десантом на борту и предложить свою посредническую роль в переговорах Махмуда II с Мухаммедом Али.
Эта миссия возлагалась на Н. Н. Муравьева, который был снабжен подробными инструкциями на все возможные варианты развития событий. Судя по характеру инструкций, российские власти вовсе не были уверены в том, что султан примет посредничество России в переговорах, – на этот случай предполагалась достойная ретирада Муравьева. Большое внимание уделялось и тому впечатлению, которое должен был произвести этот шаг «доброй воли» на западноевропейские правительства. Благожелательную позицию поддержки и одобрения занял лишь австрийский кабинет, который рассматривал миссию Муравьева как «эффективное средство поддержать на Востоке мир и существующее территориальное положение»[203]. Австрийский канцлер Меттерних предлагал Англии и Франции «не бросать тени» на действия российского правительства. В особенности Меттерних порицал претензии Франции, пытавшейся отделить Восточный вопрос от других европейских дел под предлогом того, что она является «неизменной покровительницей» Османской империи[204]. Взяв на себя роль союзника, австрийский канцлер подробно информировал русского посла в Вене Д. П. Татищева о готовящемся выступлении Англии и Франции с целью «противодействовать вмешательству России в восточные дела». Это предполагалось сделать путем «немедленной отправки объединенной эскадры в воды Леванта»[205]. В своих воспоминаниях Н. Н. Муравьев подтверждает это намерение – он указывает на то, что французский флот уже пришел в Смирну, а из Англии отправлены для соединения с ним восемь линейных кораблей. Объединенная эскадра должна была двинуться к Дарданеллам и противостоять русскому флоту. Подобные планы возникли из-за реальной угрозы установления преобладающего влияния России в Турции, ибо, по словам Муравьева, «мы распространяли влияние свое без кровопролития и овладевали проливами без победы»[206]. Заслугу в том, что выступление флотов не состоялось и наметились сдвиги в сближении с Англией, Татищев приписывает дипломатическим усилиям Меттерниха[207]. Поддержка Вены простиралась вплоть до того, что австрийский канцлер полностью одобрил действия русской эскадры, намеревавшейся защищать Константинополь[208]. Австрийский интернунций в турецкой столице Штюрмер выразил реис-эфенди полную поддержку России, ее «благородной и незаинтересованной политике, которая… заслуживает высокого доверия»[209].
Итак, султан принял посредничество России, и Муравьев во время встречи с Мухаммедом Али сообщил ему о намерении российского императора поддержать сторону Турции в конфликте. Паша обещал приостановить наступление армии, что и было исполнено. Пока в Константинополе решали, принять ли предложение Муравьева о вводе русской эскадры в Босфор, она неожиданно появилась в виду посольского квартала Буюк-дере, расположенного на берегу пролива, приведя в смятение представителей иностранных посольств. Дело в том, что пока, армия Ибрагим-паши успешно продвигалась к Константинополю, султан согласился не только на ввод русской эскадры, но и просил помощи сухопутными войсками. Однако после приостановления продвижения египетских войск в турецком правительстве возобладали сторонники невмешательства России в конфликт султана с пашой. Посол Франции в турецкой столице приложил много усилий, чтобы Порта отказалась от помощи русского флота. В результате такого давления турецкое правительство даже предложило Бутеневу вывести эскадру «в угоду французскому посланнику»[210]. Благодаря жесткой позиции Бутенева Порте пришлось снять этот вопрос с повестки русско-турецких переговоров.
Первая эскадра в составе четырех линейных кораблей, трех фрегатов, одного корвета и одного брига прибыла на Константинопольский рейд без высадного десанта. Командовал эскадрой контр-адмирал М. П. Лазарев. Войска прибыли в марте 1883 г. на второй эскадре, состоявшей из трех линейных кораблей, одного фрегата, нескольких транспортных и коммерческих судов под началом контр-адмирала М. П. Кумани. Отряд сухопутных войск был высажен на азиатскую сторону Босфора в местечке Ункяр-Искелеси. В апреле на рейд в Буюкдере прибыл третий отряд Черноморского флота под командованием контр-адмирала И. И. Стожевского. Отряд состоял из трех линейных кораблей, двух бомбардировочных судов, транспорта и 11 зафрахтованных коммерческих судов[211].
Несмотря на острые противоречия в правительстве, султан демонстрировал дружеские чувства к России. Русские воины постоянно находились в центре его внимания, получая подарки к празднику Пасхи и медали ко времени отплытия из Константинополя. Султан участвовал в смотре войск и флота, высоко оценив порядок и дисциплину, царившие в русском войске, а также тот торжественный прием, который был ему устроен на берегу и корабле[212].
В мае 1833 г. в Константинополь прибыл личный уполномоченный российского императора А. Ф. Орлов. Он имел поручение заключить с Портой союз, предварительные условия которого были разработаны в Петербурге. Подписание нового союзного договора с Портой, который бы позволил в некоторой степени восстановить былые позиции России в Османской империи и Проливах, было давнишним и постоянным желанием русского двора. Русско-турецкие конфронтации последних десятилетий, а также постоянное пристальное внимание европейских держав к положению на Ближнем Востоке не позволяли ничего предпринять в этом направлении. Международные конфликты сами толкали Турцию навстречу России. Султан Махмуд II в личном письме Николаю I выражал признательность за проявленное участие и помощь, предоставленную русской стороной. В ноте турецкого правительства от 26 июня 1833 г. говорилось: «Дружба и благорасположение, оказанные империи Оттоманской… имели последствием утверждение как в настоящем, так и в будущем времени союза и доверенности, существовавших и более укрепляющихся между двумя империями»[213]. Российская сторона также выступила с выражением дружеских чувств и готова была закрепить существующее положение «прочным и почетным» договором. В проекте письма султану говорилось: «Присутствие русской эскадры является для столицы Оттоманской империи залогом стабильности и мира» – и выражалась надежда на заключение русско-турецкого союза[214]. Таким образом, мысль о союзе с Турцией, вынашиваемая в русских политических кругах, не только стала приобретать видимые очертания, но и была высказана турецкой стороной в качестве конкретного предложения к действию. Это была значительная победа русской внешней политики в регионе, где сходились интересы многих европейских держав. Важно, что инициатива заключения союза исходила от Турции, поскольку даже в этой ситуации западные державы не преминули обвинить Россию в экспансионистских планах. О том, что союз не был заключен «под жерлами русских пушек», говорит тот факт, что Порта выступила с предложением о его заключении лишь после того, как Орлов уведомил турецкое правительство о завершении миссии русского флота в Константинополе и его отплытии к родным берегам[215]. «Мы накануне того, чтобы подписать оборонительный договор, все условия коего обсуждены и утверждены», – сообщал Орлов главе русской администрации в Княжествах П. Д. Киселеву, не скрывая, что заключение такого союза и было целью его миссии в Константинополе[216]. Испрашивая разрешение у султана на вывод эскадры из Босфора, Орлов преследовал далекоидущие планы. В письме к Киселеву он признавался, что подобный шаг, сделанный вовремя, обеспечит вторичное призвание российских вооруженных сил в случае необходимости уже без малейшего опасения со стороны Порты[217]. «Наконец, 28-го в 11-м часу пополудни, при попутном ветре, вся наша эскадра с десантом снялась с якоря и, благополучно выступив из Босфора, направилась в российские порты», – докладывал Орлов Николаю I[218]. Босфорская экспедиция была завершена.
Говоря о заключении Ункяр-Искелессийского договора, следует упомянуть тот факт, что в его подготовке значительную роль сыграл Н. Н. Муравьев[219]. Еще до прибытия А. Ф. Орлова в Константинополь он провел всю предварительную работу, наладил контакты с османским правительством, потратил много усилий на размещение российского десанта. После приезда императорского уполномоченного Муравьев как бы отошел на второй план, и все старания, приложенные им к налаживанию добрых отношений с турками, были забыты в одночасье. Однако его роль в подготовке русско-турецкого соглашения не следует недооценивать. «Необыкновенное бескорыстие» этого человека отмечал даже такой язвительный автор, каким был П. В. Долгоруков[220].
Ункяр-Искелессийский договор подписан 26 июня (8 июля) 1833 г. Он носил оборонительный характер и был заключен на восемь лет. По его условиям Россия обязывалась в случае необходимости прийти на помощь Турции «сухим путем и морем». Наиболее важное для России условие содержалось в «отдельной и секретной статье», где говорилось о том, что российская сторона, «желая освободить Блистательную Порту Оттоманскую от тягости и неудобств, которые произошли бы для нее от доставления существенной помощи», будет удовлетворена выполнением лишь одного обязательства со стороны Турции. Она, по условиям секретной статьи, «должна будет ограничить действия свои в пользу императорского российского двора закрытием Дарданелльского пролива, то есть не дозволять никаким иностранным военным кораблям входить в оный под каким бы то ни было предлогом»[221].
Реакция западных держав на заключение договора была бурной. Лондонская «Таймс» назвала его «бесстыжим». «Петербургский кабинет сделал из Турции официально своего подчиненного, а из Черного моря – русское озеро, – писал Гизо, – без того, чтобы что-либо мешало ей самой (России. – Е. К.) из него выйти и перебросить в Средиземное море свои суда и войска»[222]. Представители Англии и Франции направили Порте ноту протеста; в ответ османское правительство должно было решительно заявить, что Порта вполне свободна «заключать по своему независимому желанию договор с той дружественной державой», с какой сочтет нужным[223]. После полученного объяснения соединенная француз ская и английская эскадра вынуждена была покинуть Смирну. Враждебное отношение западных держав к договору, заключенному Россией «один на один» с Турцией, чего они старались избежать, в значительной степени объяснялось не столько самими условиями явных и секретных статей трактата, сколько возможностью его широкого толкования в будущем.
«Большой испуг» 1833 г. заставил Великобританию бросить все ресурсы на вытеснение России из Юго-Восточной Европы[224]. Английское правительство восприняло договор в качестве поражения британской политики в Турции и даже пыталось объявить его «несуществующим»[225]. Однако Россия не намерена была уступать в столь важном для нее во просе и в своем официальном ответе предложила считать «несуществующим» демарш лондонского кабинета.
В этот сложный для европейской политики момент лишь Австрия продолжала поддерживать Россию. В своей депеше австрийскому посланнику в Париже Меттерних подчеркивал схожесть целей двух союзников на Востоке: «Обе соседние Оттоманской империи державы хотят по отношению к этой империи одного и того же. Они хотят сохранения оттоманского трона и полной независимости султана, такой независимости, без которой государство перестает существовать…»[226] Сам же Николай I высказывал мнение, полностью совпадавшее со словами австрийского канцлера: «Странно, что общее мнение приписывает мне желание овладеть Константинополем и Турецкою империею; я уже два раза мог сделать это, если б хотел, – подчеркивал император в личной беседе с Муравьевым, – мне выгодно держать Турцию в том слабом состоянии, в котором она ныне находится. Это и надобно поддерживать, и вот настоящие сношения, в коих я должен оставаться с султаном»[227]. Из этих слов следует, что и после заключения Ункяр-Искелессийского договора внешнеполитические задачи России по отношению к Османской империи оставались такими же, какими они были сформулированы на заседании Особого комитета в момент заключения Адрианопольского мира. Более того, произошло еще большее сближение России с Турцией. В 1833 г. посольство Ахмед-паши выехало в Петербург для переговоров о ходе выполнения условий мира. В 1834 г. на основании петербургской конвенции царское правительство «простило» Порте треть контрибуции и снизило в два раза сумму ежегодных выплат.
Добившись исключительных привилегий для своего флота в Проливах, Россия восстановила против себя западные державы, главной задачей которых стало ослабление конкурента в этом важнейшем регионе столкновения международных интересов. Смягчить позицию западных держав можно было лишь привлечением их на свою сторону. К тому же это могло избавить Россию от угрозы создания антирусского союза[228]. Правда, при этом Россия теряла свое уникальное положение единственной союзницы Порты, но в то же время спасала само сущест вование уже заключенного договора. Российское правительство сочло выгодным привлечь на свою сторону Австрию, ревниво следившую за русскими успехами на Ближнем Востоке и заинтересованную в дружественных отношениях с Петербургом. Ее благожелательная позиция по отношению к действиям российской дипломатии на Балканах не осталась незамеченной и была по достоинству оценена петербургским кабинетом.
В сентябре 1833 г. между этими державами была подписана Мюнхенгрецкая конвенция. По ее условиям стороны обязались поддерживать существование Османской империи. Конвенция предусматривала такое развитие событий на Востоке, когда от обеих держав могли бы понадобиться согласованные действия «в случае ниспровержения современного порядка в Турции». В целом российские власти были удовлетворены условиями конвенции. Привлечение третьей державы к решению «вечного» Восточного вопроса должно было укрепить легитимность Ункяр-Искелессийского договора в глазах Запада[229].
Сближение с Турцией и подписание договора 1833 г. объективно по служили укреплению положения России на Балканах и способствовали решению некоторых застарелых проблем во взаимоотношениях османских властей с их православными подданными. Так, пограничный вопрос между Сербией и Турцией нашел свое окончательное разрешение в качестве своеобразной «платы» османского правительства за услуги российского флота[230]. Таким образом, временное сближение России с Османской империей не отодвинуло «славянские дела» на второй план, а послужило скорейшему их окончанию[231]. К. В. Нессельроде в личном письме Милошу Обреновичу также указывал на то, что сербские дела получили свое окончательное решение благодаря военной экспедиции, предпринятой к берегам Босфора. «Порта, – писал он, – в сем важном деле уступила единственно силе оружия российского»[232].
Восточный вопрос занимал важное место в международной политике России на всем протяжении первой половины XIX в. В начале 30-х гг. явственно обозначилось сближение позиций российского и османского правительств в ответ на европейские революции этого времени и угрозу национально-освободительных движений внутри самих империй. Для петербургского кабинета вновь актуальным стало возрождение Священного союза, центральная роль в котором принадлежала России вкупе с Австрией и Пруссией. Никто, кроме самого Николая I, не воспринял серьезно этой идеи, которую даже его союзник Меттерних назвал «пустым звуком»[233]. Усилились консервативные тенденции во внешней политике России в целом. Выполняя на протяжении многих лет роль единственной покровительницы православных подданных Порты, Россия не хотела утратить ее даже под давлением неблагоприятной международной обстановки в Европе. К концу 20-х гг. ряд османских провинций, пользуясь активной поддержкой российских властей, уже получили статус автономии или полной независимости от Порты. После этих событий российское правительство по-прежнему пыталось играть активную роль в жизни новых государств. Однако ее «помощь» и «поддержка», оказываемые в форме прямого вмешательства во внутренние дела балканских государств, становились все менее востребованными со стороны национальных правительств. Утрата былого влияния в ряде балканских провинций стала прямым следствием все большего расхождения внешнеполитических задач, стоявших перед Россией – с одной стороны, и местными элитами – с другой. Нежелание приспособиться к новым политическим реалиям на Балканах неуклонно вело ко все большему разочарованию балканских руководителей и движений, рассчитывавших на получение более дейст венной помощи от России.
2. Россия и сербская оппозиция в 30-х гг. XIX в. Вопрос об Уставе
После хатт-и шерифов 1830 и 1833 гг. Сербское княжество получило статус автономной области в рамках Османской империи. Та относительная самостоятельность Сербии, которой она фактически пользовалась на протяжении последних десятилетий, приобрела документальное, юридическое оформление. Милош Обренович добился от Порты признания наследственной княжеской власти для своей семьи. Теперь следовало приступить к строительству новых органов управления, разработке законодательства, отсутствовавшего к тому времени в Сербии. Однако создание органа законодательной власти – Сената – определение его прерогатив и разработка свода законов, – все это встретило сопротивление со стороны Обреновича, привыкшего к неограниченной власти. В конечном итоге борьба князя с оппозицией, пытавшейся ограничить его права, введя в действие конституционный акт и жестко регламентируя законодательство, привела к серьезному внутреннему конфликту, который повлек за собой отречение Милоша и его бегство из Сербии.
После получения автономных прав Сербия по-прежнему пользовалась покровительством России. Российское правительство считало своей обязанностью контролировать все возможные преобразования в княжестве, которые должны были проводить турецкие власти. Это касалось отселения турок из Сербии, уничтожения крепостей, введения свободного богослужения по православному обряду. Из России в Сербию были посланы специалисты для устройства фабричного дела. Из Сербии в Россию отправлялись на учебу дети сербской знати, некоторые русские учителя начали свою деятельность в школах Белграда. За всем этим наблюдало российское посольство в Константинополе, а позже – консульство, открытое в Белграде. Такая степень самостоятельности Сербии вполне устраивала петербургский кабинет. Разрушение Османской империи не входило в планы российских политиков, а свое влияние на Балканах после Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. и заключения Ункяр-Искелессийского договора 1833 г. Россия укрепила и еще более расширила. Сложившуюся расстановку сил как на Балканском полуострове, так и в районе Проливов Россия стремилась сохранить, поскольку ее доминирующая роль в европейской Турции отвечала внешнеполитическим планам русских политиков.
Европейские державы с большим вниманием следили за успехами России на Ближнем Востоке, на Балканах и в Константинополе. Заключение Ункяр – Искелессийского договора укрепило их во мнении, что Порта попала в прямую зависимость от своего северного соседа. Поскольку сильному политическому влиянию России противопоставить было нечего, западные державы усилили экономическую экспансию на восток. Это был беспроигрышный ход, поскольку русско-турецкие торговые отношения были развиты крайне слабо. Таким образом, по справедливому замечанию В. Н. Виноградова, Россия, одержав политическую победу, должна была уступить в экономическом отношении, что в результате оказалось решающим фактором в борьбе за влияние в Балканском регионе.
Основными соперницами России в Сербии по-прежнему оставались Австрия и Англия. Если последняя относилась к открытым недоброжелателям России, то с Австрией внешне сохранялись добрые отношения. Она поддерживала все инициативы российского кабинета, касавшиеся положения дел на Востоке и в Турции. В 1833 г. между Петербургом и Веной была заключена Мюнхенгрецкая конвенция, и австрийское правительство выступило гарантом сложившегося международного положения в районе Проливов. Содействие Австрии было важно для российских властей, встречавших после Ункяр-Искелессийского договора только негативное отношение держав к своей политике в Османской империи.
Недружественное отношение западных стран ко всем инициативам России в Турции, а также желание российских правящих кругов продемонстрировать умеренность русской внешней политики в Османской империи, ее стабильность и приверженность принципу status quo привели к тому, что Россия стала постепенно утрачивать свое выгодное положение в ряде регионов Балкан, и прежде всего в Сербии. Стремление лишний раз не раздражать западных партнеров приводило к парадоксальным результатам, когда основные противники России в Сербии, учредив там свои консульства, имели агентов в Белграде, а Россия все еще не решалась на открытие своего дипломатического представительства. Это «отставание» от западных держав, поначалу осуществлявшееся нарочито в силу ощущения своего неоспоримого лидерства, постепенно вело к потере преимуществ покровительствующей державы. Российское правительство стремилось сохранить существующий порядок в Сербии, не желая замечать тех политических перемен, которые произошли в княжестве как в силу установившегося там режима, так и вследствие влияния европейских революций.
Революции 30-х гг. XIX в. повлекли за собой усиление консервативных тенденций во внешней политике России. Луи-Филипп навсегда остался для Николая I «узурпатором». К. В. Нессельроде отмечал, что именно французская революция стала тем поворотным моментом, который «открыл новый период» во внешнеполитической деятельности Николая I, ставшего для всей Европы «представителем консервативной идеи»[234]. На фоне этой крайне реакционной политики, которую историк С. С. Татищев назвал «внеземной», складывался новый англо-французский альянс, призванный любыми методами вытеснить Россию из Турции и с Балкан. В арсенале этих держав были средства экономической, политической и военной экспансии в регионах Ближнего Востока и европейской Турции. Кроме того, эти страны в силу конституционных принципов их управления были притягательны для новой генерации сербских политиков. Российское же руководство ограничивалось традиционными советами соблюдать спокойствие и подчиняться османским властям. Более того, к началу 30-х гг. относится, как мы уже отмечали, попытка возрождения Николаем I идеи Священного союза. Все это не способствовало популярности русской политики на Балканах.
Оппозиционное движение, оформившееся внутри высшего руководства Сербского княжества и направленное против авторитарной власти князя Милоша Обреновича, существовало на протяжении всего времени его правления. Известно, что Милош жестоко расправлялся со своими противниками. Обренович, к тому времени крупнейший землевладелец и торговец в Сербии, слыл самым богатым человеком на Балканах. Методы его правления были схожи с турецкими, и это подрывало его популярность в народных массах. После получения Сербией автономных прав оппозиционное движение упрочило свое влияние в княжестве. К числу оппозиционеров принадлежали крупные чиновники, землевладельцы и торговцы, которым авторитарная власть Милоша не позволяла занять ключевые государственные должности в Сербии. Борьба за утверждение гражданского и уголовного законодательств переросла в требование принятия конституционного акта – Устава, – определявшего весь характер политической и экономической жизни в стране. Сербская знать, которая выступала за принятие такого закона, получила название уставобранителей, то есть защитников Устава. К ним принадлежали такие влиятельные государственные деятели, как Авраам Петрониевич, Тома Вучич-Перишич, Стоян Симич, а также брат Милоша – Ефрем Обренович. Знатнейшие старейшины Сербии тщетно ожидали от князя особого закона, который позволил бы им поделить власть в стране с Милошем. Они вправе были надеяться на исполнение условий последнего хатт-и шерифа, подразумевавшего наличие в Сербии такого органа, как Совет старейшин. Милош медлил с исполнением этого условия, что и послужило причиной вспыхнувшего в 1835 г. восстания под руководством Миленко Радойковича, в прошлом ближайшего сподвижника князя по сербским восстаниям.
На Сретенской скупщине в феврале 1835 г. Милош был вынужден объявить о принятии Устава Сербии. По этому документу страна провозглашалась независимым княжеством «по признанию султана Махмуда II и императора Николая I»[235]. Наряду с князем власть в Сербии принадлежала державному Совету, состоявшему из шести попечителей и неопределенного числа советников. Сохранялась скупщина – общее собрание представителей всех областей страны. Уничтожалась феодальная повинность – кулук, бесплатные работы населения на хозяина или государство. Большое внимание в Уставе уделялось регламентации княжеской власти и ее наследования семьей Обренович. Проект Устава был написан ближайшим помощником князя Д. Давидовичем, одним из самых образованных людей Сербии того времени, под непосредственным контролем Милоша и с учетом его интересов.
Принятый Устав не был претворен в жизнь, его действие закончилось, не успев вступить в силу. Милош отменил его через полтора месяца после принятия по целому ряду причин. Во-первых, этого требовали как Россия, так и Порта. Во-вторых, Милош был вынужден пойти на принятие Устава лишь по настоянию оппозиции. После того как вопрос о правомерности документа стал предметом дискуссии между российскими и османскими властями, сербский князь имел все основания «повиноваться» им, отменив ненавистную «конституцию». Пока принятый документ оставался в силе, Милош пытался получить рекомендации относительно его содержания у российского посланника в Константинополе. Он просил Бутенева сделать замечания и поправки к Уставу, дать его «самый подробный разбор»[236]. Однако, посылая Бутеневу принятый документ, Милош не без основания рассчитывал получить негативный отзыв, зная отношение покровительствующей державы к любым «конституциям».
Российское руководство с самого начала резко отрицательно отнеслось к идее принятия в Сербии такого законодательства, которое хотя бы отдаленно напоминало либеральные конституции Франции или Бельгии. «Ваше превосходительство изволило признать… неосновательными некоторые статьи, помещенные в Уставе нашем, – писал Милош российскому посланнику. – Мне тоже не нравились тогда – они и теперь не нравятся – некоторые статьи оного. Но во удовлетворение тех обстоятельств я должен был согласиться тогда на все»[237]. Милош заранее знал о нерасположении Бутенева к поспешно принятому Уставу. Еще раньше М. Герман сообщал князю о том негодовании, которое вызвала у него весть об этом событии. В апреле 1835 г., уже после отмены Устава, Бутенев сам выразил полную поддержку действиям Милоша. Он не скрывал своего негативного отношения к документу и советовал вместо него подготовить новый закон, учитывающий все необходимые преобразования. «Устав… по моему мнению, – писал посланник, – столь противен началам, на коих основано существование сербского народа, что я даже не решился приступить к подробному рассмотрению оного… паче не мог помыслить представить оный на утверждение императорского министерства»[238].
Австрийское руководство также было крайне встревожено новостями из Сербии. Политические перемены в жизни княжества грозили появлением требований подобных же преобразований со стороны австрийских подданных-сербов. Заинтересованность австрийских властей в сохранении status quo в Сербии соответствовала стремлению российского правительства к совместному противодействию конституционным преобразованиям в княжестве. Изменения там должны были ограничиться административной реформой. Бутенев советовал из Константинополя приняться прежде всего за реформу судопроизводства, сбора налогов, торговли и промышленности, школ и училищ[239]. Сербский князь соглашался с этими советами, но более всего был доволен тем, что Бутенев отверг Устав: «Утешительно было для меня видеть, что ваше превосходительство выхваляет приостановку Устава нашего», – писал он посланнику в апреле 1835 г. Милош был настолько воодушевлен поддержкой русского двора, что намеревался направить в Петербург благодарственную делегацию, однако это предложение было в вежливой форме отклонено К. В. Нессельроде[240].
Внутриполитические противоречия в Сербии вызывали серьезную озабоченность российских правящих кругов. Из донесений Бутенева в Петербург не всегда было ясно, что же именно происходит в княжестве, поскольку посланник пользовался сведениями, носившими или односторонний характер (под влиянием переписки с Милошем), или сильно запоздавшими, которые исходили от сербских представителей в турецкой столице. Сербский князь излагал события крайне тенденциозно. Так, в «партикулярном» письме Нессельроде, пытаясь объяснить недавние события в Сербии, он писал: «…не весь народ недоволен был моим правлением, но только несколько воспаленных голов, которые, вопреки напряжению моему одержать образ монархического правления, желали ввести конституцию»[241]. В этом же письме Милош приписывал себе заслуги по улучшению торговли, развитию промышленности и образования в Сербии. «Медленный ход» положительных перемен он относил за счет отсутствия опытных и образованных специалистов в разных областях знания.
Оценивая принятый Сретенской скупщиной Устав, сербский историк Р. Люшич характеризует его как документ, имеющий сугубо сербское происхождение. Этим он отметает предположения о том, что Устав был простой компиляцией европейских конституционных актов, в частности французской декларации о правах человека. Ведь именно эта параллель вызывала наибольшее негодование со стороны российских властей. Тем не менее вызывает сомнение утверждение историка о том, что Устав был отменен в угоду России[242]. Как кажется, это был лишь предлог, но не причина краткой жизни Устава. Пойти навстречу желанию России уничтожить сербскую конституцию, еще раз выказав при этом подчинение великомонаршей воле, было прежде всего выгодно самому Милошу. Сербский князь еще раз доказал свое уже известное умение угодить всем, соблюдая в первую очередь свои собственные интересы. Тем более что согласно принятому Уставу почти все члены основанного Совета принадлежали к лагерю оппозиции.
Несмотря на все сложности внутриполитической обстановки в Сербии, более всего летом 1835 г. Милоша занимала его поездка в Константинополь и предстоящая встреча с султаном. Путешествие было предпринято в августе и продлилось до конца октября. Немалую роль в том торжественном приеме, который был оказан сербскому князю в турецкой столице, сыграла поддержка Бутенева. В честь Милоша был дан прием в российском посольстве, и далее на протяжении всего пребывания князя в Константинополе он пользовался советами российского представителя, чего не мог не оценить, оказавшись в центре внимания дипломатического корпуса и Порты. Уже из Сербии он писал Бутеневу о том, что «все почести и отличия, равно как и прием, оказанный мне в столице Оттоманской империи, оказаны мне единственно по сильному покровительству России над Сербиею»[243]. В своих последующих письмах сербский князь не раз возвращался к этой теме, подчеркивая свою преданность России и благодарность ее посланнику. За этими намеренно преувеличенными изъявлениями верности высокой покровительнице тщательно скрывались поиски новых ориентиров во внешнем мире.
С отменой Устава усилилась борьба соперников Милоша за ограничение его власти. Во избежание новых заговоров и восстаний Милош решил сам возглавить работу по подготовке нового документа, призванного заменить ранее отмененный. В мае 1835 г. сербский князь сообщал российскому посланнику, что новый Устав, разработанный 12 «самыми умнейшими» старейшинами Сербии, уже готов и переведен на русский язык, с тем чтобы с ним мог ознакомиться российский представитель[244]. О том, как в действительности далек был Милош от введения какого-либо конституционного акта, красноречиво свидетельствует его признание посланнику. «Ныне, – писал Милош, – по многократном испытании сил своих в сочинении сего Устава, нашед себя весьма слабым, я должен признаться… что в сочинении оного я не вижу никакой надобности»[245]. Далее сербский князь сообщал, что имеет намерение принять новые законы, таким образом какой-либо документ, их заменяющий, является «излишним и ненужным». Кроме того, Милош замечает, что разговоры об Уставе вызывают «холодность императорского министерства» и влекут за собой недовольство покровительствующей стороны. Это слишком большая потеря для сербского народа, если к тому же «никто в Сербии не знает, что такое есть Устав и к чему он клонится»[246]. Несмотря на желание Милоша «закрыть» вопрос об Уставе, сделать это ему не удалось. Составлять новый вариант было поручено С. Радичевичу, а Милош контролировал его работу и корректировал те положения, которые его не слишком устраивали. По новому проекту вся власть в княжестве сосредоточивалась в руках князя, а автономное положение Сербии гарантировалось пятью великими державами[247].
Это положение о замене российского покровительства коллективной гарантией европейских держав впервые появилось в сербских документах и свидетельствовало о том, что русско-сербские отношения к тому времени не были столь безоблачными, как это может показаться из официальной переписки князя с российскими чиновниками. Милош явно начал поиски иных покровителей.
Правящие круги России не могли скрыть своего недовольства, наблюдая за событиями в Сербии. Ситуация в княжестве стала развиваться не по тому сценарию, который был задуман российскими властями. В целом положение об ограничении авторитарной власти Милоша входило в планы российских чиновников, однако это должен был зафиксировать документ, ничем не напоминающий европейские конституционные акты. Сербская историография отмечает, что вопрос о сербском Уставе вызвал такую заинтересованность России, словно речь шла не о турецкой, а о российской провинции[248].
С целью оказать влияние на внутриполитическую обстановку в Сербии туда был послан генеральный консул в Бухаресте барон Петр Иванович Рикман. Выбор Рикмана для этой миссии был явной ошибкой петербургских властей. Во-первых, он избрал неверную линию поведения с князем: он вел себя надменно и разговаривал свысока как с Милошем, так и со старейшинами. Во-вторых, он пытался убедить сербское руководство в том, что княжество не является самостоятельным государством и ему не требуется ни Устав, ни государственные знаки отличия, такие как герб и флаг. Наконец, Рикман был немцем, а в Сербии с предубеждением относились ко всем не исконно русским, прибывающим из России. Но самым ошибочным в позиции царского представителя было то, о чем выразительно сказал соратник Милоша Й. Живанович: «Он хочет, чтобы все осталось по-старому. Старого нет».
Вполне справедливым выглядит тезис Р. Люшича о том, что вопрос сербского Устава перерос из внутренней проблемы в международную. Самое непосредственное участие в его решении приняли Россия, Турция, Австрия. Позже к ним присоединилась Англия. По мнению другого сербского историка, В. Поповича, именно подключение Великобритании к борьбе за преобладающее влияние в Сербии вывело княжество из узких рамок русско-турецко-австрийского круга и ввело в большую европейскую политику[249]. С этим утверждением можно согласиться, если принять во внимание, что позиция Англии была противопоставлена интересам России, Австрии и Турции и предоставила сербскому князю некоторую альтернативу внешнеполитической ориентации. Напротив, российское и австрийское руководство нашли много общего в своих взглядах на происходящие в Сербии события.
Австрийский канцлер был вполне солидарен с российским императором в стремлении не допустить проникновения революционных идей на Балканы. Еще раньше австрийский интернунций в Константинополе Штюрмер назвал Сретенский Устав «памятником величайших заблуждений XIX в.»[250]. Для того чтобы усилить контроль над ситуацией в Сербии и повысить свое политическое присутствие здесь, в Белграде было открыто австрийское консульство. Переговоры о его учреждении австрийские власти вели с Портой еще во время пребывания Милоша в Константинополе. Консул Антун Миханович прибыл в Сербию 14 сентября 1836 г., что явилось полной неожиданностью для российских властей. Достаточно сказать о том, что Бутенев узнал об этом из газет. Петербургский кабинет должен был признать, что отказ от учреждения своего консульства в Сербии, с тем чтобы не подать примера другим великим державам, успеха не имел. Австрия предпочла этого не заметить. Утверждение венского правительства, будто консульство учреждено лишь для ведения торговых дел, не выдерживало критики. Бутенев не сомневался в том, что австрийский агент в княжестве призван заниматься делами политическими, а не коммерческими.
Несмотря на имевшиеся русско-австрийские противоречия в Сербии, наибольшую опасность представляло проникновение Великобритании на Балканы. Российский посланник и австрийский интернунций в Константинополе превращались в союзников, когда речь шла о совместных действиях против английского вмешательства в турецкие дела. Более того, Меттерних дал своему консулу в Сербии указания не противодействовать России. В дальнейшем он отказался от призыва британского кабинета объединить свои усилия в борьбе с русским влиянием на Балканах. Австрийский канцлер считал, что лидерство России – свершившийся факт, и открыто не противился этому.
К 1837 г. относится активизация английской внешней политики в Сербии. Франция в это время не являлась соперницей для Великобритании на Балканах, в то время как Россия, укрепив свои позиции в Османской империи, представляла реальную угрозу могуществу Англии в Ближневосточном регионе и в Проливах. Английское консульство в Белграде, как и австрийское, было открыто под предлогом необходимости защиты интересов английской торговли. Надуманность этого объяснения была очевидна. Несмотря на то что в 1838 г. был заключен англо-турецкий торговый договор и английские товары занимали все большее место в турецком импорте, непосредственно к Сербии это не имело никакого отношения. Никакой торговли с Англией Сербское княжество не вело. Более того, в Лондоне не представляли реальную политическую, социальную и экономическую ситуацию в этой провинции Османской империи. О том, насколько плохо английский кабинет был осведомлен об обстановке в княжестве, свидетельствует тот факт, что министерство запросило своего консула в Сербии переслать в Лондон тексты хатт-и шерифов, «изданных в 1831, 1833 и 1834 гг.», то есть несуществовавших документов[251]. К тому же собственно Сербия не представляла интереса для Великобритании. По мнению английских политиков, она должна была стать «барьером против дальнейшего продвижения России в европейских провинциях Турции»[252].
Угроза дестабилизации обстановки и ослабления влияния России в княжестве приобрела реальные очертания по прибытии в Сербию английского консула. Полковник Георг Ходжес, к тому времени уже немолодой человек, много лет прослужил в армии. Под командованием герцога Веллингтона он воевал в Италии и Германии, принимал участие в битве при Ватерлоо. О его появлении в Белграде Милош уведомил Бутенева, «не входя в исследование причины, побудившей Великобританское правительство иметь своего консула в Сербии»[253]. Ходжес имел инструкции противостоять русскому влиянию в Сербии, способствовать ослаблению позиций России на Балканах. Вероятно, прослышав о том, что дела в Турции не делаются без богатых подношений, английский консул по тратил в Сербии значительные суммы на подарки князю и его приближенным. Автор монографии «Англо-русское соперничество в Сербии. 1837–1839 гг. Миссия полковника Ходже са» С. Павлович прямо связывает неуспех деятельности англичан с недостаточными суммами подношений. Павлович предполагает, что русские агенты располагали более значительными суммами для поддержания своего влияния в княжестве. Действительно, российское посольство, отправляясь в Константинополь, везло с собой для подарков туркам золотые, серебряные изделия с драгоценными камнями и огромное количество чая, также предназначавшегося в дар[254]. Известно, что Милош любил знаки отличия, с удовольствием принимая ордена и ювелирные изделия. Одкако, безусловно, не соперничество кошельков решило исход англо-русского противостояния в Сербии.
С прибытием Ходжеса в Белград было серьезно нарушено русско-сербское сотрудничество. Деятельность английского консула могла, по мнению Бутенева, привнести нестабильность в политическую жизнь княжества: «Появление в Сербии английского агентства… может послужить фактором усиления либерализма и революционных происков, приносящих вред безопасности османских провинций»[255]. Милош Обренович нашел в лице Ходжеса единомышленника в вопросе об Уставе. Англичанин выступил против Устава и оппозиции, поддержав авторитарные устремления князя. В то же время он советовал Милошу принять ряд законов о личной и имущественной безопасности и отмене кулучных работ[256]. Вскоре по прибытии Ходжеса в Белград Милош заявил ему о своем решении по ставить вопрос о замене русского покровительства Сербии на коллективную гарантию великих держав[257]. Вероятно, это предложение показалось слишком смелым даже для английского представителя, поскольку требовало пересмотра многих заключенных ранее международных актов, в которых упоминалось о покровительстве России над Сербией. Объективная политическая обстановка на Балканах также не способствовала реализации этого предложения. По крайней мере, этот тезис не находит своего развития в других документах, хотя и красноречиво свидетельствует о кризисе, произошедшем в русско-сербских отношениях.
Летом 1837 г. Милош был серьезно озабочен необходимостью составления нового Устава. Этого требовали многочисленные деятели оппозиции. Российские власти были обеспокоены проникновением на Балканы революционной идеи, которую они усматривали в намерении принятия Устава. Бутенев докладывал в Петербург о том, что сербский князь намеревается взять за образец Кодекс Наполеона или австрийское законодательство взамен традиционных народных постановлений, основанных на обычном праве[258]. Российский посланник направил Милошу пространное послание, призванное предотвратить «пагубные неудобства, какие повлекло бы за собою введение в Сербии новой законодательной системы, основанной на подражании иноземцам, которых политиче ский, домашний быт и степень образованности не имеют почти ничего общего с положением в Сербии»[259]. Законодательство этой земли, полагал Бутенев, должно соответствовать старинным правилам, принятым в стране, а нововведения, связанные с развитием промышленности и образования, не должны вступать с ними в противоречия. «В Сербии, благодаря Богу, сохранилась еще первобытная простота нравов и обычаев», – писал посланник, опасавшийся, что утрата этих качеств осложнит характер русско-сербских отношений[260]. Бутенев тешил себя надеждой на то, что Милош внимательно слушает его советы, оказывающие «спасительное действие на князя».
Милош Обренович, больше в то время прислушивавшийся к советам английского консула, тем не менее стремился казаться лояльным и к российским властям. Соглашаясь с тем, что назначенная им комиссия по составлению законов заимствовала некоторые положения из французских документов, Милош сообщал о намерении «сочинить другие законы на основании обычаев, сходно духу, образованности и надобностям народа»[261]. Делая вид, что он уступает воле императорского кабинета, Милош в действительности следовал своим намерениям не давать оппозиции шансов внести в Устав те пункты о власти, которые были невыгодны лично ему. Излишняя «революционность» подобных документов, против которой выступала Россия, являлась нежелательной и для сербского князя, видевшего в ней угрозу своей личной власти. Таким образом, пожелания русской стороны полностью совпадали с намерениями Милоша, который мог искренне написать Бутеневу: «Я уверяю Ваше превосходительство, что я не заведу в Сербии ничего, что благодетелю и покровителю Сербии не будет угодно, почитая все, неугодное ему, бесполезным для народа сербского»[262]. Совпадение интересов Милоша и российских властей придавало действиям князя видимость легитимности. На самом деле Милош уже давно был недоволен вмешательством России во внутреннюю политику княжества. Полностью признавая заслуги русской дипломатии в достижении Сербией политического статуса автономной провинции, Милош начал тяготиться чрезмерной опекой высокой покровительницы. При этом он прибегал к завуалированной критике России. Так, еще летом 1836 г. князь переслал Бутеневу письмо, якобы перехваченное им у сербского представителя в Константинополе Антича к А. Петрониевичу. В этом письме Антич высказывает свои сомнения по поводу правомерности вмешательства в дела княжества некоей «северной миссии». «Прошли уже те времена, – пишет Антич, – когда князь наш слушал каждого и по совету других и чужих выбирал в лесах сербских для зданий своих и своих потомков строевой лес. Миссия северная в глазах моих то, что и прочие люди, разумом одаренные… в ней нет ничего сверхъестественного»[263]. «Дерзость», с которой написано это письмо, послужила якобы причиной отозвания Антича с его поста в Константинополе. В действительности радикализм сербского представителя был неугоден прежде всего Милошу. Сербский агент принадлежал к оппозиции и, находясь в турецкой столице, был лучше других осведомлен о политической жизни страны и мог быть легко вовлечен в интриги посольского корпуса.
Между тем прибывшие в Белград консулы Австрии и Англии имели каждый свой круг общения. Австрийский консул Антун Миханович никогда не пользовался расположением Милоша по причине его явной приверженности движению оппозиции. Его донесения в Вену носили антикняжеский характер. Миханович ругал Милоша, хвалил его брата Ефрема, обвинял в интригах «карбонария» доктора Куниберта, личного врача Милоша и помощника английского консула, получавшего от него денежные суммы. Миханович называл его «неприятелем Австрии», «интриганом» и «помощником радикального г-на Ходжеса» и требовал высылки Куниберта из Сербии[264]. Английский консул, напротив, пользовался полным доверием Милоша, хотя ему и было отказано разместить свою резиденцию прямо на княжеском дворе в Крагуевце[265]. Ходжес подчеркивал, что он аккредитован при князе, а не при белградском паше, и это не могло не льстить самолюбию Милоша[266]. Полковник Ходжес и Милош быстро нашли общий язык: сербский князь получил полную поддержку в своем намерении расправиться с оппозицией. К тому же их объединяло стремление избавиться от вмешательства России в сербские дела. В своей монографии «Княжество Сербия (1830–1839 гг.)» Р. Люшич приходит к выводу о том, что Россия и Англия, будучи соперниками в Сербии, добивались одного и того же – установления в княжестве ограниченной монархии[267]. Это утверждение вызывает интерес еще и потому, что в советской и частично сербской историографии бытует мнение, будто устремления этих двух держав были диаметрально противоположными: конституционная Англия поддерживала монархические виды Милоша, а самодержавная Россия – либерально настроенную оппозицию. Люшич убедительно доказывает, что умеренная либерализация государственного строя в Сербии была выгодна и той и другой державе. Не отвергая необходимости преобразования верховной власти в княжестве, они выбрали орудием своей борьбы одна – Милоша, другая – оппозицию. Таким образом, Великобритания поддерживала ограниченную монархию, а Россия – аристократическую форму власти в Сербии. Для Милоша поддержка Англии гарантировала не только удовлетворение его претензий, но и освобождение от связывающего ему руки контроля российских властей.
В то же время вызывает некоторое сомнение утверждение автора о том, что цель Ходжеса, как и всего английского кабинета, в Сербии не была достигнута. Если согласиться с тем, что этой целью было упрочение позиций Великобритании в Сербии, то вывод автора сомнения не вызывает. Но если задачей Пальмерстона было прежде всего ослабление позиций России на Балканах, падение ее авторитета в Сербии и развертывание политической борьбы с требованиями избавления от «покровительства», то нужно признать, что английская политика во многом преуспела. Во всяком случае, вмешательство Англии на многие годы вперед отразилось на внутриполитической ситуации в княжестве.
Российское руководство пыталось ввести русско-сербские отношения в прежнее русло. Не имея еще представительства в княжестве, оно пыталось сделать это посредством отдельных миссий своих доверенных лиц. Сначала Рикман, а затем Долгорукий должны были «дать правильное направление» тем сложным процессам, которые происходили в молодом сербском государстве. Миссию Рикмана нельзя назвать удачной. Вторая попытка повлиять на развитие событий путем личных внушений князю была предпринята через два года. Князь, царский адъютант, представитель древнейшей аристократической русской фамилии, Василий Андреевич Долгорукий прибыл в Сербию 24 октября 1837 г. В отличие от Рикмана он был хорошо принят как Милошем, так и лидерами оппозиции. Отчасти благоприятное впечатление произвел тот факт, что из России приехал занимающий высокое положение в обществе уроженец старинного рода. Долгорукий пытался объяснить Милошу пагубность его ориентации на Великобританию, помирить князя с оппозицией и довести до его сведения мнение императора о несовместимости либеральных, конституционных нововведений с традицией княжеского правления в стране. Однако время, когда российские чиновники могли руководить сербской политикой из Петербурга, прошло безвозвратно. Сам метод общения покровительствующей державы с княжеством путем посылки отдельных миссий не мог дать желаемых результатов, несмотря на то что пребывание последнего российского представителя в Сербии происходило в более благоприятной обстановке, чем встреча его предшественника.
Российское правительство наконец пришло к выводу о необходимости учреждения своего собственного консульства в Сербии. С начала 1837 г. глава российского МИД К. В. Нессельроде несколько раз входил к императору с докладом о настоятельной необходимости для России иметь своего представителя непосредственно в Сербии. Для этой миссии был выбран надворный советник Герасим Васильевич Ващенко, исполнявший до этого должность консула в Орсове. Задачей его, по мнению Нессельроде, должно было стать «постоянное наблюдение за точным исполнением со стороны князя Милоша всего обещанного им князю Долгорукову»[268]. Это предложение получило одобрение императора, но вопрос был решен не сразу. Уже в апреле того же года Нессельроде вновь докладывал Николаю I о том, что обстановка в княжестве требует присутствия там «постоянного консульского поста по примеру Австрии и Англии»[269]. Причем поскольку англичанин имеет звание генерального консула, то и российский представитель не может ему в этом уступить.
Г. В. Ващенко прибыл в Белград 22 февраля 1838 г. Еще до своего приезда он поддерживал постоянную связь с деятелями сербской оппозиции. В связи с его приездом в Сербию Р. Люшич сделал следующее интересное замечание: на протяжении многих лет Милош ставил перед российскими властями вопрос о присылке в Белград консула России. Его помощь была нужна сербскому князю для оказания давления на Порту в деле освобождения от чрезмерной регламентации княжеской власти. После получения от Порты соответствующих документов Милош не возобновляет предложения об открытии консульства, по скольку в нем теперь больше нуждалась оппозиция, искавшая поддержки России именно в вопросе ограничения княжеских прерогатив[270]. Неудивительно, что Ващенко не встретил радушного приема князя, на который, казалось бы, мог рассчитывать представитель России. Милош видел в русском консуле человека, призванного установить наблюдение за его деятельностью. О доверительных отношениях между ними не было и речи: Милош подозревал, что консульство станет центром, вокруг которого могут объединиться все оппозиционные ему силы Сербии. Ващенко, в свою очередь, также не слишком уважительно относился к «разным глупостям нашего чудака, который не может быть покоен, если не выдумает чего на свой лад, если не поссорит кого-нибудь или сам не поссорится с кем-нибудь»[271].
Российское консульство стало местом паломничества противников Милоша. Вожди оппозиции постоянно жаловались на его неправомерные действия, на лицемерие по отношению к России. После отъезда князя Долгорукого из Белграда Петрониевич сообщал Бутеневу, что все обещания Милоша, данные им российскому представителю, были тотчас же забыты: «Я… боюсь, чтобы князь наш с дурачествами его не произвел что худого. Да и что не может сделать человек, который в один день переменяет двадцать форм жизненной своей системы»[272]. Члены белградского суда Т. Вучич-Перишич, Голуб Петрович, Лука Лазаревич были обеспокоены явными симпатиями Милоша по отношению к английскому консулу: «Поступки князя нашего крайне пагубны для спокойствия и благосостояния Отечества нашего и, без сомнения, не соответствуют видам великодушной покровительницы нашей России»[273].
Борьба за принятие нового Устава обострилась в 1837–1838 гг. После отъезда князя Долгорукого Милош Обренович должен был издать такой указ, который удовлетворил бы Россию и включил в себя все пункты «базисного» документа, переданного князю еще летом 1836 г. В октябре 1837 г. белградская газета опубликовала «Указ нашему Совету», в котором определялись основные положения нового документа. В Уставе должны были появиться положения о неприкосновенности личности и собственности, свободе торговли, отмене кулука, сохранении работ на чиновников и старейшин только на условиях найма[274]. Примечательно, что появление «Указа» английский консул ставил в заслугу себе, имея в виду личные отношения с Милошем, которые он сумел установить. Он сообщал Пальмерстону: «В настоящий момент я имею честь уверить Вас, что английское влияние быстро растет в Сербии»[275].
Еще в 1835 г. после отмены Сретенского Устава Рикман внес в этот документ свои исправления для его возможной доработки в будущем. В частности, замечания касались статей о развитии внутренней торговли и промышленности. Уже тогда Рикман отмечал, что Милош ведет обширную торговлю и характеризовал его как «первого капиталиста Сербии»[276]. Монополизировав многие виды торговли, он препятствовал ее свободному развитию в княжестве. Критиковал Рикман и статью, касавшуюся системы образования. Меры, предложенные Уставом в этой области, казались ему недостаточными. «Народ сербский имеет крайнюю надобность в образовании, от невежественного его состояния проистекают не только грубость нравов, но и самое неустройство края», – считал Рикман[277]. Будучи неграмотным, Милош, по выражению российского представителя, «совершенно чуждался просвещения» и даже сыновей своих обучал весьма небрежно. Тщеславие Милоша, казалось бы, удовлетворенное получением прав наследственного княжения, нашло новое выражение в стремлении приобрести титул «светлости». «Отказать ему в этом титуле значило бы поколебать наше влияние», – заключает Рикман, не замечая, что оно к тому времени уже было в значительной степени утрачено как вследствие внутренних событий, так и в результате вмешательства в русско-сербские отношения третьих стран.
Поскольку работа над Уставом продолжалась, Милош, не имея возможности противостоять этому, попытался извлечь из нового законодательства максимум личных выгод. Князь пригласил из Австрии двух юристов – В. Лазаревича и Й. Хаджича[278]. Они должны были выработать новые законы для княжества, причем Милош в специальном послании высказал им свои требования в этой области. Проект Устава, над которым трудились Лазаревич и Хаджич, провозглашал: «Сербия есть княжество, во внутреннем правлении своем свободное»[279]. Князь должен управлять всеми внутренними делами наряду с учреждаемым княжеским Советом. Скупщина остается традиционным органом народного представительства. Пытаясь взять под контроль разработку Устава, российский кабинет претворял в жизнь свои планы по устройству княжества. По замечанию И. С. Достян, Устав должен был регламентировать лишь административную жизнь Сербии, исключив все статьи политического характера[280]. Но сугубо административная реформа не могла удовлетворить старейшин, которые ждали преобразований во властных структурах. Члены Совета – Ефрем Обренович, Стефан Стефанович, Илья Милутинович, Лазарь Феодорович, Миленко Радойкович и Павел Станишич направили Ващенко письмо, в котором изложили свои претензии к Милошу. «Для князя нашего нет ничего священного: присяга его в соблюдение Устава 1835 г., словесное его обещание князю Долгорукому в 1837 году и самый указ его того же года, также и письменное обещание императорскому министерству об установлении в Сербии законного порядка – все нарушено князем Милошем», – жаловались сенаторы[281]. Они указывали на то, что князь отдает предпочтение советам английского консула, а переписка его с английским представителем в Константинополе ведется с явным нарушением таможенных законов, не проходя необходимых карантинных мер. Сенаторы свидетельствовали о следующих злоупотреблениях князя: «Сербские старейшины без всякой надобности сменяются либо перемещаются из одного места в другое, а люди неспособные возводятся на степени, коих не заслуживают; преданные покровительнице России – угнетаются и бывают преследуемы князем; народная казна… растрачивается… князь ведет явную и тайную переписку с английскими агентами… духовенству препятствует князь в отправлении церковных и консисториальных действий… карантинные правила и законы князь сам нарушает»[282].
Постоянные жалобы на возросшее влияние англичан отражали реальные изменения во внутриполитической жизни Сербии. Милош избегал встреч с Ващенко, которому приходилось для решения некоторых вопросов ездить к нему из Белграда в Крагуевац. Ходжес уверял Милоша, что он «может управлять Сербиею по собственному благорассуждению, не допуская ни малейшего вмешательства в дела свои со стороны России»[283]. Депутаты в Константинополе получили указание князя ежедневно навещать лорда Понсонби, ссылаясь, в случае упреков российского посланника, на инструкции из Белграда. Личные отношения Милоша и Ващенко были плохими. Сербский князь не скрывал своего нежелания встречаться с представителем державы-покровительницы. Само право России на осуществление покровительства было поставлено Милошем под сомнение, он был готов, по его собственному утверждению, подчиниться новому Устав у, но не указаниям из России. Что касается упреков русской стороны в том, что князь отдает предпочтение общению с англичанами, то Милош объявил себя «вполне свободным иметь таковые (отношения. – Е. К.) не только с англичанами, но и с французами, австрийцами и всяким другим иноземным государством»[284]. Князь, безусловно, был введен в заблуждение утверждением Ходжеса о готовности Англии «защищать Милоша до последней капли крови».
Приверженность князя к английскому консулу вызывала возмущение сербских старейшин. Они, по предложению Милоша, должны были дать свое согласие на фактический отказ от помощи российской державы – князь требовал принять документ о том, что «Сербия не нуждается вперед в чужестранном участии в делах ее». Этот выпад был направлен, безусловно, против России, ибо, как свидетельствуют факты, в «участии» Великобритании Милош был крайне заинтересован и видел в общении с ее представителем средство освобождения от давления России. К осени 1838 г. конфликт между русским консулом и Милошем достиг своей высшей точки – их отношения практически были прерваны. В конце октября Ващенко докладывал Бутеневу в Константинополь: «С князем у меня нет более никаких сношений по делам: он убегает встречи со мною… О переписке с ним и говорить уже нечего»[285]. Милош не мог не замечать, что вокруг русского консульства концентрируются враги и противники князя. Старейшины, митрополит и сенаторы составили, по словам Ващенко, настоящий заговор против Милоша. В русское консульство стекались все сведения о зреющем недовольстве как самовластием князя, так и его переориентацией на поддержку Англии. «К сожалению, – пишет Ващенко в Азиатский департамент, – умы здесь находятся теперь в таком раздражении, что успокоить их едва ли уже возможно, и надежда на сохранение общественного спокойствия в крае день ото дня исчезает»[286]. Старейшины намеревались свергнуть Милоша и заменить его Ефремом Обреновичем. В воззвании оппозиции, обращенном «К сербам», содержался призыв передать власть брату князя. Перечень прегрешений по следнего включал многие пункты: и то, что Милош окружил себя «выходцами австрийскими», и то, что управляет народом «беззаконно, как Иуда и турок», вздумал «отторгнуться от покровительства России», полагаясь «на помощь англичан, заклятых врагов русского царя»[287].
Осенью 1838 г. в Константинополе шла работа над составлением нового Устава для Сербии. Бутенев не вмешивался в процесс подготовки, оговорив для себя право «одобрить» его окончательный вариант. Российский посланник, будучи по должности и по убеждению противником всяческих «конституций», не мог не видеть того растущего противодействия князю, которое было готово вылиться в открытое столкновение. Сербы, прибывшие из Австрии, как наиболее образованная часть общества, выступили противниками Милоша, поскольку сами претендовали на часть той власти, которую сосредоточил в своих руках князь. Все они поддержали российскую дипломатию в ее конфликте с Милошем, поскольку были уверены, что конституционный режим откроет им дорогу к высшим должностям в княжестве. В турецкой столице еще с лета 1838 г. находились Й. Живанович, Й. Спасич и А. Петрониевич[288]. Они должны были утвердить текст Устава, который предоставит им Порта. Турецкое правительство поддержало противников Милоша: Устав, получивший название «турецкого», был послан в Сербию в форме хатт-и шерифа.
13 февраля 1839 г. на Калимегдане состоялось торжественное чтение Устава: по этому поводу Белград был иллюминирован. Согласно новому Устав у Милош делил законодательную и исполнительную власть с Советом. Первым председателем Совета был избран Ефрем Обренович. Объявлены первые министры: министром иностранных дел стал А. Петрониевич, просвещения – Ст. Стефанович, внутренних дел – Дж. Протич, финансов – А. Симич[289]. Избраны были также 17 несменяемых членов Совета.
«Турецкий» Устав стал плодом соглашения между Портой, Россией и уставобранителями – противниками княжеской власти в Сербии. В результате его принятия Россия осталась покровительствующей державой, ослабив власть Милоша, сменившего к тому времени внешнеполитиче ские ориентиры, и сохранив свое влияние на правящую верхушку княжеских оппонентов. В результате утверждения Устава Турция не ослабила, а усилила свое присутствие в Сербии. Этому способствовало оформление конституционного акта как султанского хатта. Отдельные его статьи прямо урезали права Сербии по сравнению с документами 1830 и 1833 гг. Некоторые права автономии отменялись. Так, Сербия больше называлась не княжеством, а провинцией Турции. Подчеркивались господство Порты и данническая зависимость Сербии. Кроме того, османское правительство считало себя вправе регулировать отношения между князем и Советом. Для оппозиции все эти уступки были маловажными: главное его значение она видела в том, что Устав уничтожал абсолютную власть князя.
Таким образом, с принятием Устава права Сербии не только не расширялись, но и в какой-то мере были урезаны. Тем не менее российское правительство считало свою миссию выполненной: князь лишался всей полноты власти и в то же время миновала угроза принятия либеральной конституции по западным образцам. Укрепление роли оппозиции во властных структурах снимало опасность антикняжеских, то есть «революционных», выступлений, гарантировало стабильность в политической жизни сербского общества, а значит – и всего Балканского региона. Австрийское правительство в целом было также удовлетворено условиями принятого Устава. Основное его преимущество оно видело в том, что власть Милоша была ограничена, поэтому интриги вокруг фигуры князя уже не грозили возможным восстанием на южных границах Австрии. Одновременно устранялась опасность нежелательного вмешательства России. В британском кабинете придерживались другого мнения: Понсонби сообщал Пальмерстону, что отныне Сербию, Валахию и Молдавию можно рассматривать в качестве целиком «русской» сферы влияния[290].
Основные положения «турецкого» Устава, или «четвертого» хатт-и шерифа, не могли устроить князя. Вплоть до весны 1839 г. он находился в состоянии постоянного конфликта с членами Совета. В апреле был принят закон об устройстве этого органа управления, по которому у Милоша была отторгнута как законодательная, так и исполнительная власть[291]. Взаимоотношения князя и Совета вошли в критическую фазу. Уже в феврале, сообщая Бутеневу об устройстве в Сербии трехстепенного судопроизводства, Милош хлопотал о получении разрешения выехать с сыновьями в Валахию «для осмотрения имений… и оттуда в другие края»[292]. Мысль покинуть Сербию уже не оставляла Милоша. В мае он повторяет свою просьбу[293]. 1 июня он подписывает отречение от власти, ссылаясь на расстроенное здоровье. Титул верховного князя переходит к старшему сыну Милану, к тому времени тяжелобольному. Сообщая о принятом решении Бутеневу, Милош оправдывал свой шаг тем, что только таким образом он может получить «отдохновение, столь нужное… по причине расстроенного здоровья». Примечательно, что это письмо, посланное в Константинополь российскому посланнику, не имеет обычной подписи Милоша. Складывается впечатление, что за вежливыми формами обращения скрывалось чувство глубокой досады и, быть может, раздражения и гнева. Не смея пренебречь обязанностью известить Бутенева о столь важном для него шаге, Милош не нашел нужным поставить в конце письма свой росчерк. Это желание досадить небрежностью столь очевидно, что не могло не обратить на себя внимания российских чиновников в Петербурге. На письме, пересланном в российский МИД, стоит карандашная помета, сделанная уже там: «Это письмо не подписано намеренно»[294]. Укол русскому самолюбию – последнее, что совершил Милош на своем посту, покидая его. Впрочем, уже в июле он вынужден был опять обратиться к российскому посланнику – Милош сообщал о смерти Милана и своем желании видеть во главе Сербии Михаила Обреновича. В письме содержится просьба не отказать в совете и поддержке – Милош должен был заручиться лояльным отношением России к такому важному вопросу, как легитимность престолонаследия в стране[295]. Никаких сложностей со стороны Совета вопрос о наследовании власти не вызвал: Петрониевич извещал российского посланника, что вся процедура свершилась «с согласия митрополита, на основании хатт-и шерифов»[296].
Решение вопроса о сербском Уставе в том виде, в каком это произошло в 1838–1839 гг., можно отнести к успешным акциям русской дипломатии. Попытка Англии принять участие в сербских делах потерпела неудачу в связи с тем, что у Великобритании не оказалось там серьезной опоры. Тем не менее ее вмешательство способствовало ослаблению русского влияния, политической поляризации сербского общества и явной ориентации некоторой его части на западные образцы государственного развития. В свою очередь, Россия еще раз продемонстрировала устойчивое политическое влияние на Порту и непреложный авторитет державы-покровительницы в Сербии. Вопрос разработки сербской конституции вывел княжество на арену европейских международных отношений. В большей или меньшей степени в решении конституционной проблемы приняли участие ведущие державы Европы – Австрия, Англия и Россия. Опосредствованно сюда же была замешана и Франция, конституция которой являлась ориентиром для уставобранителей. Само французское консульство появилось в Белграде лишь в 1839 г. и не оказывало на сербские правящие круги заметного влияния. Это было связано с общим ослаблением позиций Франции в Османской империи. Появление консульств, открывшихся в Белграде в 1836–1838 гг., явилось ярким доказательством заинтересованности европейских держав в их политическом присутствии на Балканах. Представители Англии, Австрии и России включились во внутриполитический конфликт между князем и оппозицией. Они оказывали определенное влияние на противоборствующие стороны и в конечном счете предопределили успех одной из них. В то же время следует отметить, что Сербия была включена в международные отношения не в качестве равноправного партнера, а как объект борьбы великих держав за установление преобладающего влияния в ней.
К концу 30-х гг. XIX в. расстановка внешнеполитических сил в Сербии осталась прежней. Россия, несмотря на возникшие осложнения, сумела сохранить свое доминирующее положение державы-покровительницы. Это далось российскому правительству непросто – после вмешатель ства Великобритании в балканские дела авторитет России был серьезно подорван. Князь Милош Обренович не только не опирался на русскую дипломатию для решения сербских проблем, но и стал видеть в ней своего главного противника в деле достижения желанных для него целей, в том числе сохранения авторитарного правления в княжестве. Российское правительство пыталось ограничить власть князя выборным Сенатом, речь об учреждении которого шла в хатт-и шерифе 1830 г. Именно Россия настояла на внесении пункта о Сенате в султанский документ, видя в нем единственную гарантию стабильности в княжестве и его приверженности покровительствующей державе. В связи с этим спорным выглядит утверждение Р. Люшича о том, что русско-сербские отношения в 30-х гг. делятся на два периода: в первом, то есть до принятия устава 1835 г., императорский двор поддерживал князя, а во втором – оппозицию[297]. Безусловно, добиваясь от Порты издания хатт-и шерифа и берата в начале 30-х гг., русская сторона поддерживала Милоша Обреновича, но не как не ограниченного законом правителя, а как представителя сербского народа, требовавшего автономии Сербии в рамках Османской империи. Что касается отношения к личности самого князя, то на протяжении предыдущего десятилетия он ясно продемонстрировал свои авторитарные замашки, которые вызвали открытое порицание как посланников в Константинополе Г. А. Строганова и А. И. Рибопьера, так и императорского двора. Именно Россия добивалась ограничения полномочий Милоша, указывая, что личные интересы он ставит выше интересов своего народа. Российские власти опасались, что, сосредоточив в своих руках всю полноту власти, он не будет нуждаться в поддержке русской стороны и обратит свой взор к другим европейским державам. Опасения эти полностью оправдались в последующие годы.
Принятый после восстания Миленко Радойковича Сретенский Устав вызвал негативное отношение со стороны российских властей. После европейских революций начала 30-х гг. требование принятия какой-либо «конституции» выглядело достаточно радикальным и не могло найти понимания со стороны российского абсолютизма. Полностью поддержав отмену Устава князем, российский МИД в то же время не отказался от намерения ограничить его власть жесткими рамками, преступить которые не позволил бы Совет старейшин, выбираемых на пожизненный срок. Это условие имело вполне определенный смысл, поскольку советники не должны были подвергаться угрозе возможной отставки по мимолетному капризу верховного князя. При ближайшем рассмотрении требования сербской оппозиции включали в себя и статью о «собрании, состоящем из сербских властей», которая входила в турецкий хатт 1830 г.[298] Сербы-русофилы, будучи критически настроенными по отношению к княжеской власти, добивались включения положения о Совете, или Сенате, в турецкий документ, зная, что их намерения не противоречат политическим видам России.
Таким образом, тезис о «поддержке» князя или его оппозиции российским правительством требует оговорок, поскольку его внешнеполитическая программа по отношению к Сербскому княжеству оставалась неизменной на протяжении всей первой трети XIX в. Россия была заинтересована в стабильности, «нереволюционности» и прорусской ориентации сербского руководства. При этом второстепенным выглядел вопрос о том, кто именно может обеспечить достижение этой цели. В поддержку русофильски настроенных высших руководителей княжества последние десятилетия активно действовали как российские дипломаты в Константинополе, так и петербургское правительство.
Лидирующее положение России в Балканском регионе вынуждены были признать все ведущие европейские державы, однако их реакция на этот факт международной жизни проявлялась по-разному. Англия попыталась переломить внешнеполитическую ситуацию в Сербии в свою пользу. С этой задачей была связана миссия Г. Ходжеса в 1837–1839 гг., окончившаяся без каких-либо определенных результатов. Австрия, будучи крепко связанной с Россией общей целью противодействия революционным выступлениям в Европе, внешне оставалась лояльной всем русским инициативам в Сербии. Она не препятствовала деятельности русской дипломатии, взяв за правило открыто не противодействовать России на Балканах. Обе державы исходили из интересов сохранения стабильности в Сербии. С этим связано и то, что австрийские власти не откликнулись на предложение Великобритании о совместных действиях против России. Следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что англо-русские противоречия конца 30-х гг. не прошли бесследно для авторитета России. Английское противодействие серьезно поколебало русское влияние, сыграв на самых чувствительных струнах сербского князя – вопросе о характере его власти. Этот вопрос, совпав с обсуждением конституционного акта и вызвав раскол в высшем руководстве княжества, способст вовал ориентации некоторой его части на европейские модели общественного развития. Россия, политика которой не соответствовала этому направлению, неизбежно должна была потерять привлекательность в глазах либерально настроенной сербской буржуазии. Отвергнув Устав 1835 г. и поддержав движение уставобранителей в 1838 г., Россия еще раз продемонстрировала свое намерение контролировать положение дел в Сербии и следить за тем, чтобы развитие княжества соответствовало ее внешнеполитическим ориентирам и содей ствовало укреплению ее позиций в Балканском регионе. Как и в прошедшие десятилетия, российские правящие круги пытались определять внутреннюю политику в Сербии, не принимая во внимание тот факт, что княжество, хотя и образованное при значительной поддержке России, уже начало свой путь самостоятельного развития.
3. Сербия под властью уставобранителей
Формально уставобранители пришли к власти одновременно со сменой правящей династии. Реально же новый режим вызревал в недрах старого общества и подготавливался всем ходом социального и политического развития Сербии на протяжении 30-х гг. XIX в. Борьба за Устав, а еще раньше – за хатт-и шерифы 1830 и 1833 гг., провозглашавшие не только автономную независимость Сербии от Турции, но и содержащие регламентацию социально-политической жизни княжества, явилась этапом на пути к серьезным переменам в стране.
К началу 30-х гг. в Сербии продолжало действовать обычное право. Даже в начале 40-х гг. российский консул в Белграде Г. В. Ващенко отмечал, что в Сербии отсут ствует судебное законодательство, а судят «по здравому рассудку и совести судей»[299]. Законотворчество, начатое еще Милошем Обреновичем в 1829 г., долго не давало своих результатов, по скольку сербы – выходцы из Австрии, занимавшиеся разработкой законов, не могли выбрать достойного образца, останавливаясь то на австрийском, то на французском законодательстве. В комиссию по составлению законов вошли М. Ненадович, В. Караджич, В. Попович и др. Их ближайшей задачей стал перевод французского Кодекса Наполеона, который, однако, не мог быть механически применен в Сербии вследствие существенных различий социально-экономического развития двух стран. К разработке законов был привлечен Вук Караджич – видный деятель сербского возрождения. Не выдержав притеснений со стороны князя Милоша, Караджич в свое время был вынужден покинуть Сербию и перебраться в Землин, откуда он отправил князю пространное послание. В письме Караджич излагает прин ципы, на которых, по его мнению, должно строиться государство. Этот документ выдающегося деятеля сербской культуры представляет большой интерес, так как составлен не государственным деятелем, а частным лицом, каким являлся Караджич, проживавший в Австрии.
Прежде всего Караджич указывал на то, что Милошу следовало бы разработать «установление, или, по нынешнему европейскому выражению, конституцию». Конституционное требование Караджича предвосхищает ту острую внутриполитическую борьбу, которую повели уставобранители в первые же годы после создания Сербского княжества. Необходимым условием нормального функционирования государственного аппарата сербский ученый считал создание правительства, признавая совершенно недопустимым такое положение в стране, при котором «целое правительство» составляет один Милош Обренович. Политическая зрелость, понимание процессов общественного развития сказались в выдвижении требования отмены кулучных работ: «Надлежало бы отменить барщину и ни от кого ничего не требовать без платы»[300]. Исследователь и собиратель устного литературного наследия народа, Караджич не мог не беспокоиться о развитии образования в Сербии, учреждении школ и училищ, ибо «Сербия ни в чем не имеет так недостатка, как в людях, способных к отправлению общих служб»[301]. Испытав на себе неограниченное самовластие князя, Караджич большое внимание уделял «гражданским свободам» человека – свободе передвижений, мысли и слова.
Все эти условия, претворенные в жизнь, по существу означали бы создание государственных начал на новой, буржуазной основе. В целом эта программа политического устройства Сербии синтезировала основные требования оппозиции, но была сформулирована не политиком, добивавшимся власти, а представителем ученого мира, анализировавшим происходящие в сербском обществе перемены.
Работа по составлению Законника была предпринята в 1836 г., когда Милош пригласил В. Лазаревича, градоначальника Землина, и Й. Хаджича, новосадского сенатора, продолжить начатое ранее дело. Меттерних дал личное разрешение этим двум подданным Австрии работать в Сербии, поскольку был заинтересован в том, чтобы сербское законодательство ориентировалось на австрийский образец. Сам Милош так объяснял свой шаг: «Я решился позвать из Австрии искусных законоведцев из сербов… мужей честных, родолюбивых и прослывших отличным познанием законоведства, на конец составления законов для Сербии, выпросив их у австрийского правительства… Они желают сочинить законы гражданские и уголовные, равно как и правила судебных поступков»[302]. В апреле 1837 г. князь Милош, обращаясь к приглашенным юристам, писал им в письме: «…вручаю вам дело законов сербских и прошу вас приняться оного с верностию и усердием»[303]. «Мое первое желание, – продолжал Милош, – состоит в том, чтобы Сербия получила законы, второе – чтобы получила такие законы, которые бы служили к пользе и чести ее». Милош попытался извлечь из нового законодательства максимум личных выгод. «Я желаю, – писал князь, – чтобы законы сии сходны были монархическим началам и системе, по причине той, что Сербия стоит под царством, покровительством и в соседстве царств монархических»[304]. Под монархическими царствами имелись в виду Османская империя, Россия и Австрия. Милош считал, что ссылка на политическое устройство этих держав является достаточным основанием для оправдания собственных авторитарных претензий. Составители законов получили указание «избегать со тщанием» упоминания каких-либо намеков на либеральные принципы построения политической власти в княжестве, чтобы не вызвать «и малейшего неудовольствия от сих трех держав». Действительно, все три окружавшие Сербию монархии были встревожены возможностью проникновения революционных идей в сербское общество, но отнюдь не отрицали необходимости проведения разумных преобразований в нем.
В августе того же года князь сообщал Бутеневу о ходе работы по составлению законодательства. По его словам, специальные комиссии заимствовали «нечто из австрийских и прусских законов, нечто из Кодекса Наполеонова». «То, что виделось нам несходным народу сербскому, было изменяемо выключаемо и поправляемо»[305].
Гражданский Законник был принят лишь в 1844 г. Он закреплял право граждан на частную собственность. Положительной чертой Законника явилось то, что он включал в себя элементы сербского народного права, хотя и основывался практически на австрийском кодексе 1811 г.[306] В целом принятые законы расчищали путь для развития капиталистических отношений в сербском обществе. Этому же способствовали и преобразования в землевладении. В 1834 г. было провозглашено свободное владение землей. Распад задруг вел к разорению части крестьянских хозяйств, что способствовало росту имущественного расслоения сельского населения. Однако процесс дифференциации крестьянства шел медленно – это явилось особенностью капиталистического развития крестьянских хозяйств в целом.
Население Сербии составляло в 1841 г. 807 тысяч жителей, в 1846 г. – 825 тысяч. Всего с 1815 по 1854 г. число жителей утроилось и увеличилось до 998 тысяч человек[307]. Однако значительное число этнических сербов проживало вне княжества, на территории европейских владений Османской империи, а также Австрии и Венгрии. Около 500 тысяч сербов находилось в Боснии и Герцеговине, 300 тысяч в Воеводине, 150 тысяч – в Хорватии и Славонии, 300 тысяч – на землях Венгерского королевства, 80 тысяч – в Далмации[308]. После хатт-и шерифа 1830 г. Милош Обренович расширил территорию княжества, присоединив шесть спорных округов, утраченных после поражения в Первом сербском восстании. Большую помощь оказала Милошу российская дипломатия, которая, поддержав сербскую сторону, постоянно требовала от Порты возвращения княжеству его земель.
Сербия 30-х гг. представляла собой аграрную страну с неразвитыми товарно-денежными отношениями. Достаточно сказать, что в княжестве не было собственной денежной единицы и в обороте находились 43 вида монет[309]. Крестьянское хозяйство находилось на уровне простого товарного производства, а сельские жители составляли 95 % всего населения страны. В то же время именно в 30-40-х гг. начался заметный процесс роста городского населения и развития городов. Различия между городом и селом были значительны. Население городов было более молодым и большей частью несербским из-за значительных миграционных процессов. Постепенно оно приобретало черты особой общественно-экономической категории, все более отдалявшейся от жителей села[310]. К 40-м гг. в Сербии было не более 35 городов[311]. Столица в 1842 г. была перенесена из Крагуевца в Белград. Дороги в княжестве практически отсутствовали.
Постепенно в государстве складывался внутренний сербский рынок, хотя основы натурального хозяйства были сильны и имели яркие черты замкнутого сельского производства. Единый внутренний рынок еще полностью не сформировался, господствовало региональное разделение с местными рынками и узким объемом производства, преобладанием монокультуры в сельском хозяйстве. «Сербы, в отношении к труду, занимаются только хлебопашеством и выгонкою из слив водки, обыкновенно, сколько нужно для годового обихода, редко для продажи», – писал в своем годовом отчете российский консул в Белграде Н. В. Ващенко[312].
Животноводство оставалось главным занятием сельских жителей и единственной статьей внешней торговли[313]. «Сербы при всей своей понятливости, исключая завода свиней и в малом количестве коз, овец и рогатого скота – другого ничего не знают»[314]. Важную роль в торговле играла Австрийская империя, имевшая традиционно развитые торговые отношения с Сербией. «Сербская торговля, – свидетельствовал российский консул в 1841 г., – находится на низкой степени. Привозная из Австрии, Боснии и Румелии превосходит много отпускную и состоит: первая, в разных мануфактурных и фабричных изделиях, сухих фруктах, вин, роме, красках, масле деревянном, рисе и т. п. и, несмотря на изобилие в Сербии лесов, даже в деревянных изделиях». В свою очередь, из княжества вывозятся свиньи, рогатый скот, кожи, шерсть, сало, мед, воск[315].
Любопытно наблюдение М. Экмечича, что в общественном и культурном отношении быстрее всех развивались малые нетурецкие народы Османской империи, в первую очередь греки и армяне. Для господствующего положения турок в Сербии реальную опасность представляла возможность того, что новая торговая буржуазия будет сформирована из христиан. Торговали и турки, но в их руках была мелкая торговля, тогда как христиане держали монополию на международных рынках.
Несмотря на расширение сферы внешнеполитических связей княжества, этот процесс по существу никак не сказался на росте торговых отношений с новыми странами. Даже Россия, проявлявшая наибольшую заинтересованность в упрочении своего положения на Балканах, вынуждена была признать невыгодность закупок в Сербии леса и угля[316]. Когда в 1837 г. Милош предложил снабжать Россию строевым дубовым лесом и каменным углем, то, по рассмотрению этого вопроса начальником Главного морского штаба и министром финансов, российские чиновники пришли к выводу, что подобное предприятие не имеет для России никакой выгоды из-за дороговизны транспортировки продукции, в достатке имеющейся и в самой России. Кроме того, российские изделия не могли конкурировать с дешевыми и качественными австрийскими товарами. Любопытный факт приводит в своем отчете Г. В. Ващенко: он сообщает, что в сентябре 1841 г. в Сербии появился мещанин Черниговской губернии Иван Разсветов, «желавший испытать, до какой степени русские промышленники могут надеяться на торговые обороты с сербами». Для этого он путешествовал по Сербии в качестве разносчика мелочного товара, в результате чего «убедился, что подобные предприятия для них (русских промышленников. – Е. К.) невозможны без очевидных великих убытков»[317]. Для Англии и Франции Сербия также не представляла выгодного рынка сбыта товаров по причине неплатежеспособности ее населения. Торговый договор между Великобританией и Османской империей, заключенный в 1838 г., по существу никак не сказался на товарообороте с княжеством.
Произошли перемены в судопроизводстве. До Сретенского Устава верховная судебная власть принадлежала Народному суду, его членами стали наиболее знаменитые старейшины. Полномочия народного суда, отмененного в 1835 г., перешли к Совету. С 1837 г. начал свою деятельность Великий суд, а Устав 1838 г. учредил апелляционный суд[318]. В результате всех этих реформ были учреждены примирительный, первостепенный, апелляционный и верховный суды. Для вновь создаваемых государственных учреждений требовались подготовленные служащие, которые составили быстро растущий чиновничий аппарат княжества. Если в 1830 г. в Сербии насчитывалось 169 чиновников, то к 1839 г. их было уже более тысячи и рост их числа продолжался[319]. Чиновничество было сформировано как высший слой общества, имевший ряд льгот и пользовавшийся таким преимуществом, как фиксированное жалованье. Государственные служащие получили большие возможности для личного обогащения. В их среде процветало ростовщичество, взяточничество, незаконные операции с собственностью. Особое положение чиновников и несовершенство законодательной и судебной систем вели к злоупотреблениям и еще большему имущественному расслоению сербского общества. Особую неприязнь вызывали австрийские сербы, в первую очередь получавшие места в государственном аппарате. Они, как правило, были хорошо образованны и стремились занять все высшие должности в чиновничьей иерархии. По своему воспитанию они отличались от основной массы простых сербов, которые платили им общей неприязнью. «Одна из причин ненависти, питаемой к ним природными сербами, имеет тесную связь с здешним судопроизводством», – докладывал консул Д. Левшин в Петербург. – Сборник гражданских законов, принятый здесь в употребление, как известно по поручению сербского правительства, составлен австрийским сербом Хаджичем, который почти все пункты взял целиком из австрийских кодексов, что естественным образом сделало их неудобными для применения по причине резкой противоположности, существующей между нравами и обычаями сербскими и немецкими»[320].
С утверждением власти уставобранителей в княжестве были уч реждены министерства. Министром иностранных дел был назначен А. Петрониевич, министром внутренних дел – Т. Вучич, судопроизвод ства – П. Янкович, финансов – П. Станишич[321]. Режим уставобранителей в Сербии после 1842 г. принято характеризовать как олигархический. Действительно, власть сосредоточила в своих руках немногочисленная верхушка сербского общества, долгие годы боровшаяся с неограниченным господством князя Милоша Обреновича. Все требования, выдвинутые сербскими старейшинами в ходе борьбы за власть в стране, представляли собой условия, обеспечившие режим наибольшего благоприятствования для становления в Сербии нового общественного строя. Безусловной заслугой уставобранителей стало создание государственной власти, основанной на законах, и бюрократического аппарата, отсутст вовавшего ранее и вызванного к жизни потребностями развития новых буржуазных отношений. В исторической литературе бытует мнение, что уставобранительский режим, не будучи демократическим, не способст вовал прогрессу сербской государственности. Тем не менее представляется очевидным то обстоятельство, что власть уставобранителей явилась закономерным следствием всего предыдущего развития Сербии и той напряженной внутриполитической борьбы, которая развернулась в княжестве по вопросу принятия сербской конституции. Создание государственного аппарата и законодательства, введение буржуазных преобразований в землевладении, налогообложении, торговле и производстве, безусловно, явились новым словом в истории Сербии и заслугой нового режима.
Сербское княжество 30-40-х гг. XIX в. представляло собой такой социальный организм, который уже имел черты капиталистического строя при сохранении значительных пережитков феодального характера. Сербский историк Р. Люшич, подробно исследовавший процесс становления капитализма в Сербии в 30-х гг., придает хатт-и шерифам 1830 и 1833 гг. исключительное значение в плане их влияния на социально-политические преобразования в стране. Промежуточный период между двумя этими актами он называет переходным, затем с 1833 по 1835 г. следует время «сербского полуфеодализма», который представляет собой последний этап на пути к полному освобождению от феодальных отношений в княжестве. С 1835 г., когда на Петровской скупщине было принято решение соединить все мелкие подати в один общий налог, вносимый два раза в год, наступает, по мнению автора, эра полного разрыва с феодализмом[322].
Безусловно, период с начала 30-х гг. представляет собой особую эпоху в истории сербского государства. В это время само общество осознало необходимость перемен, в результате чего и возникло движение уставобранителей. Его появление стало той отправной точкой, с которой начался отсчет нового периода жизни Сербского княжества. К нему же вели и все те преобразования, которые были предметом упорной борьбы между Сербией и Портой на протяжении всех предыдущих десятилетий с начала Первого сербского восстания. При всей видимой значительности таких нормативно-правовых актов, как хатт-и шерифы начала 30-х гг., они еще не знаменовали окончательную победу нового формационного периода, который не наступает с принятием того или иного закона. Черты феодализма еще долгое время прослеживались в хозяйственной жизни княжества. Исследуя особенности перехода Сербии к буржуазному государству, российский исследователь Е. Ю. Гуськова пришла к выводу, что они зависят от степени развития элементов капитализма в обществе. Сербии же, по ее мнению, были присущи низкие темпы развития товарно-денежных отношений при сохранении старых феодально-патриархальных отношений[323]. Особенности перехода к капитализму в Сербии предопределялись всем предыдущим историческим развитием края, спецификой протекания буржуазно-национальной революции, спор о характере которой продолжительное время велся среди отечественных и югославских историков. Таким образом, исследуемый период можно охарактеризовать как переходный от одной формации к другой. 30–40-е гг. XIX в. являлись лишь начальным периодом создания класса сербской буржуазии.
При исследовании социально-политической жизни Сербии не может не бросаться в глаза наличие в ней глубоких противоречий. С одной стороны, государственное устройство княжества базировалось на основе конституционного законодательства, с другой – сама конституция была дарована «сверху» турецкими властями. С одной стороны – разработка общеславянских объединительных программ, подобных «Начертанию», связь с либеральными движениями Запада в лице польских эмиссаров, появление национальной прессы, содержащей нападки на турецкое правительство «с примесью заученных возгласов о свободе и независимости»[324]. С другой – глубокий традиционализм общинной жизни народа, «привыкшего с давних времен подчиняться только людям, выходящим из его среды, говорящим его языком, и уважать в своем вожде одну личную храбрость и удальство, презирая всякую европейскую болтовню и не понимая ее»[325]. Европейски признанный князь – и необходимость его преклонения перед султаном с унизительным обычаем поцелуя султанского колена. Появление высокообразованных людей, вернувшихся в княжество после окончания высших школ Германии и Франции, – и жестокие нравы, сохранившие обычай публичного телесного наказания. Закрепление конституционных прав личности – и полное попрание этих прав, крайне низкая цена человеческой жизни.
Несмотря на указанные противоречия, значительную разницу между жизнью городского и сельского населения, неповоротливость и косность государственного механизма управления, Сербия входила в эпоху буржуазных преобразований и капиталистического развития. «Что касается до внутреннего устройства моего Отечества, – отчитывался Милош перед Нессельроде в 1835 г., – я всячески стараюсь улучшить оное введением всякого рода торговли и ремесленной промышленности и улучшением училищ и укреплением храмов»[326]. Росли города, открывались учебные заведения, наблюдался – хотя и медленный – рост товарного производства. В городах преобладала цеховая система. Отсутствие свободной рабочей силы не способствовало развитию фабричного дела – большинство попыток организовать фабрики потерпело неудачу. Сербское население занималось в основном сельским хозяйством, а все ремесленные производства выполнялись выходцами из Австрии. Ващенко писал из Белграда в 1842 г.: «В селах у них кузнецы – кочующие цыгане, по городам кузнецы, каретники, портные, сапожники, столяры, хлебники, плотники и каменщики – австрийско-подданные». Проявляя осведомленность в экономической жизни государства, Ващенко сетует на то, что «все сии мастеровые выносят из Сербии ежегодно миллионы», которые могли бы остаться в княжестве[327]. «В числе источников народного богатства, – пишет он, – в Сербии можно бы полагать железные, медные, оловянные и серебряные руды, квасцы и каменный уголь, если б все сие было приведено в надлежащую разработку, но горное дело в Сербии известно ныне по одному названию и находится в совершенном небрежении»[328].
Высшие государственные чиновники сосредоточили в своих руках крупные земельные владения, вели основную торговлю в княжестве. Часто это влекло за собой карательные меры, поскольку официально чиновничеству, получавшему жалованье, не разрешалось заниматься торговлей. Однако этот запрет постоянно нарушался, что позволяло государст венным служащим становиться крупнейшими капиталистами, каким был и сам князь Милош.
С начала 40-х гг. XIX в. в Сербии успешно развивалась система народного образования. Эта тенденция особенно отчетливо просматривается по сравнению с предыдущим десятилетием, когда Милош Обренович не оказывал должного внимания развитию школьного дела в княжестве. В 1846 г. российский консул Данилевский доносил из Белграда: «Внутреннее устройство учебных заведений в Сербии, конечно, находится еще в младенчестве и представляет много недостатков… но нельзя не заметить, что правительство ревностно заботится по мере своих способов… к увеличению учебных заведений, что подает повод надеяться на несомненные со временем успехи»[329].
Еще в 1835 г. в Сербии был принят «Устав народных школ в княжестве Сербия», на основании которого шло строительство школьного дела. Все школы подразделялись на государственные и общественные. К государственным принадлежали гимназии, три полугимназии и основные школы в маленьких городках[330]. К 1846 г. в Сербии уже функционировали Лицей, школа богословия, Гвардейская школа, военная академия, гимназия и коммерческое училище[331]. В других городах действовали 17 окружных и 144 сельские школы. Всего к 1846 г. в Сербии насчитывалось 6238 учеников, которых обучали 215 учителей. В целом учился один из 129 человек, если согласиться с тем, что население Сербии в это время составляло 806 815 человек[332]. При этом следует отметить, что две трети школьных учителей были выходцами из Австрии, то же можно сказать и о профессорском составе Лицея[333]. В 30-х гг. были открыты первые библиотеки в Белграде и Крагуевце[334].
В 1838 г. в Крагуевце открылся Лицей – первая высшая школа, которая имела первоначально два факультета – философский и юридический. В 1841 г. Лицей был переведен в Белград и на его базе учрежден Белградский университет[335]. Коммерческое училище имело три отделения, в нем преподавались сербский, немецкий и новогреческий языки, история, география, арифметика, бухгалтерия, химия и физика[336]. К 1850 г. в Белграде открылась артиллерийская школа, для которой российским консулом были закуплены и переданы в дар сербскому правительству «военно-учебные книги»[337]. Обучение сербского юношества в России осталось достаточно распространенной формой традиционных русско-сербских связей. Российское правительство принимало молодых сербов в свои университеты, гимназии, на военную службу. Для этих целей император объявил свободный пропуск в пределы Российской империи направлявшихся на обучение сербов[338]. Член сербского апелляционного суда Милутинович, находясь в Петербурге, подал специальную записку, где объяснял, что отправляющимся для продолжения образования в Россию необходимо приобрести навыки в русском языке. Он предлагал открыть при Лицее класс русского языка, пригласив для преподавания русских учителей[339].
При князе Михаиле сербское правительство ежегодно посылало по 12 молодых людей в университеты Франции и Германии[340]. Это вызвало резко негативную реакцию российских властей, опасавшихся, что вернувшиеся на родину сербы могут иметь «пагубное влияние на дух здешней молодежи»[341]. Российский консул Левшин советовал сербскому правительству и самому князю Александру Карагеоргиевичу порвать связи с западными университетами, ориентируясь в области образования лишь на Россию. Этот совет возымел свое действие – Александр предписал попечителю просвещения «впредь не отправлять молодых сербов для университетского образования ни в какие другие государства, кроме России»[342].
Революционизирующее влияние Запада, на которое ссылался Левшин, было отнюдь не основной причиной нежелания российских чиновников отпускать сербскую молодежь в страны Европы. В этой связи представляется интересным наблюдение М. Экмечича, касающееся образования сербов за границей, правда, в более поздний период. Он отметил, что российские власти, настаивая на присылке сербов именно в Россию, не видели опасности во влиянии, оказываемом на приехавших сербов, со стороны прогрессивных слоев русского общества. Обучаясь в России, сербская молодежь, по словам Экмечича, больше увлекалась Герценом, чем науками. Недаром позже все видные социалисты и парламентские демократы (такие, как Светозар Маркович) получали образование именно в русских учебных заведениях[343]. Левшин, анализируя внутриполитическую жизнь сербского общества, приходит к выводу, что «в Сербии нечего опасаться возмущения в либеральном смысле»[344]. Это заключение делается после ссылок на традиционализм и консерватизм народных масс, далеких от демократических исканий белградской молодежи.
Можно согласиться также и с неожиданным на первый взгляд выводом Экмечича о том, что теология и вопросы веры в данный период имели небольшое влияние на формирование новой сербской интеллигенции[345]. Он объясняет это тем фактом, что малообразованные в своей общей массе и немногочисленные православные священники не могли выступать в Сербии в качестве объединительного или просветительского центра. Действительно, роль православия как фактора, способствующего формированию самосознания сербской нации, была более высокой в период подъема сербского национально-освободительного движения. На более позднем этапе, когда данная цель была в основном достигнута, первоочередными стали задачи подъема образовательного уровня населения в специальных учебных заведениях.
Итак, российское правительство придавало особое значение ориентации Сербии даже в вопросах образования. Потеря влияния в одной области могла повлечь за собой ослабление позиций в других сферах, в том числе и политической. Чтобы не допустить этого, российские власти стремились взять под контроль прежде всего сферу идеологической жизни княжества. Со всей очевидностью эта тенденция проявилась в эпизоде с изданием «Невен слоге». Общество любителей словесности, объединявшее выпускников белградского Лицея, предприняло публикацию ряда статей в стихах и прозе, «из коих некоторые политического характера, а одна содержит в себе сильные нападки на турецкое правительство»[346]. «Кроме того, – продолжает Левшин, – в ней есть очень сильная выходка против здешнего правительства, которое оно упрекает в слабости, несамостоятельности и в раболепстве перед Портою». Вышедшие статьи, содержавшие критику политического строя в стране, вызвали возмущение российского представителя в Белграде, который счел необходимым обратиться к попечителю внутренних дел И. Гарашанину с просьбой запретить продажу издания и «строго поступить» с вольнодумцами. Такой пристальный надзор за политической благонадежностью сербского общества не мог не вызвать сопротивления со стороны государственных деятелей, искавших пример политического устройства на Западе и все более тяготившихся вмешательством России в сугубо внутренние дела княжества.
Первая типография, купленная Ц. Райовичем и А. Петрониевичем в России, прибыла в Белград летом 1831 г. в 30 сундуках. Руководить ее работой стал немец Адольф Берман[347]. Уже в сентябре началось печатание административных бумаг, а первая книга вышла из типографии летом 1832 г.[348] С 1834 г. стала выходить газета «Новине српске» под редакцией Д. Исаиловича. Получили распространение книжные альманахи «Урания», «Забавник», «Голубица», печатавшие последние достижения сербских литераторов. Но наибольшее количество книг, выходивших из типографии, составляли учебники и церковная литература. Здесь же при материальной помощи князя Милоша с 1833 по 1839 г. были отпечатаны 24 книги на болгарском языке[349].
Белград становится центром, объединяющим всех югославян Османской империи. Отсюда посылались деньги и оружие для восставших болгар, здесь печатались болгарские книги и поддерживались связи с болгарскими священниками и учителями. Французский посланник говорил о сербской столице: «Белград – политический, культурный и церковный центр всех славянских турецких земель»[350]. Австрийский консул Мейерхофер докладывал Меттерниху о том, что «в Белграде находится демократическо-панславянский клуб». Кроме сербов в нем состояли хорваты. Из этого клуба белградские политики рассылали молодых людей в разные южнославянские земли, чтобы они действовали на пользу общеславянской цели[351]. К 1859 г. в Белграде проживало 18 800 жителей. В 1844 г. здесь был открыт музей редкостей, а через три года при военной больнице открыта медицинская библиотека, в которой было около 5 тысяч книг. В начале 40-х гг. в Белграде состоялся первый спектакль, хотя постоянного помещения театр еще не имел[352]. В том же году была основана белградская библиотека, с 1840 г. работала почта, а с 1855 г. – телеграф.
Все это свидетельствует о стремительном развитии как самого города, так и сербского государства в целом.
Однако внешняя политика уставобранителей отличалась непоследовательностью. В 1842 г. они пришли к власти при поддержке Порты. Князь Александр ориентировался на помощь Австрии, а среди влиятельных вождей уставобранителей было немало туркофилов. Князь Михаил Обренович пользовался поддержкой России, которая приложила немало усилий, чтобы признать его свержение нелегитимным актом. Российской ориентации придерживались видные вожди-оппозиционеры, входившие в состав сербского правительства. Их лидером был известный Тома Вучич-Перишич. Однако они не пользовались решающим влиянием. После того как Александр Карагеоргиевич был повторно избран в 1843 г., Россия, примирившись с этим фактом и несколько улучшив свои отношения с княжеством, уже не смогла восстановить свои позиции в нем в прежнем объеме. Уставобранители не скрывали желания избавиться от ее чрезмерной опеки, что, безусловно, не способствовало дальнейшему улучшению русско-сербских отношений. На их развитие оказывали влияние и личные пристрастия видных политических деятелей Сербии. Антирусскую политику проводил министр внутренних дел И. Гарашанин, явным туркофилом зарекомендовал себя министр иностранных дел А. Петрониевич, а русофил Т. Вучич сумел настолько испортить отношения с российскими властями, что долго находился в центре их внимания как политик, присутствие которого признавалось крайне опасным для русского влияния в Сербии.
Таким образом, оценивая состояние социально-политической и экономической жизни сербского общества в данный период, можно говорить о том, что оно развивалось по капиталистическому пути, сохраняя значительные феодальные пережитки в зарождавшемся промышленном производстве и сельском хозяйстве. В то же время являясь форпостом Османской империи на ее северных границах и будучи основной территорией транзитной торговли со странами Западной Европы, Сербия выделялась уровнем своего экономического развития по сравнению с другими турецкими провинциями, в ней шел активный процесс самоопределения и выбора пути государственного строительства.
Глава III. Проблемы русско-сербских отношений в 40-х гг. XIX в.
1. Ближневосточный кризис конца 30-х гг. XIX в.
После подписания Ункяр-Искелессийского договора 1833 г. равновесие сил на Ближнем Востоке было нарушено в пользу России. Ближайшей задачей западноевропейских стран стало возвращение своего былого влияния в этом регионе. Сделать это было нелегко: политический вес России на Востоке был велик, ее преобладание в Турции было очевидным.
Балканская проблема отнюдь не стала для российских политиков второстепенной в связи с новым и на первый взгляд парадоксальным союзом с Османской империей. Закрепление своих позиций на Балканах путем поддержки освободительных движений народов этого региона наряду с решением вопроса о беспрепятственном плавании в Черноморских проливах являлось двуединой задачей российской политики 30-х гг. XIX в. И она успешно решалась: Греция была провозглашена самостоятельным государством, а Сербия получила статус автономии при непосредственной помощи России. Режим Проливов, установленный после 1833 г., предоставлял российским военным судам возможность плавания через Босфор, что заставляло Запад опасаться захвата Константинополя и сокрушения Османской империи русскими войсками.
Эту мнимую угрозу использовали в антирусской пропаганде прежде всего английские политики во главе с министром иностранных дел Пальмерстоном. Их интересы были ущемлены, а самолюбие уязвлено успехами давней соперницы в зоне традиционно сильного английского влияния – в Османской империи. Двустороннее русско-турецкое соглашение, заключенное, как считали англичане, с явной выгодой для престижа России на Востоке и при изоляции других европейских стран, нанесло серьезный удар по позициям сильнейшей морской державы мира. Не был забыт и традиционный тезис об угрозе английским колониальным владениям и безопасности торговых путей в Индию. Успехи русской внешней политики стали предметом постоянного обсуждения в английском парламенте и веским аргументом для начала новой антирусской кампании. Поводом для обострения англо-русских отношений послужило настойчивое желание сент-джеймского кабинета назначить послом в Петербург Чарльза Стрэтфорд-Каннинга. Не дожидаясь согласия Николая I, Пальмерстон поместил сообщение о новом назначении в газетах[353]. Российский император наотрез отказался принять Каннинга в качестве британского посла, поскольку считал, что его предшествующая деятельность носила ярковыраженный антирусский характер. В ответ английские власти предприняли действия, вынудившие Х. А. Ливена покинуть Лондон, где он в течение 20 лет возглавлял российскую миссию.
Сторонний наблюдатель развивающегося русско-английского конфликта, М. Чайковский, так охарактеризовал основные принципы внешней политики Великобритании: «…всякий истый англичанин считает преступление добродетелью, если оно выгодно английской политике, преступление только тогда становится преступлением и вызывает ноты английского кабинета, когда оно несовместимо с выгодами Англии»[354].
Если русско-английские отношения заметно испортились, то свои давние связи с османским правительством английский кабинет постарался упрочить и расширить. Прежде всего следовало воспользоваться проанглийскими настроениями части влиятельных турецких сановников. Среди них был такой известный реформатор, как Решид-паша – англофил, образованный государственный деятель, ряд лет проживший в Европе. Вернувшись в Турцию, он занял пост министра иностранных дел, ориентируясь на дружеские отношения с Великобританией, политические устои которой произвели на него самое благоприятное впечатление. Проводником проанглийских настроений стал и турецкий посол в Англии Намык-паша. Дипломатическое давление Великобритании на Порту усилилось, Россия изображалась державой, коварно вынашивающей планы укрепления своих позиций в Турции на основе Ункяр-Искелессийского договора.
Рост английского влияния в Османской империи во многом основывался на экономическом превосходстве Англии. В этой сфере Великобритания была вне конкуренции. В 1838 г. между Англией и Турцией был заключен торговый договор – неравноправное соглашение, сдерживавшее рост турецкой торговли. С турецкой стороны он был подписан Решид-пашой. Размер ввозимых пошлин равнялся 5 %, тогда как вывоз был обложен 12 % пошлины. В сущности, договор означал, что экономика Османской империи попала в зависимость от Великобритании. Один из турецких авторов так характеризует его перспективы: «Великий Решид-паша подписал Турции смертный приговор»[355].
Русско-английские отношения были восстановлены в полном объеме в 1835 г., когда в Петербург прибыл новый посол граф Дарем[356]. Однако, несмотря на видимое благополучие, период «вооруженного мира» между Россией и Великобританией продолжался, о чем свидетельствуют совместные англо-турецкие маневры у берегов Анатолии осенью 1838 г. Одновременно 15 российских морских судов крейсировали у северных границ Турции в Черном море, будучи наготове, если понадобится, оказать сопротивление английским судам. О том, что подобное развитие событий считалось весьма вероятным, говорят факты постоянной военной готовности русских военно-морских сил в Черном море. С начала 30-х гг. XIX в. официальная переписка М. П. Лазарева и А. С. Меншикова с Николаем I содержит планы по усилению вооружения на черноморских судах, а также по обороне Севастополя и Одессы от английского десанта. Целью англичан, по мнению Меншикова, было «истребление флота нашего»[357]. Ответными мерами должны были стать активные действия, ибо «с флотом дома сидеть не будем, и ежели неприятель к нам пожалует, то при равных силах будем меряться»[358].
Ункяр-Искелессийский договор, вполне устраивая русскую сторону, подвергался попыткам расширительного толкования со стороны османского правительства. Оно вынашивало планы реванша по отношению к Мухаммеду Али и хотело привлечь на свою сторону Россию. Петербургский кабинет, заключив договор в виде оборонительного союза, не имел намерения использовать его как предлог для каких-либо наступательных действий и не был готов содействовать султану в его реваншистских планах возвращения Сирии. Поэтому, не найдя отклика со стороны непосредственного союзника, Порта решила обратиться за поддержкой к Англии, которая постоянно подогревала честолюбивые намерения турецкого владыки. Таким образом, преимущества, полученные Россией в Проливах, были несколько преуменьшены благодаря стараниям английских политиков. Средиземноморская эскадра Великобритании базировалась в непосредственной близости от османских владений – на Мальте. Британский посол в Константинополе Дж. Понсонби получил разрешение турецкого правительства вызывать корабли в Проливы по просьбе Порты[359]. Несмотря на то что подобной просьбы не предвиделось, это соглашение в определенной степени уравновешивало Ункяр-Искелессийский договор, хотя и не могло в полной мере восполнить потери английского влияния в Турции.
Усилия английской дипломатии были направлены на то, чтобы русско-турецкий договор не только не получил временного продолжения, но и был дискредитирован в глазах османского правительства, которое, по замыслу британских политиков, должно было все больше ориентироваться на союз с Великобританией. Для этого не надо было даже отменять заключенный союз. «Единственным средством представляется мне погружение его в какой-либо более общий уговор такого же рода», – заявил глава внешнеполитического ведомства Великобритании и предпринял конкретные шаги к достижению этой цели[360]. В достаточно неопределенной форме Пальмерстон обещал турецким министрам поддержку в виде заключения наступательного союза. Это обещание показалось привлекательным для султана, который хотел заменить оборонительный Ункяр-Искелессийский договор наступательным, даже если при этом надо было сменить союзника. Этот договор должен был поддержать честолюбивые планы Махмуда по началу новой военной кампании против египетского паши[361]. Затянувшиеся переговоры с британским министерством не привели к заключению нового альянса, но османское правительство уже было переориентировано на нового союзника. К тому же французское правительство, открыто оказывавшее поддержку египетскому владыке, неожиданно выступило с заявлением о том, что не одобряет его стремления отделиться от Османской империи. Таким образом, султан сумел заручиться косвенной поддержкой еще одной европейской державы, противодействия которой следовало ожидать в первую очередь[362]. Несмотря на существовавшие англо-французские разногласия в методах решения ближневосточного кризиса и в целях, преследуемых в этом регионе, эти державы были солидарны в стремлении противостоять укреплению России на Ближнем Востоке. Ни Англия, ни Франция не скрывали того, что их ближайшей целью является устранение преобладающего русского влияния в Турции путем заключения многостороннего договора о целостности Османской империи.
Некоторые внешнеполитические шаги России облегчили Западу эту задачу. Прежде всего это относится к Мюнхенгрецкой конвенции 1833 г. Сущность ее решений по восточным делам такова: Россия и Австрия обязывались поддерживать существование Османской империи и «противостоять общими силами всякой комбинации, которая наносила бы ущерб правам верховной власти в Турции»[363]. Другими словами, Россия по собственной инициативе пригласила к участию в соглашении третью державу – Австрию, несмотря на то что главным преимуществом России в Османской империи всегда был именно двусторонний характер их договоренностей. Опасаясь изоляции после враждебно встреченного Ункяр-Искелессийского договора, российские политики тешили себя надеждой на то, что, заключив соглашение с Австрией, они смогут заставить ее следовать в русле своей внешней политики. На деле же Мюнхенгрецкая конвенция явилась первой после успеха 1833 г. уступкой России интересам западных держав, тем шагом, который привел к целому ряду отступлений от политики национальных интересов России в Ближневосточном регионе. Мюнхенгрецкой конвенцией был открыт вопрос о пересмотре условий русско-турецкого договора 1833 г.
Черноморская торговля через Проливы в 30–40-х гг. XIX в. переживала период бурного роста. Это было связано с интенсивным расширением внешнего хлебного рынка России и повышением роли Черного моря в хлебном экспорте. В 1844–1848 гг. через порты Черного и Азовского морей прошло в четыре раза больше торговых кораблей по сравнению с периодом 20-х гг. XIX в.[364] Через Босфор и Дарданеллы переправлялось свыше половины всего русского хлеба. Что касается стратегического значения Проливов для русского военно-морского флота и безопасности южнорусского побережья Черного моря, то забывать об этом не давали действия «морских держав» – Англии и Франции. Их объединенная эскадра крейсировала в Архипелаге, готовясь в любой момент мнимой или реальной угрозы для Оттоманской империи войти в Дарданеллы.
Не способствовал улучшению русско-английских отношений и конфликт со шхуной «Виксен», перевозившей контрабандный груз оружия для восставших горцев Кавказа. Оружие было выгружено в Новороссийской бухте 14 (26) ноября 1836 г., после чего английская шхуна была задержана и объявлена русским призом. Англичане, казалось, готовились начать военные действия. Со своей стороны, российские власти намеревались послать на Босфор расположенный в Новороссийском крае пехотный полк. Николаю I принадлежат слова: «Нам бы только захватить Дарданеллы, если англичане… захотят завладеть сим местом. Лишь бы нам высадить туда русские штыки; ими все возьмем»[365]. Как известно, неприятельский флот не мог беспрепятственно пройти через узкий Дарданелльский пролив без поддержки сухопутных войск. Береговые укрепления и артиллерия представляли надежный заслон для непрошеных гостей, следовавших на морских судах. В русском военном министерстве были разаботаны планы на случай занятия англичанами Дарданелл, угрозы Константинополю, овладения Босфором и – при заключении англо-турецкого союза – вступления английского флота в Черное море. Эпизод с «Виксеном» не перерос в морскую войну: Англия отступила. Но лишь для того, чтобы взять реванш на поле политического сражения, к чему имелись все объективные предпосылки.
После заключения торгового договора с Турцией Пальмерстон счел возможным установить с Портой более тесные связи: у Дарданелл появилось 11 английских судов[366]. Лорд Понсонби просил разрешения впустить в пролив 5–6 кораблей. После протеста А. П. Бутенева османское правительство своего согласия на это не дало. Одновременно в Черном море продолжали крейсирование 15 русских военных судов. Противостояние России и Великобритании становилось все более очевидным.
Вскоре центр тяжести европейской политики был перенесен на Ближний Восток из-за повторно разгоревшегося конфликта между Махмудом II и Мухаммедом Али. Будучи лишь номинально подчиненным султану, египетский паша уже давно безраздельно правил в Египте и Сирии и был заинтересован в официальном признании его прав на наследственное владение этими территориями. Военный конфликт начала Турция, но действия ее армии были крайне неудачны – она потерпела поражение в битве при Низибе. Султанский флот добровольно сдался египтянам. К тому же скончался Махмуд II, так и не узнав о поражении своей армии.
Европейские державы решили не повторять ошибки 1833 г. Если Россия придет на помощь Османской империи и займет Константинополь, то уже не уйдет оттуда – подобные опасения высказывались правительствами Англии и Франции. Поскольку мятежный паша пользовался неприкрытой поддержкой Франции, которой было выгодно создание новой державы, где ее преобладание было бы решающим, то Англия намеревалась действовать в пользу султана, даже если Франция откажется выступить вместе с ней. Одновременно Англия опасалась сближения между Россией и Францией, считая их союз «величайшей опасностью для Европы». Действительно, цели этих двух держав выглядели близкими – и та и другая имели в турецких владениях точки опоры своего влияния и, формально выступая за сохранение целостности Османской империи, могли содействовать образованию на ее развалинах новых государств, полностью обязанных своей независимостью покровительствующим державам – России или Франции. Но главной задачей сент-джеймского кабинета было не позволить России использовать свои формальные обязательства по Ункяр-Искелессийскому договору, устранить ее от участия в турецко-египетском конфликте, дезавуировать действовавший между Россией и Турцией договор, заменив его общим, «коллективным» актом, гарантировавшим status quo в Османской империи. Заинтересованность всех европейских держав в решении ближневосточного конфликта объяснил в своих беседах с Мухаммедом Али российский консул в Александрии А. М. Медем. В частности, он отмечал: «…существование Османской империи является жизненным делом для всей Европы, и, дабы избежать опасности всеобщего конфликта, который последовал бы за потрясением на Востоке, великие дворы не побоятся никаких жертв и не остановятся даже перед необходимостью вооруженного вмешательства»[367].
Отметим, что на первом этапе кризиса российское правительство безоговорочно отвергло предложение об общем договоре по турецким делам. Предложение о созыве конференции в Вене, исходившее от Меттерниха, русской стороной принято не было. Таким образом, Петербург был заинтересован в скорейшем урегулировании турецко-египетского конфликта без вмешательства европейских держав. По мнению Нессельроде, Россия могла присоединиться только к частному соглашению, касавшемуся непосредственно взаимоотношений между султаном и пашой[368]. Непременным условием русской стороны стало закрытие Дарданелльского пролива как в мирное, так и в военное время. К тому же с началом конфликта российское правительство еще взвешивало возможность своего участия в нем на стороне султана. В одной из аналитических записок Нессельроде развил свою мысль следующим образом: Мухаммед Али «является лишь номинальным ее (Порты. – Е. К.) вассалом. К тому же разрыв уз, соединяющих Египет с Оттоманской империей, конечно, не является событием, о котором мы стали бы сожалеть, Порта от этого стала бы лишь слабее. Она тем паче чувствовала бы нужду в нашем покровительстве и союзе с нами»[369]. Таким образом, с обострением кризиса в Петербурге пытались проанализировать создавшуюся на Востоке обстановку и выявить свое место в новой расстановке сил.
К концу 30-х гг. XIX в. во внешнеполитическом ведомстве России сложилось мнение, что Ункяр-Искелессийский договор не может быть продлен после окончания срока его действия: слишком велико было сопротивление западных держав. В сложившихся обстоятельствах ближневосточного кризиса, когда избежать вмешательства европейских государств в дела Турции стало невозможным, Нессельроде со своей стороны выдвинул идею «коллективного» договора, но такого, который не отменял бы выгоды Ункяр-Искелесси, а сохранил бы их при помощи общеевропейской гарантии. В своем докладе Николаю I от 31 мая 1839 г. Нессельроде отвергал возможность вмешательства в турецко-египетскую распрю только со стороны России: «…кажется очевидным, что мы не сможем прийти на помощь султану, заранее не приготовившись к столкновению с Англией на театре событий, центром и целью коих станет Константинополь»[370]. Одновременно Нессельроде считал возможным, отступив от русско-турецкого договора, достичь понимания со стороны Англии. Когда новое соглашение с ней будет заключено, «тогда мы будем иметь достаточную возможность громко заявить Англии: “Мы должны обеспечить свою собственную безопасность и безопасность Турции, поэтому нам необходимо, чтобы Черное море не было открыто для иностранных военных кораблей”»[371]. Знакомясь с этими доводами, трудно поверить, что многоопытный политик действительно был убежден в возможности подобного развития событий: встав на путь уступок по важнейшему для России внешнеполитическому вопросу, русская дипломатия уже не могла свернуть с него, и каждый новый шаг лишь усугублял положение.
Английские представители в Константинополе проявили большую активность, чтобы перехватить у России инициативу. Для этого европейские правительства пренебрегли интересами самой Османской империи и заняли позицию грубого вмешательства в ее внутренние дела. По сведениям российского МИД, Порта была готова заключить соглашение с Мухаммедом Али на условиях передачи ему прав наследования всех областей, которыми египетский паша обладал к тому времени. Уполномоченные Порты уже готовы были выехать в Александрию, когда последовало вмешательство пяти европейских государств в форме ноты константинопольских по сланников[372]. Эта нота была подписана 27 июля представителями Австрии, Англии, Франции, Пруссии и России. В ноте говорилось, что «солидарность пяти великих держав по восточному во просу является обеспеченной и… им поручено просить Блистательную Порту воздержаться от принятия без их содействия каких бы то ни было окончательных решений»[373]. В отечественной историографии бытует мнение, что благодаря этой оплошности Бутенева, присоединившегося к ноте вопреки позиции, занятой российским МИД по отношению к коллективным мерам, Россия была вынуждена и в дальнейшем следовать в фарватере английских инициатив. Как свидетельствуют все последующие события, российское правительство в любом случае не захотело бы оказаться в изоляции. Таким образом, подпись Бутенева не носила фатального характера для развития ситуации, если он даже и не имел инструкций Петербурга о присоединении к такого рода документам. Следует подчеркнуть, что на данном этапе развития кризиса как Россия, так и Османская империя пытались избежать вмешательства других держав. Турецкое правитель ство согласилось с предложением российского посланника закончить дело двусторонним соглашением, но под влиянием внушений австрийской дипломатии пересмотрело свою точку зрения, обратившись к представителям пяти заинтересованных стран.
Идя на соглашение с европейскими кабинетами, российские власти умышленно избегали переговоров с Францией, ориентируясь лишь на союз с Великобританией. Известны самые нелестные отзывы Николая I о Луи-Филиппе как о «короле баррикад». «Отношения наши с тюильрийским двором ныне как бы вовсе не существуют. Государь не доверят прочности существования во Франции порядка вещей», – писал Бруннов[374]. Русско-французское противостояние отвечало интересам сент-джеймского кабинета: англичан пугала возможность союза между этими державами. Распад Османской империи, по мнению Лондона, повлек бы ее раздел на два государства, и в Египте и Сирии господствовала бы Франция, а в европейской Турции – Россия. Известна речь Гизо во французской палате депутатов 20 июня (2 июля) 1839 г., в которой он заявил: «Как ни желательно поддержать целостность Османской империи, это невозможно, поэтому нужно способствовать естественному отделению от нее составных частей, отпадающих сами собою, как камни от ветхого здания. Желательно, чтобы части эти не доставались соседям, а образовали новые, вполне самостоятельные государства, призванные занять место Османской империи в системе равновесия Европы»[375]. Пользуясь преобладающим влиянием в Греции и Египте, Франция могла рассчитывать на его сохранение и в новых государствах. Россия, в свою очередь, как официальная покровительница православного населения Турции, могла быть заинтересована в образовании независимых славянских государств – Сербии, Черногории и Дунайских княжеств. Однако российские власти никогда не выступали публично с подобными предложениями, постоянно подчеркивая стремление сохранить нерушимость османских владений. В то же время очевидным является тот факт, что каждая из этих держав имела строго очерченную область влияния во владениях султана. Но поскольку Николай I занял по отношению к Франции непримиримую позицию, Англия получила возможность манипулировать русско-французскими отношениями в своих интересах, играя на противоречиях между этими странами и препятствуя их взаимному сближению.
В начале сентября 1839 г. барон Бруннов прибыл в Лондон со специальным поручением. Он должен был представить свой вариант европейского соглашения по турецко-египетскому урегулированию. Исходя из условий российского МИД, «морские державы» должны были отказаться от мысли об общем ручательстве за целостность Османской империи, поскольку этот вопрос по-прежнему остается в компетенции двух причерномор ских империй. Державы должны были признать закрытость Босфора и Дарданелл как в мирное, так и в военное время, что в целом отвечало интересам России. Следующим условием российского правительства было требование не вводить англо-французский флот в Мраморное море одновременно с появлением русских морских сил у стен Константинополя. Россия будет выполнять на Босфоре миссию от имени объединенных сил – лишь на такие «коллективные» действия был готов петербургский кабинет. В этом случае, даже подчиняя свой флот «общим» интересам держав, Россия удерживала за собой право действовать на Босфоре без реального участия их морских сил.
В ответ на согласие Англии с выдвинутыми условиями российский кабинет обязывался отказаться от Ункяр – Искелессийского договора. Таким образом, план, с которым Бруннов прибыл в Лондон, вполне отвечал намерению Нессельроде заменить соглашение 1833 г. общим договором, не потеряв его выгод.
«История эта описывалась много раз, но некоторые ее узлы трудно распутать и по сей день», – пишет Ч. Вебстер[376]. Все исследователи едины во мнении, что англичане были «изумлены» предложениями Бруннова. Пальмерстон считал, что следует воспользоваться расположением России, для того чтобы «ввести оттоманский вопрос в европейское народное право. Для всех нас, – признавался он, – будет великою выгодой уничтожить без борьбы этот исключительный протекторат»[377]. Ему вторил Меттерних: «Настоящее затруднение… лежит между Парижем и Лондоном, ибо Россия – наша»[378]. В то же время было очевидно, что российское правительство отказывалось от своих преимуществ небескорыстно: выдвинутые им условия должны были восполнить некоторые неизбежные потери. Однако ни одно из предложений Бруннова не было принято: англичане, почувствовав готовность российской дипломатии пойти навстречу, начали «торги», в результате которых первая редакция будущей Лондонской конвенции претерпела существенные изменения.
Прежде всего Пальмерстон постарался использовать русско-французские противоречия. Безусловно, самолюбию Николая I льстило устранение Луи-Филиппа от общего соглашения по делам Востока. Однако, как показали дальнейшие события, отсутствие подписи французского представителя под текстом первой Лондонской конвенции явилось скорее следствием англо-французских противоречий относительно широты представляемых Мухаммеду Али властных полномочий, чем успехом русской дипломатии. Выдвигаемый тезис о закрытии Проливов, который провозглашался «общим началом публичного права Европы», был невыгоден России уже в силу того, что не предусматривал устранения нечерноморских держав от решения вопроса, подлежавшего компетенции исключительно России и Османской империи. По мнению В. А. Георгиева, само предложение о закрытии Проливов для военных судов всех государств исходило непосредственно от Бруннова. Автор подробного исследования о ближневосточном кризисе дает весьма нелестную характеристику этому политическому деятелю как англофилу, стороннику космополитической доктрины «европейского равновесия», взгляды которого были лишены национального содержания[379]. Постепенно уступая в переговорах с Пальмерстоном по всем принципиально важным для интересов России пунктам, составляя все новые варианты проекта договора, он, казалось, учитывал более интересы Англии, чем России. Наряду с другими факторами, неблагоприятными для развития ситуации, позиция Бруннова, безусловно, оказала негативное влияние на весь ход переговоров.
О том, что закрытие Проливов было выгодно прежде всего Англии, свидетельствует, в частности, следующий эпизод. Когда Пальмерстон обратился к герцогу Веллингтону с вопросом, к открытию или закрытию Проливов вести дело, тот ответил: «К закрытию; мы в этих странах слишком отдалены от своих запасов, а у России они под рукой»[380]. Пальмерстон согласился с этой точкой зрения, но в переговорах с российским представителем лукавил, говоря: «Но что мы выиграем, если прорвемся через пролив и даже выйдем в Черное море? Все-таки мы всегда должны будем выйти из него. Следовательно, что нам обоим взаимно может быть полезно, это закрытие обоих проливов навсегда»[381]. В то же время, признавая влияние России в Турции «естественным и законным», Пальмерстон соглашался с тем, что «оно зависит от… географического положения» нашей страны. Правда, в переговорах с российским представителем англичане не акцентировали внимание на этой стороне проблемы.
Таким образом, привезя в Лондон предложения об условиях договора, максимально отвечавшего в данных сложившихся условиях интересам России, Бруннов пошел на поводу английских политиков. Пальмерстон настаивал на введении английского флота в Дарданеллы и Мраморное море одновременно с появлением русских судов в Босфоре. По этому пункту Бруннов уступил. Затем он снял возражения по количеству вводимых англичанами военных судов, не ограничивая их числа. И, наконец, российский представитель согласился с формулировкой о закрытии Проливов только в мирное, а не в военное время, как предполагалось поначалу. Этот ряд уступок привел фактически к тому, что закрытие Проливов превращалось в ловушку для русского флота[382].
3 (15) июля 1840 г. после 10-месячных интенсивных переговоров представителями России, Великобритании, Австрии, Пруссии – с одной стороны, и Османской империей – с другой, был подписан акт о соглашении между Турцией и Египтом. Так называемая Лондонская конвенция состояла из самого текста конвенции, секретного протокола и двух особых протоколов. По ст. III конвенции державы обязались защищать турецкую столицу по просьбе султана: «Высокие договаривающиеся стороны… согласились принять приглашение сего государя и озаботиться защитой его престола посредством сообща условленных совместных действий с целью ограждения от всякого нападения обоих Проливов, Босфорского и Дарданелльского, равно как и столицы Оттоманской империи»[383]. В ст. IV имелось продолжение вышеприведенного положения: «Эта мера не будет ни в коем отношении отменять старого правила Оттоманской империи, в силу которого военным судам иностранных держав во все времена запрещалось входить в Дарданелльский и Босфорский проливы. Султан… имеет твердую решимость сохранять на будущее время это начало, неотменно установленное как древнее правило его империи, и, пока Порта находится в мире, не допускать никакого военного иностранного судна в проливы Дарданелльский и Босфорский»[384].
Таким образом, эти статьи устанавливали новые принципы решения Восточного вопроса. Вместо двустороннего русско-турецкого соглашения в международное право вводилось понятие коллективной гарантии держав по поддержанию существования Турции. Проливы закрывались для флотов всех стран только в мирное время. Это решение имеет два аспекта. Во-первых, закрытие обоих Проливов не было выгодно России, имевшей самую непосредственную заинтересованность в свободном выходе из Черного моря. Россия, безусловно, стремилась к закрытию Дарданелл для неприятельских военных судов, но проблему Босфора она предпочла бы оговорить отдельно. Во-вторых, закрытие Проливов только в мирное время не гарантировало безопасности российского побережья во время войны. По словам Ч. Вебстера, «проливы будут закрыты, пока султан находится в состоянии мира, но не всегда, когда он воюет»[385]. Наконец, провозглашая закрытость Босфора и Дарданелл, «древним правилом» султана, конвенция ущемляла права Порты закрывать и открывать Проливы по собственному желанию, как это практиковалось прежде, подчиняла их режим международному соглашению. Конвенция, по существу, попирала права наиболее заинтересованных держав – России и Османской империи. В ближайшей исторической перспективе конвенция вела к ослаблению русского влияния в Турции и, что было особенно важно, в ее балканских провинциях, населенных православными христианами[386]. Она, вкупе с соглашением 1841 г., послужила прелюдией конфликта начала 50-х гг.[387]
В Петербурге, однако, считали Лондонскую конвенцию первым шагом к восстановлению Шомонского союза 1814 г., направленного против революционной Франции. В действительности, исключение Июльской монархии из европейского концерта стало следствием англо-французских противоречий, к тому же носило временный характер. Безусловной победительницей в этой сложной политической игре стала английская дипломатия. Она добилась отмены Ункяр-Искелессийского договора, изоляции Франции в Европе и ослабления ее позиций на Ближнем Востоке. Все это ясно осознавали европейские политики. Министр иностранных дел Франции Ф. Гизо писал Н. Д. Киселеву о конвенции 1840 г.: «То была ваша капитальная ошибка. Дабы изолировать, дабы ослабить правительство Людовика-Филиппа, вы отложили в сторону вашу традиционную политику, заключавшуюся в том, чтобы вести самостоятельно ваши дела в Турции, без постороннего участия, без соглашения с кем бы то ни было. Вы сами перенесли эти дела в Лондон и договором 15 июля 1840 года собственными руками обратили их в общее дело Европы»[388].
После подписания конвенции Англия взяла инициативу по урегулированию турецко-египетского кризиса в свои руки. Россия не была приглашена участвовать в военных действиях, и это было сделано намеренно. Войска Ибрагима потерпели поражение, и Мухаммед Али вынужден был согласиться лишь на наследственное владение Египтом. Франции было предложено смириться с поражением своего союзника в обмен на приглашение участвовать в общих переговорах. Российское правительство попыталось помешать присоединению Франции к коалиции держав: Бруннов получил инструкции во что бы то ни стало изолировать Францию, но сделать этого не удалось. Новое соглашение о Проливах с участием Франции было подписано 13 июля 1841 г. По существу, оно почти повторяло предыдущее соглашение.
Итак, Россия оказалась в явном проигрыше: изолировать Францию не удалось, Проливы были закрыты для русского военного флота, безопасность черноморского побережья находилась под угрозой. Тем не менее российские политики стремились «сохранить лицо» при явном проигрыше, а Нессельроде даже выступил с заявлениями, в которых пытался представить Англию проигравшей стороной[389]. В современной зарубежной и отечественной историографии иногда высказывается точка зрения о выгодности для России условий конвенций 1840 и 1841 гг.[390] Опровергнуть это утверждение помогают не столько приводимые аргументы, сколько дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке и в Турции, что является высшим критерием исторической достоверности.
Потеря позиций в Османской империи не могла не сказаться на взаимоотношениях России с православными подданными Турции. «Не менее важным результатом европейского вмешательства было ослабление нашего политического влияния на Балканах», – писал С. Жигарев[391]. Порта все успешнее играла роль посредника во внутриполитических конфликтах Сербского княжества, взяв на себя обязанности, ранее выполнявшиеся российскими представителями. Именно на турецкую поддержку ориентировались сербские заговорщики, планируя переворот 1842 г. Не случайно именно в Константинополе нашли приют представители оппозиции, будучи высланными из княжества. Среди сербских политиков усилились тенденции к ориентации на другие европейские державы помимо России. В сербских политических кругах большое распространение получило мнение о своекорыстной политике российского правительства на Балканах, об использовании им освободительного движения южнославянских народов в своих, сугубо прагматических целях. Взоры сербских политиков, среди которых оставалось все меньше приверженцев русской ориентации, устремлялись на Запад. Усиление этого процесса в 40-х гг. можно отнести к одному из негативных последствий недальновидной и проигрышной политики России на Ближнем Востоке в конце 30-х – начале 40-х гг. XIX в.
Сербские историки полагают, что новая фаза обострения Восточного вопроса в конце 30-х гг. ввела Сербию в круг борьбы великих держав за влияние на Порту и Балканы[392]. Хотелось бы при этом отметить, что и в предыдущие десятилетия Сербия была ареной борьбы Англии, Австрии и России за влияние в этой провинции Османской империи. Открытие консульств в Белграде лишний раз свидетельствует об этом. Ближневосточный кризис четко обозначил те центры, где сталкивались интересы ведущих европейских держав. Для России, ослабившей свое политическое присутствие в регионе, усиление борьбы европейских держав за преобладание в Турции не сулило благоприятных перспектив. Она вынуждена была постепенно уступать свои казавшиеся незыблемыми позиции тем, кто в силу своего экономического превосходства имел открытый доступ на турецкие рынки. Вместе с импортными товарами сюда проникали новые знания и идеи, служившие примером для либерально настроенных слоев сербского общества. Престиж Европы возрос, и она стала осваивать роль покровительницы турецких христиан[393]. В целом же как внешнеполитические успехи России в Османской империи в 20-х – начале 30-х гг. XIX в., так и просчеты конца 30-х гг. нашли свое отражение в развитии русско-южнославянских и, в частности, русско-сербских отношений.
2. Россия и сербский кризис 1842–1843 гг.
В течение девяти месяцев после отречения Милоша Обреновича Сербией управляло наместничество в составе трех человек: А. Петрониевича, Т. Вучича-Перишича и Е. Обреновича. Когда князь Михаил прибыл из-за границы, двое из них были назначены советниками. Лидеры уставобранительского движения сумели воплотить в жизнь некоторые преобразования – Совет из 17 человек стал одним из органов власти в стране.
В период правления Михаила Обреновича политическое влияние России в Сербии оставалось доминирующим. Консул Г. В. Ващенко занимал центральное место среди дипломатических представителей западноевропейских держав. Князь Михаил нуждался в поддержке России из-за растущего авторитета уставобранителей, и его политика находила понимание российских властей[394].
Лидеры оппозиции, в свою очередь, отчетливо понимали, что, пока у власти находится представитель династии Обреновичей, их влияние в Сербии будет ограниченным. Ближайшей их целью стала смена династии в княжестве. Уже через год после вступления в должность советников Петрониевич и Вучич подали в отставку, мотивируя свой шаг якобы «злоумышленными действиями» князя, направленными против них[395]. Противоречия Михаила и оппозиции привели к высылке лидеров движения из Сербии летом 1840 г. Этому наказанию подверглись девять человек: из княжества были удалены Тома Вучич-Перишич, Авраам Петрониевич, Стоян Симич, Лазар Феодорович, Матвей Ненадович, Стефан Стефанович, Милутин, Лука и Илия Гарашанины[396].
Казалось бы, обезглавленное движение уже не представляло большой угрозы для власти Михаила. Однако неожиданную поддержку уставобранители получили с той стороны, откуда меньше всего ожидали, – им на помощь пришли российские власти. Уже в январе 1841 г. Ващенко предложил князю вернуть его главных противников обратно в княжество и назначить каждому из них пенсию. Михаил, ссылаясь на возражения членов Совета, отверг это предложение и объяснил свою позицию в письме российскому повереннному в делах В. П. Титову, заменявшему в Константинополе находившегося в отпуске Бутенева[397]. Отрицательный ответ князя был передан также и российскому консулу в Белграде, который первым выступил с таким неожиданным предложением. Что же заставило Ващенко хлопотать об амнистии для заговорщиков?
На какое-то время в Сербии возобладала партия приверженцев старой власти, требовавших удаления из княжества уставобранителей и возвращения князя Милоша. Бежавшие в Видин и Константинополь приверженцы Устава нашли поддержку в лице российского представителя в турецкой столице. Согласно инструкциям, полученным из Петербурга, Титов должен был писать князю о желательности возвращения оппозиционеров в Сербию[398]. Такого же мнения придерживалось и турецкое правительство. Межпартийные распри в Сербии вносили нестабильность во внутриполитическую жизнь не только самого княжества, но и всей Османской империи, постоянно привлекая пристальное внимание европейских представителей, выступавших в поддержку той или иной политической группировки. Традиционное желание российского двора «умиротворить» Сербию в очередной раз возобладало над всеми остальными политическими расчетами.
Поскольку позиция России по вопросу о высланных из Сербии деятелях оппозиции не изменилась, на уступки пришлось пойти сербскому князю. Уже в январе 1841 г. он отправил Ващенко письмо, в котором сообщал условия своего согласия на возвращение уставобранителей и назначение им пенсий. Исключение составили Т. Вучич, С. Симич и Милутин Гарашанин как наиболее опасные возмутители спокойствия[399]. Они должны были, по мнению князя, еще некоторое время находиться вне княжества.
Проживавший в Константинополе флигель-адъютант Николая I барон В. К. Ливен, присланный туда по египетским делам, получил распоряжение выехать в Сербию. Его миссия заключалась в примирении князя с оппозиционерами. 10 марта он прибыл в Крагуевац «при громе пушек, под звуки военной музыки»[400]. Ему удалось убедить князя в необходимости возвращения на родину уставобранителей и неуместности характеристики этого действия как «амнистии», поскольку выехавшие не являлись преступниками по суду.
24 марта была издана «Прокламация», в которой объявлялось о решении князя возвратить сербов, находящихся вне княжества[401]. Однако одного княжеского разрешения оказалось недостаточно для урегулирования этого конфликта. Находившаяся в Видине группа, численностью 55 человек, обратилась к Гуссейн-паше с письмом, в котором сербы гневно отвергали оскорбительную для них милость Михаила. «На призыв князя, – говорилось в письме, – назад ни один не вернемся». Сербы отказывались от высланных им денег на путевые расходы, указывая на то, что лишь признание их политических взглядов может стать условием возвращения на родину. «Мы за деньги никуда не пойдем, – пишут они, – а только за правду и введение Устава»[402].
Несмотря на заступничество российских представителей, в рядах уставобранителей преобладали антирусские настроения. В сербских газетах появилось немало публикаций, явно подготовленных оппозиционерами. В одной из них говорилось, что Россия использует Сербию в своих планах борьбы с Турцией, в результате чего княжество «имеет вместо одного двух господарей, и если когда-либо будет поднят вопрос о сербской самостоятельности, то для Сербии легче будет освободиться от турецкого ига, чем от русской приязни»[403].
Безусловно, нельзя было надеяться, что оппозиция прекратит свою деятельность после возвращения в Сербию. Так и произошло. Все те же лидеры – Вучич и Петрониевич – возглавили новый заговор против Михаила. В результате вооруженных действий повстанцев в ходе так называемой Вучичевой буны князь был вынужден 7 сентября 1842 г. бежать в Землин. Российский консул счел своим долгом остаться советником князя в его изгнании. Ващенко был убежден, что с отъездом князя русскому влиянию в Сербии нанесен значительный ущерб. Несмотря на то что представители всех западных держав выразили свой протест против неправомерных действий оппозиции, Джамиль-паша встал на сторону восставших. Он заявил, что только Ващенко имеет право вмешиваться в политическую жизнь Сербии, а остальные консулы являются лишь торговыми агентами и не имеют права голоса в решении подобных проблем[404].
Российский консул получил указания Титова не признавать законности совершившегося в Сербии переворота. В то же время Порта не высказала своего недовольства переменами в княжестве и нашла в этом поддержку со стороны Великобритании. Английский посол в турецкой столице Стрэтфорд-Каннинг одобрил действия оппозиции, а также ту благожелательную позицию, которую заняло османское правительство в отношении всего происходящего в Сербии. Он оценил ситуацию как попытку Порты освободиться от доминирующего присутствия России в этом регионе империи.
1 сентября скупщина, собранная под Белградом, избрала князем Александра Карагеоргиевича. Уставобранители остановили свой выбор на сыне легендарного сербского героя, поскольку само его имя внушало народу мысль о легитимности сделанного выбора. Героические черты отца невольно приписывались сыну. Оппозиция имела свои причины для выбора именно этой кандидатуры. «Всем известно, что выбор в князья сына Карагеоргия не был следствием народного убеждения, – доносил в Петербург российский консул Д. Левшин. – Пал выбор на бедного адъютанта свергнутого князя, лицо, в имени которого выражалась идея некоторого роду законности, долженствовавшей согласовать все мнения… служить оправданием его выбора в глазах России и Порты. Кроме того, многие свойства Александра Карагеоргиевича успокаивали всех насчет будущего его княжения: его скромность нрава и ограниченность ума ручались за его ничтожество в делах правления, а это ничтожество… и было предметом тайных желаний главных старейшин, из которых каждый, а Вучич в особенности, надеялся им воспользоваться для того, чтобы самому властвовать в крае»[405]. Не имея самостоятельных политических планов, новый князь послужил лишь ширмой для реального прихода к власти уставобранителей в лице их вождей – Вучича и Петрониевича, которые, по словам Ливена, и являлись настоящими князьями Сербии.
Тома (или Фома) Вучич-Перишич представлял собой одну из наиболее колоритных фигур среди вождей уставобранительского движения. В прошлом верный соратник Милоша Обреновича, он еще при его власти часто подвергался наказаниям со стороны князя за необузданный нрав и самовольные действия. Будучи богатейшим предпринимателем края, он тем не менее пользовался поддержкой и уважением простого народа, перед которым умел предстать радетелем его интересов. Его речи, произносимые на многолюдных собраниях и скупщинах, живые и доходчивые, всегда имели успех у собравшихся. По мнению С. Йовановича, давшего характеристику всем наиболее значительным личностям эпохи, Вучич сделал для становления уставобранительского движения больше, чем его соратники – Гарашанин или Петрониевич[406]. В то же время в политической системе, установленной новой властью, не Вучич играл первую скрипку; ему скорее принадлежала роль ее защитника и стража. Жестокость, с которой он подавлял движения недовольных, мало отличалась от средневековых методов усмирения, применяемых турецкими властями.
Российское правительство крайне отрицательно отнеслось к переменам в Сербии. Во-первых, в лице Михаила Россия лишилась поддержки в высших кругах сербского руководства. Во-вторых, сама форма смены власти, в виде вооруженного восстания, не могла не вызвать протеста российских политиков. В течение многих лет основным стремлением России было поддержание спокойствия на Балканах; она резко осуждала все проявления, на ее взгляд, революционных выступлений южнославянских народов. Часто это происходило в ущерб влиянию самой России, которая придерживалась принципа «законности» установленной власти и нежелательности любых политических перемен в Балканском регионе. Все планы политического переустройства Османской империи, время от времени появлявшиеся в кругах деятелей культуры и политики, не находили поддержки государственных властей России и не выходили за рамки неосуществимых проектов. Наконец, отрицательное отношение к смене власти в Сербии было связано с тем, что за фасадом правления Александра Карагеоргиевича стояли все те же оппозиционеры, получившие возможность осуществить свою программу и не отводившие России той роли, которую она играла в княжестве на протяжении всех предыдущих лет.
Узнав о событиях в Сербии, в столицу Турции срочно прибыл Бутенев. К тому времени он, после десятилетней службы на посту посланника в Константинополе, получил назначение в Рим. Однако Бутенев счел необходимым лично присутствовать в турецкой столице, поскольку, пользуясь заслуженным авторитетом у османских властей и хорошо владея всей информацией о делах в Сербском княжестве, рассчитывал повлиять на ход событий. На встрече с министрами Порты Бутенев заявил, что в Сербии произошла настоящая революция и Россия, следуя своим политическим принципам, считает необходимым вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить нежелательного распространения пагубного примера, поданного сербами[407]. Несмотря на сделанные предостережения, в сентябре 1842 г. Порта прислала в Сербию берат, утверждающий княжеское достоинство Александра Карагеоргиевича. Было сформировано новое правительство, в котором Вучич занял пост попечителя внутренних дел, а Петрониевич возглавил внешнеполитическое ведомство. Все ключевые места в правительстве принадлежали уставобранителям. Лидеры движения не скрывали своей внешнеполитической ориентации – в Сербии резко возросло влияние австрийского консула и прибывшего в Землин австрийского генерала Гауера. Частые посещения белградского паши и тесные контакты с Вучичем и Петрониевичем заставляли подозревать генерала в антирусской деятельности. Как выяснилось, Гауер проявлял личную инициативу в этом направлении и вел дела без определенных инструкций своего правительства, за что и был отозван из Землина[408].
Значительно улучшились отношения сербских властей с турецкой администрацией. Стремление Порты ослабить русское влияние в княжестве нашло наконец поддержку самих сербских подданных в лице лидеров одержавшего победу уставобранительского движения. Правда, его вожди чувствовали некоторую неловкость, когда сталкивались с недоумением народа по поводу охлаждения сербско-русских отношений и конфликта с российским консулом. А конфликт становился все более очевидным даже для непосвященных: во время народных празднеств по случаю утверждения Александра Карагеоргиевича князем российский консул не только не принял в них участия, но и демонстративно не вывесил флага на здании консульства.
Российское правительство заняло принципиальную позицию – оно считало выборы нового князя незаконными. Не входя в объяснения с сербскими властями, Николай I направил султану письмо, где попытался представить его жертвой заговора и обмана. Император утверждал, что не вступит в переговоры с «бунтовщиками» и не признает законности произошедших в Сербии перемен[409]. Той же осенью в Белград и Константинополь был командирован барон В. К. Ливен в качестве чрезвычайного комиссара по сербским делам.
Обращение российских властей к Порте не принесло желаемого результата. Более того, оно продемонстрировало крайнюю недальновидность петербургского кабинета, не желавшего считаться с тем фактом, что все события в Сербии произошли при прямой поддержке османского правительства.
Выступая пособниками оппозиции, турецкие власти преследовали несколько целей: во-первых, Россия теряла свои позиции в Сербии, а во-вторых, Порта освобождалась от Михаила Обреновича, правлением которого была недовольна. Ему ставилась в вину поддержка антитурецких выступлений в Боснии и Герцеговине, помощь Нишскому восстанию 1841 г Порта не скрывала своей заинтересованности в смене власти в Сербии. Турецкий паша в Белграде принимал непосредственное участие в подготовке переворота – именно он вместе с уставобранителями составил план, по которому должны были развернуться события в Белграде.
В отличие от российских австрийские власти были лучше информированы о событиях и отчетливо понимали, что смена династии в Сербии произошла при поддержке Порты. Поэтому, когда Ливен перед отъездом в Сербию посетил Вену, австрийский канцлер советовал ему рассматривать события в Сербии как свершившийся факт. Меттерних, впрочем, также назвал переворот незаконным и даже осудил его, но в то же время советовал Николаю I смириться с ним. Он предложил свой путь решения проблемы – высказал мысль о том, что положение в Сербии будет спокойнее, если из нее уедут все представители великих держав – кроме австрийского[410]. С их отъездом должны прекратиться все несогласия, касавшиеся княжества и имевшие слишком негативный отзвук в сербском обществе, отвечавшем открытыми бунтами. Ливен не имел полномочий на решение такого рода вопросов, к тому же было ясно, что они заведомо неприемлемы для Петербурга. Он продолжил путь в Сербию и 24 ноября прибыл в Землин, а 28-го – в Белград. Никто не ждал Ливена в княжестве – торжественной встречи он не удостоился. Императорский представитель вступил в переговоры с белградским пашой, намеренно избегая прямых контактов с сербской оппозицией, а позже лишь в присутствии турецких представителей имел беседы с Вучичем и Петрониевичем[411]. 23 декабря Ливен прибыл в Константинополь, где начал переговоры с османским правительством. Темой их стало положение в Сербии. Поскольку для турецких министров темы для дискуссии как бы и не существовало, переговоры в течение нескольких месяцев не сдвинулись с мертвой точки. Россия настаивала на созыве новой скупщины в Сербии и законном избрании нового князя. Но даже и на эти достаточно мягкие требования, которые позволили бы России «сохранить лицо» в неприятной для нее ситуации, Порта не соглашалась. 1 апреля 1843 г. Бутенев в Константинополе получил следующие инструкции: Россия остается при своем мнении – новый князь в Сербии должен быть переизбран законным путем. В противном случае речь шла о прекращении отношений с Портой.
Надо сказать, что обострение отношений с Османской империей происходило в неблагоприятной для России международной обстановке: западные правительства явно поддерживали Турцию. Франция даже попыталась созвать конференцию великих держав по сербскому вопросу, которой удалось избежать вследствие противоречий между европейскими державами. Одним из пунктов этих разногласий было вмешательство в сербские дела польских эмигрантов, отношение к которым у западных правительств было неоднозначным. Если Франция предоставила им официальное убежище и поддерживала их деятельность на Балканах, то австрийские власти относились к польской эмиграции крайне негативно. После польского восстания 1830–1831 гг. его лидеры и участники оказались во Франции, ряде балканских провинций Турции и в Константинополе. Главным эмиссаром польской эмиграции в Юго-Восточной Европе стал М. Чайковский[412]. Между ним и вождями уставобранителей установились тесные связи. В Белград был послан агент польской эмиграции Людвиг Зверковский (принявший фамилию Ленуар), который был секретарем Чайковского в Константинополе. Ленуар прямо предлагал оппозиционерам покончить с русским влиянием в Сербии, ориентируясь на помощь западных держав. Эти тезисы находили отклик среди «защитников Устава», искавших новую опору во внешнем мире. По воспоминаниям Чайковского, в Константинополе в это время проживала «масса поляков», скрывавшихся под мусульманскими и французскими именами[413]. Так, сам Чайковский носил имя Мехмет-Садык-паши. Польские эмигранты делали ставку на развертывание национального движения на Балканах, один из важнейших центров которого они видели в Сербии в связи с крайне неустойчивой внутренней ситуацией в княжестве. Одной из основных целей поляков было нанесение ущерба авторитету России в Сербии, дискредитация ее политики в этом регионе. Найдя поддержку и прибежище во Франции, польские эмигранты ориентировали сербских политиков на помощь именно этой страны. Их пропаганда имела успех среди определенной части сербской знати, которая положительно воспринимала идеи демократического развития страны по западному образцу. А. Петрониевич в газетной статье обвинял Россию в своекорыстии, отмечая, что «Сербия не обязалась состоять под вечным покровительством какого-либо одного двора; само собою разумеется, что Сербия в случае надобности может искать защиты у какого угодно независимого двора, и даже не одного только, а одновременно у многих»[414].
Общее антирусское настроение уставобранителей заставило российское правительство проявить ответную инициативу. Нессельроде отправил Ливену инструкцию, предписывая выдвинуть требование об удалении лидеров движения – Вучича и Петрониевича – из княжества. Лишь при этом условии российский кабинет согласился бы с выбором нового князя. Продолжая настаивать на том, что султан стал жертвой обмана, император выражал готовность поддержать его авторитет присылкой 20-тысячного корпуса[415]. Был даже разработан маршрут его движения: он проходил через Австрию. Российские власти запрашивали австрийского посла в Петербурге не только о возможности продвижения войск по территории страны, но и об усилении его австрийской дивизией. Все это свидетельствует о реальных намерениях российского двора покончить с разрушительной для России деятельностью сербской оппозиции в лице ее лидеров. За Вучичем и Петрониевичем стояли поляки-эмигранты и Франция, которые оказывали свое влияние не только на определенную часть сербского общества, но и на Порту, пытавшуюся извлечь выгоду из сложившейся ситуации для вытеснения России из региона ее традиционного влияния.
Неожиданно ситуацию разрядил сам князь Александр. В апреле он отправил Порте просьбу об отставке, что было сохранено в тайне от дипломатического корпуса. Консулы великих держав в Белграде узнали об этом лишь 20 мая, а дипломатические представители в Константинополе – 25 мая. Отставка означала согласие князя на новые и, по мнению России, законные выборы. Это было сделано с целью прекратить затянувшийся конфликт с российскими властями. На Видов дан, 15 июня, была созвана новая скупщина. С российской стороны на ней присутствовали барон Ливен и российский консул. После повторного переизбрания князем Александра Карагеоргиевича Россия официально признала законность его власти в стране. Лишь одно условие оставалось неизменным – удаление из княжества лидеров оппозиции. Их присутствию в Сербии придавалось особое значение, поскольку именно в нем виделась основная причина нестабильности в стране и враждебного отношения к России. Многочисленные просьбы сербских властей о заступничестве за своих лидеров результатов не принесли. 19 августа 1843 г., спустя год после поднятого ими восстания против Михаила Обреновича, Вучич и Петрониевич отправились в Видин. Решение об их выезде было принято на специальной скупщине под давлением российских властей. Только после их отъезда был получен турецкий берат о подтверждении выбора князем Александра Карагеоргиевича. В документе ничего не говорилось о наследственных правах его семьи.
Лишь после повторных выборов Николай I пошел на восстановление дипломатических отношений с Белградом. Александр получил официальное поздравление императора. Позже было получено согласие на то, чтобы князь носил титул «светлости»[416], а в 1846 г. Александру был пожалован орден Св. Анны I степени[417]. По поводу последнего события в Белграде был устроен праздник – торжественное вручение ордена, прием, салют из пушек и всенародное гулянье[418]. Как в прежние годы, на торжественной службе в соборе звучало «многия лета» русскому императору. В своем докладе в Петербург российский консул специально отмечал тот факт, что ни английский, ни французский представители не присутствовали на торжестве по причинам «небезызвестным»[419].
Пользуясь достаточно продолжительным охлаждением отношений между Россией и Сербией, Австрия попыталась извлечь из этого максимальную выгоду. В свое время Меттерних уже выдвигал идею упразднения консульств в Белграде, чтобы не провоцировать народные выступления в пользу одной или другой княжеской группировки, пользующейся поддержкой определенного государства. Тогда эта идея не получила отклика российского представителя. В июле 1843 г. австрийский канцлер выступил с новой инициативой – в Сербию был прислан мемуар, в котором говорилось, что Австрия, как ближайшая соседка Сербии, имеет там наиболее значительные торговые интересы, а потому и более тесные отношения с княжеством. Эти отношения не могут идти ни в какое сравнение с сербскими связями с другими европейскими державами. Лишь Россия в силу заключенных с Турцией договоров имеет право вмешиваться в сербские дела. Однако по мере благоустройства внутреннего положения в княжестве его руководство все менее будет нуждаться в посредничестве России, тогда как сербско-австрийские связи останутся неизменными[420].
Эта новая инициатива, высказанная в мемуаре, свидетельствовала о том, что австрийское правительство спешило занять освобождающееся место ближайшего друга Сербии. Англия и Франция при этом в расчет не принимались, как державы, не имевшие достаточно устойчивых политических или экономических позиций в княжестве. Улучшение русско-сербских отношений в 1843 г. не позволило австрийским амбициям получить свое дальнейшее развитие, но они в очередной раз были обозначены с большой определенностью.
В мае 1843 г. Ващенко был назначен на место генерального консула в Бухаресте, сменив там Дашкова. Вместо него в Белград прибыл Г. И. Данилевский. С его деятельностью связана некоторая стабилизация русско-сербских взаимоотношений. В составе сербского руководства всегда оставались приверженцы русской ориентации внешней политики княжества. Среди них были такие представители местной знати, как Ст. Стефанович-Тенка, П. Станишич, Ст. Стоянович. Их влияние на правящие круги не было тогда решающим, но именно на их поддержку опирались русские консулы в Белграде. 16 июня Данилевский передал князю письмо Нессельроде, в котором тот сообщал, что император не поощряет возвращения лидеров уставобранителей в Сербию, поскольку они имеют тесные связи с польскими заговорщиками. К тому же их удаление служит гарантией поддержания мира и спокойствия в княжестве, и князь имеет возможность проводить самостоятельную политику, не подпадая под их влияние. Эти рекомендации Николай I подкреплял ссылкой также и на волю султана. Российское руководство, несомненно, было заинтересовано в том, чтобы слабый и несамостоятельный князь был ориентирован на Россию, чего не позволили бы ему сделать лидеры оппозиции в случае их присутствия в Сербии. Петербургский кабинет пытался вернуть себе прежнее влияние в княжестве, опираясь на своих приверженцев в Совете и на самого князя.
Кризис княжеской власти в Сербии 1842–1843 гг. одновременно обозначил и кризис в русско-сербских отношениях в целом. Завершившись с переизбранием Александра Карагеоргиевича, он привел лишь к временному сближению между Россией и Сербией. События со всей очевидностью показали, что Россия не намерена мириться с победой уставобранителей в Сербии и они не могут рассчитывать на изменение позиции российского руководства. Связь лидеров оппозиции с польской эмиграцией вызвала резко отрицательную реакцию российских властей. Растущее влияние поляков угрожало России потерей уже завоеванных позиций на Балканах.
События кризиса 1842–1843 гг. выявляют еще одну любопытную закономерность. Российские власти, выступив в 1840 г. в качестве защитников уставобранителей, высланных из княжества Михаилом Обреновичем, по существу способствовали их усилению в Сербии в последующие годы. Опасаясь любой нестабильности, ведущей к открытым выступлениям против законной власти, петербургский кабинет невольно способствовал укреплению оппозиционных сил. Позже, когда кризис стал реальностью, российское правительство уже не нашло достаточных ресурсов, для того чтобы противостоять их политике, и вынуждено было смириться с произошедшими в княжестве переменами, инспирировал ситуацию с повторными выборами князя.
Следует отметить, что западные державы не сумели извлечь выгоды из ситуации, явно сложившейся в их пользу, и не смогли существенно укрепить свои позиции в Сербии. Никакой решительной поддержки со стороны Англии или Франции уставобранители не получили. Великие державы оказались не в состоянии использовать обстоятельства кризиса 1842–1843 гг. и позволили событиям развиваться в сторону стабилизации русско-сербских отношений. Кризис привел даже к некоторому упрочению русского влияния, подорванного всем ходом антирусских выступлений предшествующих лет.
3. Внешнеполитическая программа сербского правительства («Начертание»)
К 1844 г. в Сербии складывается программа внешней политики княжества, которая, отвечая наиболее насущным требованиям времени, оставалась актуальной вплоть до создания в 1918 г. Государства Сербов, Хорватов и Словенцев (СХС). Говоря о Сербии периода Милоша Обреновича, нельзя с определенностью указать на существование какой-либо внешнеполитической концепции правительства. Впрочем, некоторые югославские историки склонны считать, что истоки объединительных идей надо искать именно в политике Обреновича. Так, сербский историк Р. Люшич, прослеживая генезис идей, положенных в основу «Начертания», приводит ряд фактов, говорящих о том, что внешнеполитические планы князя Милоша включали в себя положения о необходимости расширения Сербии за счет присоединения к ней ряда территорий Османской империи. Действительно, в 1839 г., незадолго до отречения Милоша, российский консул доносил в Константинополь А. П. Бутеневу, что князь «не оставляет и поныне видов своих на Боснию и Болгарию» и даже пытается получить в Австрии для них оружие[421]. Подобные мысли Милош высказывал и в частных беседах с французским графом Боа-ле-Контом[422]. Якобы Сербское государство должно было включать в себя Сербию, Боснию и Герцеговину, а также часть болгарских земель. На основании этих заявлений князя автор исследования делает вывод о том, что деятельность Милоша была направлена на создание национального госудаства, в котором смог бы воссоединиться весь сербский народ (при этом Милош никогда не говорил об австрийских сербах. – Е. К). При благоприятных обстоятельствах Милош не исключал возможности присоединения к этому государству и других южнославянских народов. Следует заметить, однако, что данные положения имеют весьма ограниченную документальную базу и никогда не были оформлены в виде целостной внешнеполитической программы.
Еще один югославский ученый, М. Экмечич, также отмечает, что именно Милош в 1833 г. вынашивал планы, легшие в основу знаменитого документа[423]. Уже покинув Сербию, он, по свидетельству Чайковского, в 1841 г. выражал надежду на объединение в будущем Сербии, Боснии, Болгарии, Герцеговины, Баната, Иллирии, Далмации и Черногории в южнославянское царство. Но эти планы высказывались уже после отречения князя и не налагали на него никаких обязательств.
Бесспорно, идея объединения не являлась чем-то принципиально новым в балканской общественно-политической мысли своего времени и уже получила достаточное распространение в более ранний период. Так, во время Наполеоновских войн и Первого сербского восстания многие из балканских славян жили надеждой на создание национальных государств[424]. Однако после признания Портой автономного статуса княжества и подтверждения наследственных прав семьи Обренович на сербский престол Милош не стремился менять что-либо в своих отношениях с османским правительством. Непостоянство его симпатий, приведшее в 1837 г. к смене прорусской ориентации на английскую, по существу не внесло ничего нового во внешнеполитическом плане. Сербия по-прежнему оставалась в составе Османской империи. Сербское правительство и князь Милош, склоняясь к поддержанию приоритетных отношений с той или иной державой, все же не мыслили этих отношений вне своей вассальной зависимости от турецких властей. Все преобразования во внутренней жизни княжества подлежали санкционированию со стороны Порты. Сербский князь не торопился вступить в открытую конфронтацию с ней, выдвигая требования окончательного освобождения княжества от османской зависимости: его вполне устраивало то положение, которое он занял в результате сложившихся сербско-турецких отношений.
В рядах же пришедших к власти уставобранителей идея южнославянского единства балканских народов получила достаточную популярность. Сербия стала осознавать себя в качестве естественного центра притяжения для болгар, черногорцев, боснийцев, взяв на себя роль своеобразного Пьемонта для балканских народов. По мнению югославского историка Д. Берича, объединительное движение на Балканах вокруг Сербского княжества стояло в ряду других европейских тенденций к объединению, важнейшими из которых были немецкое и итальянское движения[425]. Сербский центр стал формироваться вопреки давнишним опасениям европейских держав по поводу предстоящего распада Османской империи и возникновения на ее руинах множественных южнославянских государств. Вызревание идеи славянского единства не стало неожиданностью и для российских политиков, не раз активно обсуждавших тему «наследства больного человека», каковым, по их мнению, являлась Османская империя. В этих планах значительное место отводилось дискуссии по дальнейшей судьбе мелких славянских государств, которые могли бы возникнуть на территории балканской Турции. По мнению европейских политиков, они непременно должны были попасть под влияние тех или иных великих держав, приоритет среди которых принадлежал, безусловно, России и Австрии.
Внешнеполитическая программа Сербии, получившая название «Начертания», была создана видным государственным деятелем княжест ва, занимавшим на тот момент должность министра внутренних дел, Илией Гарашаниным, в 1844 г. Позже этот документ был представлен для ознакомления Александру Карагеоргиевичу и не предназначался для широкого общественного обсуждения. Российские власти, скорее всего, ничего не знали о документе, общая концепция которого носила ярко выраженный антирусский характер.
Активную роль в формировании внешнеполитических задач Сербского княжества сыграли деятели польской эмиграции, а именно Адам Чарторыйский и Франьо Зах. Принимая участие в разработке плана создания независимого славянского государства на Балканах, польские эмигранты в первую очередь преследовали свои узконациональные политические цели. Появление славянской державы на месте европейской Турции могло бы послужить положительным примером для объединения самих поляков, разобщенных под властью России, Пруссии и Австрии. В данной ситуации поляки и южные славяне были объединены общностью цели, которая заключалась в освобождении своих земель и образовании независимых национальных государств[426]. Лидер правого крыла польской эмиграции А. Чарторыйский был знаком с проблемой южных славян не понаслышке – еще в бытность свою министром иностранных дел России он принимал участие в выработке официальной концепции российского МИД по вопросу о разгоревшемся Первом сербском восстании. Обосновавшись в Париже, Чарторыйский составил в 1843 г. свои «Советы» (Conseils sur la conduite a suivre par la Serbie), которые были отправлены польскому агенту в Белграде Зверковскому (Ленуару)[427]. Перевод «Советов» с французского языка на сербский был сделан А. Петрониевичем[428]. Участник польского восстания 1830–1831 гг. чех Ф. Зах, сменивший Ленуара в Белграде, опираясь на текст «Советов», составил свой «План славянской политики Сербии». «План» отличался от «Советов» большей конкретностью, по скольку был подготовлен непосредственно в Сербии, с учетом особенностей здешней политической жизни. Будучи хорошо знакомым с Гарашаниным, Зах многократно обсуждал с ним различные положения, вошедшие затем в «План», более того, сам «План» был написан по просьбе сербского государственного деятеля. Таким образом, «Начертание» возникло под непосредственным влиянием как «Советов» Чарторыйского, так и «Плана» Заха, отличаясь тем не менее как от первого, так и от второго.
Главным в документе Чарторыйского было следующее утверждение: «Сербия должна выработать себе план на будущее», что, по его мнению, прежде всего подразумевало консолидацию славянских народов, находившихся под властью Австрии и Турции, вокруг единого центра – Сербии[429]. Некоторым народам, по мнению Чарторыйского, должна принадлежать приоритетная роль в объединительном движении: «Болгары, боснийцы и герцеговинцы должны быть предметом наибольшего внимания со стороны Сербии»[430].
Таким образом, «Советы» содержали план объединения южнославянских народов. Петрониевич писал Чарторыйскому в Париж о желательности создания «иллирийско-болгаро-сербской державы». При этом речь не шла лишь об объединении разобщенного сербского народа, вопрос ставился намного шире – о создании на Балканах сильного и независимого южнославянского государства. Распад Османской империи был, по мнению вождя польской эмиграции, предрешен. Но если погибнет Турция, то не будет и Сербии – вот почему ее государственные деятели должны заботиться о получении дальнейших уступок от Порты, присоединении Черногории и получении выхода к адриатическому побережью.
Вся польская эмиграция занимала резко негативную позицию по отношению к России. Польские политические деятели были убеждены в том, что ее покровительство, оказываемое Сербии, способно принести лишь вред княжеству, поскольку легко подлежит трансформации в господство. Что касается Австрии, то ей можно верить еще меньше, чем России, она никогда не упустит возможности захватить сербские территории. Представители польской эмиграции в Сербии ориентировали ее правительство на западных союзников, каковыми, по их мнению, являлись Франция и Англия.
«План» Заха базировался на сходных внешнеполитических расчетах: поскольку после распада Турции на ее территориях воцарятся Россия и Австрия, такому развитию событий должны воспрепятствовать страны, в этом крайне не заинтересованные, – Франция и Англия. Опираясь на помощь этих западных держав, Сербия должна добиваться все больших уступок от Порты. Мирный вариант завоевания независимости, предлагаемый Чарторыйским, кажется Заху нереальным. Он больше верит в революционный исход дела, и именно это становится главным отличием его «Плана»[431]. В основе всего документа лежат отношения Сербии с остальными южными славянами Балкан. Поскольку именно Сербия первой начала борьбу с Турцией, ей должна принадлежать главенствующая роль в союзе с другими славянскими народами, проживающими в Боснии, Герцеговине, Черногории и Северной Албании. Отметим, что оба польских документа подразумевали создание на Балканах единого южнославянского государства, способного противостоять захватническим планам держав.
В. Чубрилович признает, что оба разработчика внешнеполитической программы Сербии вполне верно сумели оценить общую расстановку политических сил в Европе и их позицию по Восточному вопросу в целом. Автор подчеркивает, что именно деятельность польских агентов в Белграде и Константинополе вовлекла Сербию в закулисную политическую игру европейских государств на Балканах[432]. В то же время вожди польской эмиграции последовательно проводили политику возможно большего удаления Сербии от России, формировали в умах сербских государственных деятелей «образ врага» в лице некогда покровительствующей державы. По отношению к Турции поляки занимали вполне лояльную позицию – они советовали сербам подчиняться турецким властям. Представленные ими планы предусматривали постепенное расширение прав Сербии, обретение свободы путем «откалывания от Турции по кусочку». Таким образом, именно польские вожди сформировали план реального и постепенного разрушения Османской империи. В его основу был положен не раздел Турции на зоны влияния, где ведущая роль могла достаться их заклятым врагам, а создание на балканских просторах единого славянского государства. Оно должно было стать противовесом русско-австрийскому влиянию в регионе и проводить самостоятельную политику, опираясь на западноевропейских партнеров. Таким образом, поляки, получившие приют и поддержку в Турции после подавления восстания 1830–1831 гг., проживавшие на ее территории и зачастую принимавшие мусульманство, реально выступали идеологами разрушения этой империи, разрабатывая планы воссоединения славян и выполняя роль советников при сербских политических деятелях.
Начиная подготовку «Начертания», Гарашанин уже имел опыт совместной с Захом работы по составлению «Плана». Некоторые его положения вошли в «Начертание» практически без изменений, другие подверглись существенной корректировке или исчезли совсем. «Начертание» явилось первой программой внешней и национальной политики Сербии. Объединение славян мыслилось как непременное условие их независимого существования и способ защиты их государственности. По мнению М. Экмечича, документ не был плодом мысли ни Гарашанина, ни Заха, ни Чарторыйского, будучи своеобразной квинтэссенцией внешнеполитиче ской доктрины Сербского княжества, пытавшегося сохранить свой суверенитет от любых внешних посягательств[433]. Основы «Начертания» заложены всем ходом освободительного движения в Сербии, являясь логическим продолжением развития идеи национального возрождения.
В целом «Начертание» носило ярко выраженную антиавстрийскую и антирусскую направленность. Реализация заложенных в нем принципов должна была послужить ограничению расширения русского влияния между южными славянами[434]. Внешнеполитическая программа такого рода могла бы получить поддержку Англии и Франции. В то же время Гарашанин, будучи хорошо знакомым с прорусскими настроениями народных масс и не отвергавший заслуг России в возрождении сербской государственности, должен был признать перспективность именно русско-сербского сотрудничества. Непременным условием продолжения дружественных отношений с Россией он считал безусловный отказ ее правительства от языка диктата и полное признание всех требований, выдвигаемых княжеством. В прочности именно такого союза Гарашанин не сомневался, как и не сомневался в его нереальности в связи с невозможностью для России отказаться от принятой на себя роли[435]. По мнению сербского политика, Россия никогда не согласилась бы на создание славянской державы, поскольку в этом случае потеряла бы возможность захвата Константинополя – «что является ее любимым планом от Петра Великого». Следовательно, «только Австрия и Россия могут радеть о разделении Турецкой империи»[436].
Наиболее важный аспект «Начертания» – это принцип объединения южнославянских народов в одно независимое государство. Сербия – естественная покровительница всех турецких славян и должна стать центром всеславянского движения на Балканах. Новая держава могла бы объединить Болгарию, Боснию, Герцеговину, Черногорию, Северную Албанию, Славонию, Хорватию и Далмацию и возродить таким образом «Душаново царство» по образцу государства Стефана Душана, сумевшего объединить под своей властью балканские земли в XIV в.
Рассматривая «Начертание», следует уделить внимание выяснению характера того государства, которое планировалось создать, или воссоздать, на Балканах. Ряд историков решительно называют «Начертание» великосербской и великодержавной программой. Так, Чубрилович называет план Гарашанина великосербским на том основании, что он предполагал главенствующую роль сербской династии в государстве, объединяющем черногорцев, хорватов, болгар, боснийцев, далматинцев, жителей Северной Албании (в тексте нет упоминания о том, что это должны быть исключительно албанские сербы). Кроме того, в «Начертании» нигде не говорится о «югославянах» или «южных славянах». Интересное замечание относительно термина «великосербский» имеется в книге К. В. Никифорова «Сербия в середине XIX в. Начало деятельности по объединению сербских земель». Он пишет, что сам термин, возникший по аналогии с Великороссией или Великобританией, еще не несет в себе отрицательного, шовинистического содержания, а лишь свидетельствует о растущем национальном сознании народа и может быть равнозначен определению «сербский»[437]. Солидаризируясь с данной точкой зрения, хотелось бы подчеркнуть, что «Начертание», даже обходясь без упоминания югославян, содержит специальный раздел, в котором говорится о задачах по объединению южнославянских земель и намечаются конкретные меры по описанию краев, выявлению их людского и военного потенциала, привлечению славянского населения этих земель к получению образования в Сербии[438]. Таким образом, речь фактически шла о провинциях, населенных южными славянами. Особо оговаривался вопрос вероисповедания: провозглашалась полная его свобода. Общая «народная политика» должна была объединить «восточноправославных» и «римско-католических» славян[439].
Сербский историк Р. Люшич предпринял попытку комплексного исследования первой национальной внешнеполитической программы в своей работе «Книга о “Начертании”». Автор не только подробно останавливается на положениях самого документа, но и проводит сравнительный анализ «Начертания» с более ранними проектами, подготовленными поляками. В результате изучения как самого источника, так и обширной отечественной и зарубежной историографии, дающей самое разнообразное толкование положений, в нем заключающихся, автор приходит к ряду интересных выводов. В частности, Люшич утверждает, что «Начертание» явилось программой сербской национальной и государственной политики и речь в нем идет об объединении прежде всего сербского народа, проживавшего на просторах Османской империи[440]. Эту программу Люшич называет сербской, но не великосербской. По мнению автора, Гарашанин поставил перед внешней политикой княжества две дополняющие друг друга цели: соединение всего сербского народа, а затем уже присоединение к нему других южных славян, в частности хорватов и болгар. В результате такого объединения должно было возникнуть обширное южнославянское сербо-хорвато-болгарское государство[441]. Сначала, по мнению Гарашанина, следовало направить усилия на выполнение первой задачи, а уже позже – второй.
Таким образом, «Начертание» представляет собой великосербскую по форме, но южнославянскую по содержанию программу внешней политики Сербии. Великосербской она была потому, что признавала за сербами главную – инициативную и руководящую – роль в процессе сближения всех южнославянских народов. Они должны были согласиться с этой ролью, приняв во внимание лидерство сербов в борьбе с турецкой властью и значительность достигнутых в ней результатов. Именно поэтому сербская династия достойна возглавить новое государство. Само южнославянское содержание программы вытекало из того разнообразия славянских народностей, которые планировалось объединить в рамках единой державы.
Таким образом, опираясь на «Советы» Чарторыйского и «План» Заха, Гарашанин сумел создать оригинальный проект объединения южных славян в рамках одного национального государства. Оно должно было заменить Османскую империю, подобно тому как Душаново царство в свое время сменило Восточную Римскую империю. Гарашанин первым из сербских политиков понял значение геополитического положения Сербии на Балканах, ее освободительную роль среди других балканских народов. Он наметил направления и методы работы с сопредельными землями, по ставил конкретные задачи, которые должны были выполнять посланные в эти провинции эмиссары. Предполагалось, что они представят подробное описание политического положения земель, состав их войска, арсенала, вооружения, общего настроения населения и их готовности сотрудничать с Сербией[442]. Все эти меры будут детально разработаны в дальнейшем, при составлении конкретного плана пропагандистской работы в южнославянских областях и подготовке сети агентурных работников на местах.
Эту работу предстояло вести в тех провинциях Османской империи, где положение славянства было бесправным и экономически тяжелым. Об этом свидетельствовали многочисленные жалобы и просьбы местных жителей, обращенные к белградскому консулу России. Особенно неблагоприятные условия для славян сложились в Болгарии. Произвол турецких властей побуждал болгар браться за оружие и оказывать вооруженное сопротивление притеснителям. В 1846 г. российский консул Г. И. Данилевский сообщал посланнику России В. П. Титову в Константинополь о волнениях на границах Болгарии с Крушевацким и Алексинским округами. «Болгары собирают помежду собой деньги для составления общественной казны, якобы на предмет предполагаемого восстания», – писал Данилевский[443]. Сербское правительство пользовалось у болгарского населения большим авторитетом, к нему обращались даже чаще, чем к российским властям, – Сербия была ближе, и хотя ее правящие круги не являлись столь влиятельными, но могли более оперативно откликнуться на ту или иную просьбу с болгарской стороны. Не случайно в «Начертании» предусматривалось оказание действенной помощи именно болгарам: это и принятие болгарской молодежи в сербские учебные заведения, и печатание книг на болгарском языке, и поддержка национальной церкви.
В то же время жители Болгарии стремились использовать малейшую возможность для обращения к российскому представителю в Белграде, надеясь, что он донесет их просьбу до сведения императора. В отчаянии они писали, что им остается «единственная надежда на Бога и… на всемилостивейшего вашего и нашего царя Николая»[444]. В письмах сообщалось о непомерном грузе налогов, возложенных на христиан болгарских округов, их религиозном преследовании. «Имущества наши разграблены, и мы не видим конца нашим страданиям, народ… ждет от Вас спасения, иначе мы погибли безвозвратно», – говорилось в одной из жалоб[445]. Турки произвольно занимали христианские земли, отнимали собственность, побои и убийства болгар были обычным делом. «Арнауты беспрестанно грабят христиан, нападают на них в лесах и отнимают у них скот, лошадей и даже одежду, мы же живем в вечном страхе», – сообщалось в письме группы болгар из Ниша на имя Данилевского[446].
Другие южнославянские народы, находившиеся под властью Турции, также обращали свои взоры к России. Особые отношения связывали ее с Черногорией. Владыка Петр Петрович Негош за время своего правления дважды посетил Петербург, Черногории оказывалась ежегодная материальная помощь со стороны российского правительства, ее подданные принимались на российскую службу и пользовались льготами разнообразного характера. Находясь в Константинополе, посланник Титов взял на себя обязанность покровительствовать прибывающим в турецкую столицу черногорцам. Негош в следующей форме ходатайствовал об этом: «Единоплемение и единокровие черногорцев с русскими и столь сильное российских императоров влияние, которое она, начиная с времени Петра Великого, имела на сей черногорский народ, дают мне право покорнейше Вас просить о сем»[447].
Если болгары могли обращаться за защитой к российскому консулу в Белграде, а черногорский владыка состоял в непосредственной переписке с Петербургом, то православное население Боснии было практически лишено связей с российскими властями. Лишь в конце 40-х гг. дипломатические представители России стали поднимать вопрос о необходимости иметь своего агента в Боснии, куда стремились проникнуть путем учреждения консульств как Австрия, так и Франция. Боснийцы также пытались установить связь с российскими представителями в Белграде и Вене. В австрийской столице их доверием пользовался священник российской посольской церкви М. Ф. Раевский, выражавший сочувствие делу славянского освобождения. В Белграде боснийцы обращались к российскому консулу, но подобных документов весьма немного. Так, в 1846 г. к Данилевскому попала жалоба боснийских сербов на произвол местного начальства в Казарском, Новском и Предорском округах, где были совершены убийства сербов[448]. Иногда из Боснии прибывал посыльный для того, чтобы лично рассказать российскому консулу об отчаянии христиан вследствие терпимых ими притеснений от турецких властей[449]. Примечательно, что между православным и мусульманским населением Боснии не было единства даже в действиях против общего притеснителя. Когда в Бихаче вспыхнуло восстание мусульман, недовольных произволом при сборе податей, оно не было поддержано христианской общиной. «Замечательно, – доносил консул Левшин в Петербург, – что боснийцы христианского вероисповедания не приняли ни малейшего участия в сем мятеже»[450]. Этот факт свидетельствует о реальном разобщении христианского и мусульманского населения края и тех тяжелых противоречиях, которые существовали между ними. В то же время сербы, принявшие мусульманство, не знали другого языка, кроме сербского. Их в Боснии насчитывалось около 550 тысяч, в то время как сербов-католиков было 250 тысяч, а православное население составляло 900 тысяч человек[451]. Несмотря на большую численность сербского населения в Боснии, их религиозная разобщенность мешала объединению и вела к росту противоречий между самими этническими сербами.
Все жалобы, обращенные к российским властям, обычно лишь приумножали традиционные предостережения «не предаваться никакой самоуправной попытке, которая может вовлечь… в совершенную гибель»[452]. Российский кабинет по-прежнему не поощрял нелегитимных методов борьбы южнославянских народов и даже в самых тяжелых для них обстоятельствах не забывал напоминать о недопустимости вооруженных действий против законной власти султана. Надежды на то, что Николай I «не захочет оставить народ христианский страдать невинно», ни на чем не основывались. Болгария в это время оставалась оплотом османского влияния на Балканах и не могла привлечь пристального внимания России. Если Сербия уже превратилась в островок относительной самостоятельности югославян внутри Османской империи, то Болгария, густо населенная турками, чувствовавшими себя здесь полновластными хозяевами, не представляла для российских политиков перспективного региона для успешного антиосманского противодействия. То же относилось и к Боснии, частично населенной мусульманами и католиками, которая к тому же являлась регионом столкновения интересов Турции и Австрии. Таким образом, Россия могла рассчитывать лишь на сохранение своего влияния в Сербии. Что касается Черногории, то однородность ее славяно-православного населения и дружеское расположение к России, безусловно, составляли основу давних русско-черногорских связей. Дело осложнялось лишь тем обстоятельством, что Порта упорно не хотела признавать за Черногорией статуса независимого государства, каковым считали свой край сами черногорские владыки. Иметь еще один повод для бесконечных пререканий с османским правительст вом Россия не хотела, но, принимая во внимание близость Черногории к адриатическому побережью, а также приверженность ее руководства к державе-покровительнице, Петербург считал необходимым оказывать денежную и моральную поддержку этой небольшой горной области.
Несмотря на то что славянское население европейской Турции еще продолжало взывать к помощи единоверной России, реальная политическая ситуация заставляла его все более отчетливо осознавать иллюзорность этих надежд. В данных обстоятельствах единственный способ противостоять натиску турок виделся во всеславянском объединении. Подобные идеи проникали в бал канские провинции вместе с агентами Гарашанина, находя отклик и понимание.
Гарашанин впервые выдвинул лозунг «Балканы – балканским народам». Однако деятельная личность Гарашанина предполагала не только выдвижение лозунга, но и практическую работу по его воплощению в жизнь. По его мнению, следовало заняться непосредственным распространением идеи объединения среди народов Болгарии, Боснии, Северной Албании. Не упускались из виду и австрийские сербы – жители Славонии, Хорватии, Далмации, Срема, Баната и Бачки. По плану Гарашанина все они должны были войти в состав великой и свободной южнославянской державы. Широкая веротерпимость стала основой объединительного движения – без нее нельзя было рассчитывать на успех, принимая во внимание принадлежность части южных славян к мусульманству и католичеству. Гарашанин возлагал большие надежды на католических священников Австрии, приверженных идее создания единого государства. Известный политический деятель сербской Воеводины Дж. Стратимирович, принявший активное участие в военных действиях сербов против венгров в 1848–1849 гг., также выступал не за создание сербской автономии в составе венгерских земель, а за единое государство, включающее в себя широкий географический ареал, вплоть до Константинополя[453]. Таким образом, объединительная идея получила широкое распространение не только среди турецких славян, но и подданных Австрийской империи. Гарашанин полагал, что работу по сплочению славянства должны выполнять специально посланные в провинции агенты. Во главе всей пропагандистской работы стоял сам министр внутренних дел.
Основные задачи агентов были сформулированы в «Начертании». Они должны были:
1) обращать внимание на партии, существовавшие в провинциях,
2) описывать военное положение земель, число войск и вооружения,
3) составлять списки знатнейших фамилий края, включая и противников Сербии,
4) выяснять, что говорят и думают о Сербии в данной провинции[454].
Агентурная сеть, во главе которой стоял сам автор «Начертания», была выстроена по вертикали в соответствии с классическими принципами конспиративной организации: каждый новый член общества знал только своего начальника, чтобы в случае гонений на них не иметь возможности выдать большого числа соратников. Весь Балканский регион делился на Западную и Восточную части, которые курировались М. Баном и Т. Ковачевичем. Непосредственным заместителем Гарашанина стал Йован Маринович[455].
Описание организации агентурной сети оставил бывший секретарь Валевского окружного суда Йован Миленкович, который сам принимал участие в этой работе: «Агентов было 52, и им платили по 50, 60, 70, а некоторым 100 талеров в год. Из сербской государственной казны ежегодно тратилось на организацию 5–6 тысяч талеров»[456]. Из данного отрывка видно, что деятельность всей агентурной сети была важной частью государственной политики Сербии, на которую выделялась значительные государственные средства. Агентами становились люди разного социального положения и вероисповедания. С ними сотрудничали священники, монахи, торговцы. Значительную часть среди них составляли католики.
Для успеха всего объединительного движения большое значение имела позиция двух регионов – Черногории и Болгарии, то есть тех краев, где традиционно господствовало православие. Черногорский правитель Петр Петрович Негош сочувственно воспринял идею создания славянского государства – он готов был отказаться от верховной власти в пользу представителей сербской династии и оставлял за собой лишь высший церковный сан. Однако для черногорцев, имевших тесные и сложившиеся связи с Россией неприемлемой была сама идея антирусской направленности предложенного проекта. В связи с этим можно предположить, что деятельность агентов в Черногории не сулила большого успеха. Пытаясь заменить Россию в деле покровительства Черногории, сербское правительство приняло решение о выделении этой провинции ежегодной денежной помощи в размере 1000 дукатов. Фактически Сербия пыталась переориентировать внешнюю политику Черногории. Эта же тактика была применена по отношению к Болгарии – Сербия брала на себя расходы по обучению болгарской молодежи, по печатанию книг на болгарском языке.
Практически во всех провинциях Балканского полуострова Гарашанин имел доверенных людей. Достаточно подробно об этом говорится в книге К. В. Никифорова. Упомянем здесь только некоторых: в Северной Албании это был католический священник Карл Красничи, имевший большое влияние на мирдитского вождя Биб Доду и местный католический приход. Условием их согласия на объединение стала свобода вероисповедания. В Герцеговине с Гарашаниным поддерживал связь православный священник Й. Памучина, в Дубровнике – протоиерей Дж. Николаевич[457].
Большое значение для расширения пропагандистской работы имели путешествия М. Бана и Т. Ковачевича по Хорватии, Далмации, Черногории, Боснии, Герцеговине, Старой Сербии и Юго-Западной Болгарии. В 1848 г. Бан посетил в Сремски Карловцах патриарха Раячича. В Загребе с помощью Л. Гая виделся с хорватским баном Елачичем. В сентябре 1848 г. Т. Ковачевич также совершил поездку по Хорватии, Далмации и Боснии. В своем отчете о путешествии, составленном на имя Александра Карагеоргиевича, он подчеркнул, что босняков и герцеговинцев следует оградить от «русско-австрийского… и турецко-венгерского наступления» для большего сближения с Сербией[458]. Вслед за автором «Начертания» Ковачевич повторял имена главных врагов «сербства», среди которых первое место занимала Россия.
Деятельность Гарашанина и его сподвижников по расширению пропагандистской работы активизировалась в 1848–1849 гг., что было связано с развитием военных событий в Воеводине. В 1849 г. министр внутренних дел выработал «Устав политической пропаганды в землях славяно-турецких» – практическое руководство к действию рассылаемых в провинции агентов. Теперь «Устав» ориентировал южнославянские народы на подготовку и проведение «одновременного вооруженного восстания». Период собственно пропагандистской работы должен был смениться реальными действиями вооруженного народа. В 1850 г. был принят второй «Устав», аналогичный первому. Пропаганда агентов сербского правительства, регламентированная этими документами, велась вплоть до 1853 г., пока Гарашанин оставался премьер-министром Сербии. Смещенный со своей должности усилиями российского правительства, Гарашанин свернул сеть своих агентов.
Вся пропагандистская деятельность, развернувшаяся в различных регионах Балканского полуострова, явилась прямым следствием провозглашенного в «Начертании» принципа объединения южных славян под эгидой сильной Сербии. Сам факт того, что впервые выработанная внешнеполитическая программа не осталась мертвой буквой, а немедленно была принята как руководство к действию, говорит о подготовленности общественного мнения к развитию событий именно в этом направлении. Эта программа отвечала интересам и чаяниям славянских народов, издревле населявших Балканы, но разобщенных в силу объективных обстоятельств. «Начертанию» было уготовано стать программой объединения славянства на много лет вперед. Этот документ заложил основы внешнеполи ти че ской программы Сербии, вставшей на путь обретения самостоятельности. Гарашанин сумел верно определить расстановку политических и международных сил в регионе, а также перспективу южнославянских народов быть поглощенными одной из великих держав в ходе борьбы за османское наследство. У Сербии, по его мнению, не было другого пути для сохранения собственной независимости и самобытности, кроме объединения с другими народами и выступления единым фронтом как перед распадающейся Османской империей, так и перед наступлением великих держав.