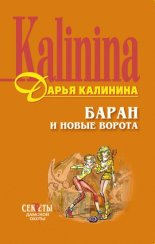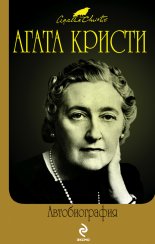Операция «Гадюка» Булычев Кир
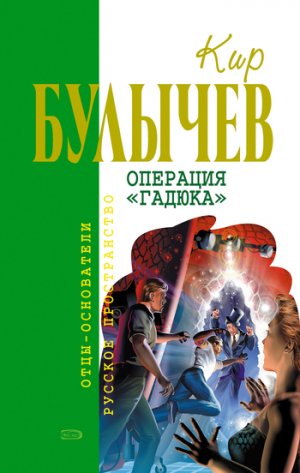
Кто бы это ни сделал – все погибли. Так, может быть, если случилась цепная реакция, и сейчас земля заражена. Людей нет, но зараза оставалась.
Лаврентий Павлович вышел в скучный серый вестибюль и выглянул через застекленную дверь наружу. Солнца не видно, низкие облака какого-то осеннего неопределенного цвета. Освещение предвечернее, как бы специально подобрано для ослабевшего зрения.
Холода нет. Скорее – прохладно, и если говорить о температуре воздуха, то ее нет тоже. А когда температуры нет, ты быстро забываешь о ней, о погоде, об освещении.
Радиация, наверное, здесь опасна, но у Лаврентия Павловича не было с собой специального прибора, изобретенного неким Гейгером, позволявшего эту радиацию определить.
Лаврентию Павловичу было приятно осознавать, что память и умение быстро соображать его не покинули, несмотря на длительное заключение. Он перенес это испытание лучше многих других, которые сходили с ума или кончали с собой. Радиация, как он вспомнил, очень опасна в первые минуты, а потом разлетается в стороны. Наверное, большинство людей умерло от первой радиации, а те, кто остался, скрываются в других частях страны, так что вряд ли кому теперь есть дело до бывшего министра.
Но на всякий случай надо придумать себе псевдоним, партийный псевдоним, не в первый же раз приходится это делать. И если сказать, то и в муссаватистской разведке у Лаврентия была кличка. Он числился агентом у полковника Марченко-Алиева, но, естественно, делалось это для разоблачения планов муссаватистского отребья. Затем стало опасно вспоминать о романтическом периоде молодости, потому что Лаврентий Павлович, как орел, высоко взлетел, а внизу множились бескрылые враги. Верный друг Кобулов тогда достал из бакинского архива все его дело – маленькую папочку, и Берия положил его в свой сейф. Где-то теперь эта папочка? То, что ее нашли, сомнений не было: ведь среди обвинений на этом липовом суде была и строка о службе в муссаватистской охранке, и он тогда сказал – да, было, по поручению партии. Они пропустили это мимо ушей. И Руденко пропустил. А ведь еще недавно кричал о своей дружбе. Было же, было?
Выходить наружу Лаврентий Павлович не стал, а решил начать со здания.
Будем исследовать помещение, помня при том, что по крайней мере один человек здесь есть. Нечаянный спаситель Лаврентия Павловича.
– Эй! – негромко произнес Берия.
Гулко отозвалось эхо.
Справа Лаврентий Павлович увидел выгородку, барьерчик, за которым положено сидеть вахтеру.
Он подошел к барьеру и заглянул за него.
Опыт не подвел Лаврентия Павловича.
Прижатый толстым стеклом, на столе остался лист бумаги со списком комнат и телефонов. Хотя самого телефона на столе не осталось.
Берия приподнял стекло и вытащил список.
Кабинет директора института был на втором этаже. Лаврентию Павловичу стало любопытно, как можно было позвонить к нему, в тюрьму.
Телефоны были разлинованы по этажам. Второй этаж: директор и заместители. Третий – лаборатории. Четвертый – какие-то кабинеты. Там же бухгалтерия, плановый отдел… Первый этаж – совсем мало телефонов. Значит, не все записаны, даже вахтерам не положено знать.
«Комендатура-1», «Комендатура-2», «Спецкомендатура» – слишком много комендатур для одного института. А что ниже? В подвале? Всего один телефон. «Дежурный». Вот и все. Так и должно быть. При Лаврентии Павловиче тоже придерживались такой системы – если ты прячешь куда-то алмазик, то лучше в кучу стекол такого же размера. И чем меньше народу знает об алмазе, тем лучше.
Он пошел по коридору первого этажа, заглядывая в комнаты.
Странное впечатление оставалось от этих комнат.
Двери всех были открыты или по крайней мере не заперты.
Создавалось впечатление, что, уходя отсюда, люди брали вещи по странной логике. Например, стульев почти нигде не было, а вот столы остались. Ящики их были пусты, хотя в некоторых можно было найти какие-то бланки, книжки для чтения, копирку, ластики, порой записки личного содержания, но ничего, что помогло бы Лаврентию Павловичу понять причины беды.
Зато на столе лежал перекидной календарь.
Вот его изучением Лаврентий Павлович и занялся.
Календарь был за 1953 год. Что и требовалось.
Владелец календаря был человеком аккуратным и не помещал в него секретных или каких-нибудь сомнительных записей.
Но вот 3 марта. Черным и красным карандашами комендант сделал на свободном поле рамочку и внутри написал: «Скончался наш Вождь и Учитель. Вечная слава! Мы осиротели».
Лаврентий Павлович перелистал календарь, не обращая внимания на значки и записи, значения которых ему все равно не понять. Его интересовали две даты. Во-первых, день, когда его сюда привезли.
Ничего особенного. Или почти ничего.
В нижнем углу маленькими аккуратными буквами написано: «Особый режим».
Можно предположить, что комендант знал о появлении здесь какого-то лица или об изменившихся обстоятельствах. Вернее всего, когда Берию привезли сюда, то подкрутили гайки, пугнули местное начальство. А теперь давай посмотрим, что он пишет… по поводу Нового года? Как случилось, что за мной не пришли на расстрел?
Последний листок календаря – 31 декабря.
Рыбный паек, написано чернилами. И ниже синим карандашом: Поздравить Л. Л.
Следующего листка нет.
Впрочем, его и быть не может. Даже если что и случилось – если война оборвала ход жизни, то в календаре это не отражено. Любой календарь кончается именно 31 декабря.
И все же обидно. Лаврентий Павлович перевернул страницу, поглядел на обороте. Конечно же, чисто.
Берия знал по собственному опыту, что новый календарь ставился на стол именно тридцать первого. А может быть, секретарша… какая, к черту, секретарша у простого коменданта или сотрудника комендатуры!
Поглядим повыше.
Уже обжившись в этом здании, потеряв опаску, Лаврентий Павлович поднялся на второй этаж, к директору. Интуиция его не обманула. В предбаннике на столе секретарши в верхнем, выдвинутом наполовину ящике лежала пачка листков – заготовленный перекидной календарь на 1954 год.
Заготовила, но не успела положить на стол шефу.
Берия заглянул и в кабинет. Там лежало опрокинутое кресло, в открытом шкафу висел плащ, хороший добротный серый плащ с квадратными широкими плечами. Берия тут же вспомнил, что он-то сам ходит как бродяга, закутавшись в одеяло, и первый же прохожий его сдаст куда следует.
Плащ был коротковат, но по ширине в самый раз. Значит, директор здесь был приземист и в теле. Жаль, что он не оставил хороших ботинок и костюма. И сорочки с галстуком.
«Не гневи судьбу, Лаврентий», – сказал он себе.
Он кинул взгляд на свои ноги – ноги были, к сожалению, босыми. Но холода он не чувствовал, и то хорошо.
С появлением плаща настроение немного улучшилось – если попался плащ, будут и ботинки. Доберемся до города, найдем людей, найдем одежду…
В плаще, куда более похожий на приличного человека, он снова вышел на улицу. Ну хоть бы сандалии, хоть бы резиновые сапоги!
Ведь не исключено, что именно на земле эта радиация остается дольше всего. Ты идешь, она в тебя сквозь голые пятки лезет! Да и вообще негигиенично и опасно ходить в его возрасте босиком по земле, когда неизвестно, какое стоит время года. Земля не ледяная, но прохладная и голая.
Лаврентий Павлович, мучимый такими мыслями, осторожно и с оглядкой шел по дороге, ведущей от фасада его тюрьмы. Ворота в решетке расступились. Он рассудил, что дорога обязательно упрется в шоссейку, а там уж разберемся по указателям, куда идти дальше, где переночевать и пообедать.
Надо сказать, что пейзаж по обе стороны дороги был странным и каким-то неправильным. Деревьев почти не было, а если и были, то высохшие, неживые, обломанные, а то и просто высокие пни. Такая вот полустепь протянулась далеко вперед, тая в легком бесцветном тумане. То есть местность была как бы открытая и в то же время ограниченная в видимости. Поэтому терялось ощущение перспективы, и когда Берия услышал, как играет какая-то дудочка или свирель, он не сразу даже сообразил, откуда доносится звук.
Он замер – потом увидел музыканта.
Впереди среди пней и редких стволов шел человек и играл на свирели. Он шел по обочине, не глядя под ноги и не боясь споткнуться о корни или камни, которыми была усеяна местность вне узкой асфальтовой полосы.
– Эй! – крикнул Берия. – Погодите.
Человек не обернулся – может быть, не услышал, так как сам производил звуки, – он продолжал приплясывать, сам себе оркестр и сам себе танцор.
Берия пошел быстрее, он вдруг понял, что ему плевать, кто этот человек – беженец, псих или просто гуляка, – но оказалось, что больше всего на свете Лаврентий Павлович мечтает о человеке и хуже, чем смерть, – одиночество.
Человек не спешил, но шел так, что расстояние между ними не сокращалось.
И тут Берия выбежал на шоссе. Сам не сразу сообразил.
Теперь музыкант шагал по обочине шоссе, а Берия семенил за ним по центру асфальтовой полосы, перепрыгивая через трещины.
Дорожный указатель справа – «Матвеевская». Черт ее знает, какая Матвеевская и правильно ли мы бежим.
– Эй, постой!
Впереди показалась речка. Небольшая речка, но сотворившая себе за долгую жизнь глубокую долину, как бы громадный желоб, по которому она спокойно виляла, окаймленная по сторонам повалившимися заборами и пустыми грядками – когда-то местные жители здесь что-то сажали, а потом убежали.
Музыкант начал спускаться по тропинке, вниз от шоссе. Звук дудки, и без того прерывистый и негромкий, пропал, и Лаврентию Павловичу пришлось прибавить ходу, чтобы догнать мужчину.
Но когда он добежал до начала тропинки и поглядел вниз, то музыканта не было ни видно, ни слышно.
Лаврентий Павлович довольно долго стоял над крутым склоном, поводя головой и стараясь отыскать пропажу, но тщетно.
Впрочем, укрыться музыканту было негде, если не считать стоявших вдоль берега шалашей, сарайчиков и домиков в различных стадиях деградации.
Вернее всего, именно в одном из них и спрятался музыкант. Но идти туда и шарить по шалашам не хотелось, тем более босиком.
Он так и стоял в нерешительности, потом решил все же спуститься к речке, посмотреть на бегущую воду – он соскучился по зрелищу живой воды.
Лаврентий Павлович начал спускаться по тропинке, глядя под ноги, чтобы не наступить на стекло или гвоздь, – в этих местах очень много опасного мусора.
Спустившись шагов на сто, он понял, что вокруг стало темнее – шалаши, заборы и загородки, а также иные остатки человеческой строительной деятельности были многочисленны, и он потерял свободу обзора.
Конечно, здесь никого не найдешь, а тропинка уже стала сырой, под ногами хлюпнуло. Еще шаг – и попадешь в болото, тем более неприятное, что в нем была не растительность, а валялись консервные банки.
Лаврентий Павлович поскользнулся и ухватился за тонкий столб. Удержавшись на ногах, он поднял взгляд, и оказалось, что он стоит перед металлическим листом, прибитым к двум толстым шестам. На листе очень приблизительно и аляповато был нарисован олень. Так рисуют оленей на дешевых базарных ковриках. А раньше таких зверей можно было увидеть в Тифлисе над дверью в духан.
Пока он рассматривал некстати появившегося тут оленя, рядом с ухом свистнуло, и железный лист задрожал от удара стрелы.
Да-да, самой обыкновенной стрелы, как у Робин Гуда.
Еще не хватало здесь мальчишек с настоящими стрелами.
– Так и убить можно, понимаешь! – выкрикнул Лаврентий Павлович. – Я тебе уши оборву.
Но на всякий случай он отошел, шагнул в сторону и тут же провалился в жижу глубже колен.
– Мать твою перемать! – закричал он в сердцах. – Плащ совсем новый.
Плащ сейчас был его единственной материальной ценностью, он уже успел полюбить его – и тут такая неприятность!
Откуда-то со стороны и в то же время сверху появился человек. Он показался Лаврентию Павловичу очень большим и опасным. Берия отпрянул еще на шаг и оказался в грязи по пояс.
– Я не в вас стрелял, – вежливо сказал человек, не производя никаких враждебных движений. – Я оленя убил. Так что вылезайте.
– Вылезайте! – вдруг рассердился Берия. – Вы же меня пугнули и заставили сюда свалиться. Неприлично как-то получается. Разве можно так к людям относиться!
– Ну давайте лапу, – сказал человек, и Лаврентию Павловичу ничего не оставалось, как протянуть и схватить за пальцы высокого человека. А он оказался высоким – на полторы головы выше Лаврентия Павловича. Но очень худым. Лицо украшали бесцветная эспаньолка и бакенбарды серого волоса, который так и не приобрел благородного серебристого цвета.
Лицо человека было бледным, морщинистым, на голове фуражка офицерского образца, но далеко не новая, френч, брюки-галифе и высокие, до блеска начищенные сапоги – как только можно сохранить такой блеск в этой грязи!
Но самое удивительное заключалось в том, что вместо сабли или кортика на портупее у этого человека висел кожаный колчан с оперениями стрел наружу, а в свободной руке он держал нечто схожее с луком, но куда короче, – Лаврентий Павлович не разбирался в старинном оружии, но понял, что это вовсе не детская игрушка.
– Ах, у вас нет обуви! – расстроился высокий человек. – Или вы потеряли?
– Нет, у меня не было.
– А как вы сюда попали? – Человек обвел рукой окрестность, как бы давая понять, что пойма речки – его собственность.
– Тут был человек… очевидно, со свирелью, – признался Лаврентий Павлович, – я им заинтересовался. Я давно не видел людей…
«Интересно, – подумал он, – а рад ли я, что вижу этого человека?»
– А, крысолов, – сказал высокий мужчина. – Опять заманивает. Значит, он вас вывел из города и хотел утопить, но вы не успели?
– Я не собирался топиться.
– А он всегда так действует. Надоел мне безумно, – сказал мужчина. – Заманивает и делает попытки утопить. Ну кого вы в наши дни утопите, а?
– Никого, – согласился Берия. Он явно столкнулся с сумасшедшим, на психику которого так повлияла атомная война. А может, и сама радиация.
– Разрешите представиться, – сказал высокий мужчина и протянул руку Берии, – Николай Николаевич, Николай Николаевич-младший. Вам приходилось обо мне слышать?
– А фамилия, простите?
– Фамилия обыкновенная – Романов.
– Из тех самых Романовых? – догадался Лаврентий Павлович.
– Приходился дядей покойному императору, – сказал высокий мужчина, отчего Лаврентий Павлович окончательно убедился в том, что имеет дело с сумасшедшим, которого лучше не сердить. – А это мои края, – сказал Николай Николаевич, – мои заповедные, так сказать, леса. Здесь я охочусь, думаю, отдыхаю от дел.
– Ну конечно, конечно…
– Господи, – вдруг рассмеялся Николай Николаевич, глядя на Лаврентия Павловича сверху вниз. – Да вы, как кажется, меня полагаете психопатом, то есть человеком ненормальным. Смотрите же: вот мое оружие, и вы видели его губительную силу. А если хотите, мы можем сыграть в Вильгельма Телля – вы слыхали о таком? Вы киваете, значит, я имею дело с образованным человеком. Кстати, я не люблю разговаривать с людьми, которые не умеют или не хотят вовремя представиться.
– Лаврентий Павлович, – сказал Берия, – Лаврентий Павлович.
– И давно вы у нас, Лаврентий Павлович?
– Недавно, – сказал Берия.
Он правильно рассчитал, что нет вреда назвать себя полным именем. По той причине, что если этот сумасшедший изображает из себя дореволюционного князя, то не может ничего знать о Берии. А если покажет, что знает – хотя бы слышал, то тут…
Николай Николаевич ничего не знал о Берии, да и не стремился узнать. Вместо этого он рывком вытащил стрелу из железного листа, как раз из груди оленя, и сказал:
– А ведь неплохой выстрел. Точно в сердце. Уложил с первого раза. А бил вон оттуда… – Николай Николаевич обернулся и показал на шалашик метрах в ста на склоне долины.
– Хороший выстрел, – осторожно согласился Берия.
– Я ведь и живу охотой, – сказал Николай Николаевич. – Можете называть меня просто князь – тут приходится быть демократом.
– Хорошо, князь, – сказал Лаврентий Павлович, и тут его поразила страшная догадка: а что, если после войны погибло социалистическое государство и к власти снова пришли дворяне? Ну и что – туда ему и дорога, родному государству. По крайней мере среди дворян нет его врагов.
Подумал – и сам испугался своих мыслей. «Как так нет? А сколько мне пришлось, выполняя жестокую волю Сталина, расстрелять или иными способами уничтожить этих самых князей? Ведь до самой смерти вождя, до начала пятидесятых, мы их вылавливали и ликвидировали. Нет, наверно, я был не прав, когда открылся. Этот не заметит, другие заметят».
– А вы охотитесь? – спросил великий князь.
– Я давно не охотился.
– А вы откуда будете родом?
– С Кавказа, князь.
Ах, как легко ложится на язык это слово! Будто и не забывал его.
– На Кавказе отличная охота, Лаврентий Павлович, – я там служил. А вы служили?
– Я позже служил, – сказал Берия.
– Этого и следовало ожидать. Но если вы питаете слабость к охоте, я вам должен показать одну штуку, я, знаете, одного хищника тут поднял, а он потом залег. Если вам не сложно, пошли, я попытаюсь его взять. А об олене не беспокойтесь, потом егеря придут и унесут его ко мне в резиденцию.
– Простите, я босой, – сказал Берия.
– Я же сказал – два шага. – Голос Николая Николаевича прозвучал неприятно. Он не любил, когда ему перечили. А Лаврентий Павлович не был склонен сейчас кому-нибудь перечить, тем более больному манией величия, который выдает себя за дядю императора.
Николай Николаевич сложился почти вдвое и начал подкрадываться к чему-то скрытому заборами и завалами сухостоя. Берия пошел за ним, и Николай Николаевич время от времени приостанавливал его движение ладонью, опасаясь, что Берия спугнет зверя.
Вот он замер.
И начал медленно поднимать свой лук, или как его… арбалет.
Он готов уже был спустить тетиву, как совсем близко раздался резкий звук дудочки. Той самой дудочки.
Князь выстрелил и тут же закричал:
– Как ты посмел! Ты мне под руку заиграл! Я же из-за тебя промахнулся.
– А я нарочно! – раздался голос из-за шалаша. – Вы знаете, князь, что диких животных осталось так мало, что каждая особь на счету. Я вам столько раз говорил – стреляйте в людей!
– Да пошел ты! – закричал в ответ великий князь и кинулся вперед.
Резким движением он откинул груду сухостоя, и глазам изумленного Берии предстал еще один железный щит, на котором ярко и аляповато во весь рост был изображен лежащий тигр с гнусной ухмылкой на роже.
Стрела вонзилась в щит где-то возле тигриного хвоста.
Берия тоже сделал шаг вперед, чтобы получше разглядеть это диво, но Николай Николаевич услышал, как треснула ветка, и крикнул:
– Не подходите, Лаврентий Павлович. Вы же видите, он только легко ранен и раздражен. Если он бросится, я не смогу вас защитить.
– И не надоело? – С другой стороны шалаша появился согнутый человек с деревянной дудкой в длинных угловатых пальцах. – Ваши звери – беспомощные жертвы дворянского произвола. Скоро в наших лесах перестанут водиться тигры. Разве мало вам того, что вы перебили всех динозавров!
– Вот это вы зря, Бетховен! – откликнулся Николай Николаевич. – Никто вам не поверит. Динозавры вымерли сами, вам каждый ребенок скажет.
– У нас детей нет!
– Не исключено, что будут. – И великий князь расхохотался.
– Лучше убивайте людей. – Человек по имени Бетховен, совершенно на Бетховена непохожий и даже не глухой, показал дудочкой на Лаврентия Павловича: – Не зря же я его сюда заманил.
– Так это ваша работа!
Они забыли о Лаврентии Павловиче, будто он был и не человеком вовсе, а какой-то мошкой, на которую можно, не заметив, наступить. Конечно же, после радиации остались только психи.
– Моя, Николай Николаевич, моя! Я его отыскал в подвале, в тюрьме. И не зря отыскал. Великий мерзавец.
– Почему же вы так решили?
– Я куда моложе вас, великий князь. И прибыл сюда только в прошлом году. А раз так, то как бы застал его там. В тюрьме узнал о его печальном конце – у нас многие говорили. А потом кинули к нам в камеру одного капитана – бывшего капитана, не эмвэдэшного, а армейского, и тот сказал, что был в охране Берии, которого вроде бы не расстреляли, а приберегли для следующего случая. А он потом исчез. Вот вдруг подумал, а не наш ли это случай?
– Вы мне надоели, Бетховен, – сказал Николай Николаевич. – Я даже подозреваю, что вы вовсе не Бетховен. У него была совершенно другая прическа.
– Так вы думаете охотиться на этого вот, Берию?
– Я должен сейчас охотиться?
– Ну сколько вам нужно говорить! Я для вас выманил этого мерзавца.
Николай Николаевич глядел на Берию, и во взоре его не было никакой решимости.
– А я хотел еще слона поискать, – сказал он наконец.
– По-моему, вы здесь посходили с ума, – сказал Бетховен. – Я даю вам уникальную возможность избавить наш свет от убийцы и злодея, а вы предпочитаете слона.
– Погодите, погодите, – решил воспользоваться заминкой Лаврентий Павлович. – Почему никто не хочет выслушать моего мнения?
– Помолчи, я таких, как ты, уже выманил с полдюжины. И буду ловить!
– Бетховен прав, – сказал Николай Николаевич.
– Я требую открытого суда! Вы докажите, что я виноват! – Берия смотрел на князя.
– А он дело говорит! – сказал великий князь. – Займитесь, коллега, составом суда, подбором присяжных, и чтобы все как положено.
Великий князь пошел дальше по берегу речки, высоко поднимая ноги. Его сапоги блестели, несмотря на грязь.
– Ну что, выкусил? – спросил Лаврентий Павлович. – Никакой ты не Бетховен, и мы еще выясним, кто ты такой.
– Здесь каждый выбирает имя, которое ему больше всего подходит. Должна же где-то быть свобода!
Они стояли по щиколотку в грязи, и понятно было, что никакого вреда друг другу они причинить не могут. Лаврентий Павлович, хоть и исхудал во время заключения и суда, сил не прибавил – он и выглядел бывшим толстяком. Пожилым, скорее немощным, даже если в молодости и отличался силой. Впрочем, никогда Лаврентий Павлович не отличался ни силой, ни ростом, ни красотой – все вместе это вело к желанию повелевать. И он присоединился к неистребимой армии претендентов на мировое господство, которые провели лучшие годы, набираясь сил. Присоединился – чтобы отомстить девочке Наде Иоселиани, презревшей его в шестом классе. А когда он достигнет таких высот, что может сказать: «Теперь ты будешь у меня в ногах ползать, умолять, чтобы я тебя в койку на ночь взял, иначе я весь твой род в порошок сотру», оказывается, что Надя не представляет уже интереса – пускай остается на своей коммунальной кухне со своими тремя шелудивыми ублюдками и алкоголиком-мужем!
Его противник был повыше ростом, зато худ и сутул. У него были печальные шоколадные глаза на очень белом лице, удрученном корявым носом.
И тут Лаврентий почуял, что враг не уверен в себе.
Нет, музыкант по кличке Бетховен не чета министру Госбезопасности!
– Что же еще тебе капитан наплел? – спросил Берия.
– Он рассказал, где вас содержат. Он сказал, что вам лично товарищ Хрущев велел писать воспоминания, то есть доносы. А потом вас все равно расстреляют, потому что для всех вы уже расстрелянный.
– А какой твой интерес?
– Я подумал: такая сволочь, как вы, если дотянет до Нового года, наверняка попытается к нам прорваться. Надо было сегодня проверить.
– Почему сегодня?
– Потому что сегодня первое января. С Новым годом, товарищ Лаврентий Павлович Берия!
– С каким еще годом?
– С наступившим. Вот я и пошел проверить. И решил, что если я, к сожалению, угадал, то обязательно вас уничтожу. Хватит у нас здесь своей нечисти.
– А чего же не уничтожил?
С каждым словом Берия как бы наливался силой, словно русский богатырь, прижавшийся к земле.
– Вы же понимаете… я не умею убивать. Я надеялся на великого князя. Если я вас выманю, он обещал вас подстрелить. Но промахнулся.
– И что же будем делать? – спросил Лаврентий Павлович.
– Не знаю, – признался музыкант.
– А на самом деле как тебя зовут?
– Семен Матвеевич, Гуревич Семен Матвеевич.
– А кличку себе придумал – Бетховен. Чтобы я не догадался о национальности? Ну и порода, ну и нация!
– Вы не думайте, что легко отделались, – сказал Гуревич. – Потому что я до вас доберусь. Или другие доберутся. Здесь таких немало.
– У государственного деятеля всегда много врагов, – признался Берия. – Это неизбежно.
Лаврентий Павлович размышлял: то ли перевести разговор в товарищеское русло и выпытать у этого музыканта подробности ситуации – он быстро расколется. Или принять другой, более суровый тон? Последнее победило, потому что уж слишком противно было стоять в этой грязи.
– А ну хватит! – крикнул он, набычиваясь. – Поговорили и хватит. Разувайся.
– Как так разувайся?
– Снимай ботинки.
– Но они же мне нужны.
– Мне нужнее. – Собеседник пасовал, отступал, и вдруг Лаврентий Павлович ощутил почти потерянное, забытое чувство силы – он так любил прежде заставлять людей делать по его воле, желанию, капризу, и делать то, что совершенно противно их природе. Когда-то Хозяина спросили, какое чувство ему всего ближе, и он ответил – месть. Лаврентий Павлович ответил бы – чувство власти. Месть мельче, о мести можно забыть… он был крупнее Хозяина!
Теперь Лаврентий Павлович уже полностью овладел положением. Он не спеша оглянулся, зная, что этот Бетховен всецело в его власти. Охотник попался в лапы дичи. Смешно.
Оглянувшись, Лаврентий Павлович увидел совсем рядом обвалившийся забор. Он резко рванул планку, вытащил ее – теперь он был вооружен. Хорошая плоская палка больше метра длиной. Ею можно еще как огреть по спине!
– Осторожнее, – предупредил Гуревич, – там гвозди.
– Ах гвозди! Ну тем лучше.
– Ну чего вы от меня хотите! – взвыл этот самый Бетховен. – Вы же сколько угодно ботинок найдете. – Он показал рукой куда-то наверх. – Зайдите в универмаг, там они стоят рядами, выберите себе что нужно.
– Считаю до трех.
Бетховен ринулся на сухое место, Лаврентий Павлович было замахнулся, но сообразил, что Гуревич лишь хочет снять ботинки там, где удобнее.
– Они вам будут малы, – сказал он.
– Ничего, кидай.
Бетховен кинул ботинок, он был мокрый.
– Ничего, – сказал Берия, – не хочу простужаться.
– Простужаться? – И вдруг Гуревич захохотал. Тонко, противно, но не притворяясь. – Как же вы, милостивый товарищ, намерены простудиться?
– Очень просто.
Берия натянул ботинок. Тесновато, но зато как приятно – человек в ботинках совершенно иначе себя чувствует.
– Мне кажется, что вы, как бывает с новенькими, – сказал Гуревич, переминаясь с ноги на ногу (без ботинок ему было стоять неприятно), – вы до сих пор не представляете, куда попали.
– А вот это вы мне сейчас расскажете, – грозно сказал Берия.