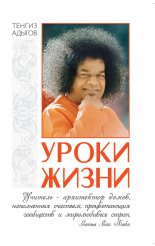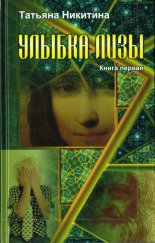Перебои в смерти Сарамаго Жозе
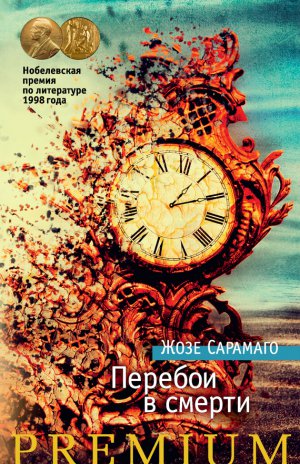
© Богдановский А., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
От переводчика
За Жозе Сарамаго такое водится – и уже довольно давно: принять в качестве первоначального импульса совершенно невероятное допущение – и посмотреть, что из этого выйдет. С упорством, не достойным лучшего применения, лауреат Нобелевской премии 1998 года Жозе Сарамаго, давно разменявший девятый десяток, занимается одним, в сущности, делом – он, будто следуя призыву Александра Блока, стирает «случайные черты», только мир от этого становится не прекрасен, а, пожалуй, еще гаже и ужасней, чем в действительности.
Началось это лет двадцать назад, с легкой руки великого португальского поэта Фернандо Пессоа (1888–1935), который придумал целую систему (а система есть комплекс взаимовлияющих элементов) своих литературных двойников-гетеронимов, вдохнул в них жизнь, снабдил их внешностью, привычками, биографией, одарил талантом. Вот одного из этих фантомов – доктора Рикардо Рейса, поэта-неоязычника, последователя Горация – Сарамаго и отправляет в Лиссабон, где только что скончался сам Пессоа. (Нечто подобное произошло бы, если бы Иван Петрович Белкин, автор «Метели» и «Гробовщика», появился в Петербурге примерно через месяц после известных событий на Черной речке.) Пусть этот призрак, ставший человеком, обретет плоть и походит по улицам, поживет в отеле, куда вскоре придет навестить плод своего воображения его создатель – тот, кто был человеком, а ныне стал бесплотным призраком, существующим лишь в словах.
О словах – разговор особый. Ни одного из них Сарамаго «в простоте не скажет», ибо для него слова не столько строительный материал для создания образов, для выражения идей, сколько особый, независимый и отчасти даже враждебный мир, живущий по собственным законам, движимый по нарезанным бог знает когда – и, главное, кем – колеям могучей силой инерции. С нею Сарамаго ведет постоянную борьбу, а вернее – тотальную войну, корежа, расплющивая, взламывая то, что принято называть «устойчивыми словосочетаниями» – нет в этом мире ничего устойчивого. Оттого и пестрят страницы его книг, написанных за последние двадцать лет, такими – иначе не скажешь – пассажами: «Он не то что был задет за живое – он был в это живое тяжко ранен…», «Как отпустить мальчика одного на ночь глядя, а поглядеть есть на что – кругом война да резня…», «…да не она испытывала страдания их, а они ее испытывали…», «…как это – несолоно хлебавши? – вдосталь и досыта нахлебались они горько-соленого, как океанская вода, разочарования».
И в этой океанской воде Иберийский полуостров, по неведомой причине отколовшийся от Европейского континента и превратившийся в «Каменный плот», поплывет… Куда? Зачем? А вот мы и узнаем. Что случится, если тихий издательский корректор, готовя к печати «Историю осады Лиссабона», вставит в одном месте отрицательную частицу? Как там дальше будут развиваться события португальской истории? Узнаете, если сумеете погрузиться в бесконечные, лишенные членения на абзацы периоды этой прозы, где реплики героев перебиваются – или подхватываются – голосом автора, где диалоги «утоплены» в повествовании, «вьющемся и ветвящемся», со своим особым синтаксисом и пунктуацией.
А о том, что происходит в его новом, самом последнем романе, вышедшем в свет поздней осенью прошлого года, можно судить уже по первой фразе. Но – не судите, да не судимы будете. Лучше прочтите.
Александр Богдановский
2006
Пилар – моему дому
Мы все меньше знаем о том, что такое человек.
«Книга Предупреждений»
Подумай, например, еще раз о смерти – и ты в самом деле удивишься, что не познал благодаря этому явлению новые понятия, новое поле действия языка.
Витгенштейн[1]
На следующий день никто не умер. И это обстоятельство, вопиющим образом противоречившее законам бытия, породило в умах жесточайшее смятение, с любой точки зрения более чем оправданное, ибо достаточно будет вспомнить, что, перелопатив или, если угодно, прошерстив сорок томов всемирной истории, не найдешь ни единого упоминания о таком поистине феноменальном случае, не нароешь никаких сведений о том, чтобы за целые сутки со всем их двадцатичетырехчасовым изобилием, расчлененным на утренние, дневные, вечерние и ночные куски, никто не скончался от болезни, не погиб в результате несчастного случая, не свел счеты с жизнью. Не было даже столь частых в праздничные дни аварий со смертельным исходом, иначе именуемых автокатастрофами, когда ликующая бесшабашность и избыток алкоголя бросают друг другу вызов на дорогах, стремясь – вот уж подлинно – определить, чья машина сумеет доставить их к гибели первой. Канун нового года не принес обычного и бурного потока смертей, и казалось, что ощеренная старуха Атропос [2]решила на денек отложить свои ножницы. Кровь, впрочем, лилась, и в немалом количестве. Пожарные, растерянные и оторопелые, извлекали из-под руин искалеченных людей: по всей математически выверенной логике катастроф им полагалось находиться в состоянии, определяемом формулой «мертвей не бывает», а они, однако же, несмотря на тяжелейшие ранения и несовместимые с жизнью травмы, оставались живы и живыми доставлялись под душераздирающий вой сирен в больницы. Никто не умер по дороге, зато все, как один, в ближайшее время опровергли неутешительные прогнозы врачей. Бедняга безнадежен, нам тут делать нечего, не стоит даже и начинать, тут медицина бессильна, говорил хирург операционной сестре, помогавшей ему натянуть маску. Тем не менее несчастный, который еще вчера был обречен, сегодня умирать отказывался. И такое творилось по всей стране. До самой полуночи последнего в году дня еще находились люди, намеренные принять смерть с неукоснительным соблюдением правил: и те, кто обращался к голой, так сказать, сути дела – а суть в том, что кончилась жизнь, – и те, кто тешился многочисленными ее свойствами и качествами, в которые она, эта самая пресловутая и вышепомянутая суть, с большей или меньшей шумихой и помпой склонна облекаться в смертный час. Самый примечательный случай – имея в виду персону, с которой он произошел, – относился к весьма и весьма престарелой, всеми глубоко почитаемой королеве-матери. В двадцать три часа пятьдесят девять минут тридцать первого декабря ни один простак не дал бы за ее жизнь и горелой спички. Всякая надежда исчезла, врачи вынуждены были капитулировать перед лицом неумолимой очевидности, августейшая же семья, в строгом порядке престолонаследия окружив одр болезни, безропотно ожидала, когда глава рода испустит последний вздох или коснеющим языком произнесет несколько прощальных слов, обращенных ли как моральное увещевание-завещание к любимым внукам, в виде красиво округленной ли фразы призванных остаться в неблагодарно-дырявой памяти грядущих поколений верноподданных. Но ничего не произошло, а время будто замерло. Королеве-матери не становилось ни лучше, ни хуже, и иссохшее тело ее балансировало на грани бытия, ежесекундно грозя за эту грань соскользнуть, но еще вися на тонкой нити, которую по неведомой прихоти продолжала удерживать смерть – а то кто же. А мы тем временем переместились в следующий день, когда, как уже было сказано в самом начале нашего повествования, никто не умер.
И день этот уже сильно продвинулся за середину, когда разнесся и пошел гулять слух о том, что с наступлением нового года, а точнее говоря – с нуля часов первого января, никто во всей стране больше не умрет. Можно было бы предположить, что источником этого слуха послужило поразительное упорство, с коим королева-мать цеплялась за жалкие остатки своей жизни, тем более что ведь и медицинский бюллетень, распространенный пресс-службой двора через средства массовой информации, не только подтверждал, что в состоянии ее величества за ночь произошли заметные изменения к лучшему, но и указывал, осторожно выбирая слова, на значительную вероятность полного выздоровления. Слух, что вполне естественно, мог быть пущен и каким-нибудь похоронным агентством: Похоже, что в первый день нового года остались мы на бобах, – или больничным персоналом: Этот наш, из двадцать седьмой, ни мычит, как говорится, ни телится, – или дорожной полицией: Просто мистика какая-то, столько аварий на трассах, и ни одного убитого, чтобы задать остальным острастку. Итак, слух, источник которого установить удалось лишь впоследствии, и то лишь благодаря дальнейшему развитию событий, оказавшихся весьма и весьма значительными, очень скоро проник в газеты, на радио и телевидение, достигнув ушей директоров и главных редакторов – людей, не просто умеющих издали, верхним, так сказать, чутьем улавливать события мирового значения, но и натасканных в случае надобности значение это еще и раздувать. В считаные минуты оказались на улицах десятки репортеров, расспрашивающих всех встречных и поперечных, а во взбудораженных редакциях встрепенулись и ожили батареи телефонов и начались лихорадочные опросы. Последовал шквал звонков в больницы, в Красный Крест, в морги, в похоронные конторы, в разнообразные полиции, за исключением, ясное дело, тайной, а ответы поступали на удивление однообразные и краткие: Смертей не зафиксировано. Больше повезло одной юной тележурналистке: прохожий, поглядывая то на нее, то в объектив камеры, поведал о случае, виденном собственными глазами и бывшем точной копией случая с королевой-матерью. Незадолго до полуночи, рассказал он, как раз перед тем, как с колокольни донесся последний удар курантов, мой дед, находившийся при последнем издыхании, вдруг открыл глаза, как если бы раскаялся в своем намерении умирать – и не умер. Журналистка пришла от всего услышанного в такой раж, что, не внемля ни жалобам, ни пеням: Что вы делаете, я не могу, мне надо в аптеку, дедушка ждет лекарства, – втащила прохожего в редакционный фургончик, приговаривая: Давайте, давайте, никакого лекарства деду вашему уже не нужно, – и машина, рванув с места, понеслась в студию, где в этот самый миг завершались последние приготовления к дебатам между тремя специалистами по паранормальным явлениям, а точнее говоря, двумя заслуженными колдунами и одной знаменитой ясновидящей, срочно вытребованными на телевидение, дабы проанализировать и объяснить то, что иные острословы, для которых нет ничего святого, уже успели окрестить «недолетальным исходом». Помянутая нами репортерша совершила грубую ошибку, ибо истолковала слова своего источника так, будто старик, в буквальном смысле стоявший одной ногой в могиле, раскаялся в том шаге, который уже был готов совершить: то есть преставиться, загнуться, сыграть в ящик, – и решил отыграть назад. А между тем слова счастливого внука: Как если бы раскаялся, – сильно отличались от решительного: Раскаялся. Так что более тесное знакомство с тонкостями синтаксиса и особенностями глагольных форм в различных наклонениях помогло бы избежать недоразумения и последовавшей за ним выволочки, которую пунцовая от стыда и унижения журналистка огребла от своего непосредственного начальника. Впрочем, ни он, ни она не могли и представить себе, что прозвучавшие в прямом эфире, а в вечернем выпуске новостей повторенные в записи слова будут миллионами людей истолкованы в том же превратном смысле, который в самом ближайшем будущем возымеет столь обескураживающее последствие, как возникновение организации граждан, твердо уверенных, что простым напряжением воли можно победить смерть и что, значит, незаслуженное исчезновение такого количества людей с лица земли объяснялось лишь прискорбным слабоволием многих и многих предшествующих поколений. Тем, однако, дело не кончилось. Поскольку люди, не прилагая к этому ни малейших усилий, продолжали не умирать, возникло еще одно массовое движение, и уж оно-то, опьяненное радужнейшей из перспектив, громогласно объявило, что золотой сон человечества, томивший его от начала времен, – счастливое обладание вечной жизнью на этом свете – сбылся и сделался общим достоянием, вроде солнца, которое восходит ежедневно, или воздуха, которым дышат все. Хоть оба движения оспаривали, так сказать, симпатии одного и того же электората, они все же сумели прийти к согласию, заключить союз и выбрать своим почетным председателем человека, явившего дарования предтечи, – того самого отважного старикана, который в высший миг сумел бросить вызов смерти и одолеть ее. По имеющимся у нас сведениям, ни малейшего значения не возымело то обстоятельство, что неугомонный дедок пребывал в глубокой коме и, по всем приметам, выходить из нее не собирался.
Притом что словосочетание «правительственный кризис» не вполне подходит для характеристики тех единственных в своем роде событий, о коих мы намерены рассказать, ибо истинной нелепостью, неуместной и попирающей законы обыденной логики, было бы именовать так экзистенциальную ситуацию, сложившуюся из-за отсутствия смерти, поясним все же, что сколько-то граждан, сильно озабоченных своим правом получать достоверную информацию, принялись спрашивать самих себя и друг друга, какого лешего власти не подают никаких признаков жизни. Впрочем, министр здравоохранения, отловленный по пути с одного совещания на другое, объяснил журналистам, что в связи с полным отсутствием рациональных объяснений любое заявление правительства будет выглядеть вопиюще преждевременным: Мы накапливаем, добавил он, информацию, стекающуюся к нам со всех концов страны, и, пусть до сих пор не поступило никаких сведений о хотя бы единичном случае смерти, нетрудно представить себе, что сотрудники вверенного мне ведомства, пребывая в столь же глубоком удивлении, сколь и весь народ, попросту еще не готовы высказать свои соображения о таком феномене, равно как и о его последствиях, будь то ближайшие или отдаленные. О, если бы министр тут и остановился, то с учетом необычности ситуации мог бы рассчитывать на признательность граждан, но неизбывное стремление по любому поводу призывать их к спокойствию, этот тропизм[3], сделавшийся второй натурой политиков, тем паче – политиков у власти, эта машинальность, эта доведенная до автоматизма реакция завела его в опасные дебри, заставив добавить к сказанному еще и такие слова: Я как должностное лицо, отвечающее за здоровье нации, даю честное слово всем, кто слышит меня, что для тревоги никаких оснований нет. Если я правильно понял, тотчас заметил какой-то журналист, стараясь, чтобы его тон не показался чересчур ироническим, по мнению господина министра, нас не должно тревожить то, что никто не умирает. Чистая правда, хоть и выражено другими словами. В таком случае, господин министр, позвольте мне напомнить, что еще вчера люди умирали, однако никому и в голову не приходило по этому поводу тревожиться. Ну разумеется, мы привыкли, что люди умирают, и начинаем тревожиться, лишь когда смертность чрезмерно возрастает, как случается во время войны или, скажем, эпидемии. То есть когда нарушается рутина. Можно и так сказать. Но теперь, когда никто больше не умирает, ваш призыв к спокойствию кажется мне по меньшей мере парадоксальным. Велика сила привычки, и, признаюсь, не следовало в данном случае произносить слово «тревога». А какое же – следовало, я, господин министр, спрашиваю потому только, что как журналист, сознающий обязательства, налагаемые на него профессиональным долгом, всегда стараюсь употреблять наиболее точные понятия. Министр, слегка раздосадованный такой настойчивостью, ответил сухо: А следовало бы произнести не одно слово, а пять. Какие же, господин министр. Не будем питать несбыточных надежд. Без сомнения, превосходный получился бы заголовок на первую полосу завтрашнего номера, однако редактор, посоветовавшись с главным редактором, счел безрассудным – и с точки зрения маркетинга тоже – глушить пламень народного ликования таким ушатом ледяной воды и распорядился поставить всегдашнее: Новый Год, Новая Жизнь.
В правительственном заявлении, распространенном уже глубокой ночью, премьер-министр, подтвердив, что по всей стране, начиная с Нового года, не отмечено ни единого случая смерти, призвал к взвешенным и ответственным оценкам и трактовкам происходящего, напомнил о возможности случайного совпадения, проистекающего от магнитных бурь или иных космических возмущений, о вероятном воздействии исключительного и крайне непродолжительного сочетания факторов, приведших к нарушению равновесия пространства и времени, и добавил, что в любом случае уже предприняты шаги по взаимодействию с компетентными международными организациями, каковые шаги имеют целью помощь правительству, деятельность которого будет тем эффективней, чем лучше будут скоординированы его усилия. Произнеся всю эту псевдонаучную белиберду, призванную опять же внести умиротворение в умы, воспаленные непостижимым, премьер заявил, что власти готовы к любым неожиданностям и при поддержке населения рассчитывают встретить во всеоружии весь тот комплекс социальных, политических, моральных и экономических проблем, который, вне всякого сомнения, будет вызван к жизни отмиранием смерти в том более чем вероятном случае, если это и вправду случится. Примем брошенный нам вызов бессмертия, воскликнул глава кабинета несколько экстатически, если такова воля господа, мы же не устанем возносить ему в наших молитвах благодарность за то, что именно наш славный народ избрал он своим орудием. Все это означает, прибавил он про себя, завершив чтение, что вляпались мы, кажется, весьма основательно. О, знал бы он, что «основательно» в данном случае означает – даже не по шейку, а выше головы. Еще полчаса минуло в зыбком спокойствии, а потом в лимузин, увозивший премьера домой, позвонил кардинал. Добрый вечер, господин премьер. Добрый вечер, ваше высокопреосвященство. Звоню сказать, что я в шоке. Да и я тоже, положение очень серьезно, ни с чем подобным наша страна за всю свою историю до сей поры не сталкивалась. Да не о том речь. А о чем же тогда. О том более чем плачевном обстоятельстве, что вы, господин премьер-министр, зачитывая свое заявление, не сочли нужным вспомнить о краеугольном камне, о замке свода, о несущем перекрытии святой нашей веры. Виноват, ваше высокопреосвященство, боюсь, я не вполне улавливаю нить. Тогда слушайте, господин премьер-министр, в оба уха: без смерти нет воскресения, а без идеи воскресения нет религии. Вот дьявол. Что-что, простите, я не расслышал, повторите, пожалуйста. Нет-нет, ваше высокопреосвященство, я молчу, это, наверно, помехи, так сказать, интерференция, статические разряды, а может быть, покрытия нет, со спутниковой связью такое случается, не обращайте внимания, итак, вы говорили, что. Я говорил, что каждый католик, а вы, господин премьер-министр, не исключение, обязан знать, что церковь зиждется на идее воскресения, а кроме того, как могло вам прийти в голову, что бог способен желать собственного своего конца, утверждать подобное – значит совершать тягчайшее из богохульств, прямое святотатство. Да помилуйте, ваше высокопреосвященство, не говорил я, что бог желает собственного своего конца. Так прямо, может быть, и не говорили, однако же допустили возможность того, что бессмертие плоти нам даровано волей всевышнего, и не надо быть доктором трансцендентальной логики, чтобы понять – кто сказал одно, сказал и другое. Ваше высокопреосвященство, да это же риторическая фигура, ораторский прием, призванный произвести впечатление, не более того, политика, сами знаете, требует. Церковь тоже много чего требует, господин премьер, но мы семь раз отмеряем, прежде чем отрезать, взвешиваем каждое слово до того, как произнести его, и если бросаем слова на ветер, то берем поправку и рассчитываем самый отдаленный эффект, ибо наше дело, если желаете доходчивый пример, сродни баллистике. Я в отчаянии, ваше высокопреосвященство. На вашем месте я бы тоже был в отчаянии, и после этих слов кардинал, помедлив и словно давая снаряду время долететь до цели и разорваться, добавил уже мягче и сердечней: Хотелось бы знать, господин премьер, ознакомлен ли с вашим заявлением его величество. Ну разумеется, ваше высокопреосвященство, можно ли было поступить иначе в столь деликатном деле. И что же сказал вам наш государь – если это не государственная тайна. Одобрил. И в каких же выражениях. Потрясающе. Что – потрясающе. Его величество сказал мне: Потрясающе. То есть он тоже богохульствовал. Я, ваше высокопреосвященство, не считаю себя вправе выносить такого рода суждения, с меня хватает и собственных моих промахов. Мне придется иметь беседу с королем и напомнить ему, что в столь сложном, запутанном и деликатном деле лишь неукоснительно строгое следование доктринам святой нашей матери-церкви способно спасти страну от грозящего ей хаоса. Вам видней, ваше высокопреосвященство, вам и карты в руки. И я спрошу его величество, что предпочтительней: чтобы королева-мать вечно пребывала на смертном одре, подняться с коего ей не суждено, и бренная, распадающаяся оболочка продолжала удерживать ее бессмертную душу или же – чтобы она, смертью смерть поправ, в сиянии вечной славы вознеслась к небесам. Ответ очевиден. Разумеется, но вопреки тому, что вы думаете, господин премьер, меня интересуют не столько ответы, сколько вопросы, причем – наши вопросы: обратите внимание, что обычно они разом содержат и находящуюся на виду цель, и скрытое позади намерение, и торят дорогу будущим ответам. Примерно так обстоят дела и в политике, ваше высокопреосвященство. Да-да, но преимущество церкви – хоть иногда так вовсе не кажется – в том, что она, имея дело с верхом, управляет низом. Последовавшую паузу нарушил премьер: Я уже почти дома, ваше высокопреосвященство, но позвольте коротенько осведомиться еще об одном. Прошу. Как быть церкви, если никто никогда больше не умрет. «Никогда больше», господин премьер-министр, это слишком общо даже по отношению к смерти. Сдается мне, ваше высокопреосвященство, что это не ответ. Ах, не ответ – так вот вам встречный вопрос: что предпримет государство, если никто никогда больше не умрет. Да государство-то постарается выжить, а вот каково придется церкви. А церковь, господин премьер-министр, до такой степени привыкла отвечать на вечные вопросы, что в другой роли я ее и вообразить себе не могу. Даже если это вступает в противоречие с действительностью. Мы с самого начала только тем и занимались и на том, с позволения сказать, стоим. А что скажет папа. На его месте – прости мне, господи, вздорную суетность! – я немедленно приказал бы пустить в обращение новую доктрину, а именно – доктрину отложенной смерти. И никаких объяснений. Церковь никогда ничего не просили объяснить, у нее другое ремесло: помимо баллистики, наше дело – верой смирять чересчур любопытный дух. Доброй ночи, ваше высокопреосвященство, всего хорошего, завтра увидимся. Если бог даст, господин премьер-министр, всегда и неизменно – если бог даст. По состоянию дел на текущий момент сомнительно, чтобы не дал и отменил наше свидание. Не забудьте, господин премьер-министр, что за рубежами нашей страны люди мрут исправно, как ни в чем не бывало, и это добрый знак. Как сказать, ваше высокопреосвященство, быть может, соседи видят в нашей стране оазис, эдем, новоявленный рай. Приглядись они получше, увидели бы ад. Доброй ночи, ваше высокопреосвященство, желаю вам почивать спокойно и крепко. Доброй ночи, господин премьер-министр, и если смерть сегодня решит вернуться к нам, пусть не спохватится и не вспомнит о вас. Если справедливость в этом мире – не звук пустой, королеве-матери идти прежде меня. Обещаю не передавать ваши слова королю. Я вам чрезвычайно признателен, ваше высокопреосвященство. Доброй ночи. Доброй ночи.
В три часа ночи кардинала доставили в клинику с острым приступом аппендицита, потребовавшим немедленного хирургического вмешательства. Прежде чем черный туннель анестезии всосал прелата в себя, в тот быстрый миг, который предшествует полному отключению сознания, он, как и многие-многие другие до него, подумал, что может уже и не проснуться, потом вспомнил, что подобный исход теперь невозможен, и, наконец, последней вспышкой пронеслась в голове мысль о том, что, если он умрет, это будет означать, что таким вот парадоксальным образом все же сумел победить смерть. Охваченный неистовым восторгом самопожертвования, кардинал хотел было попросить бога, чтобы убил его, но расставить слова в должном порядке уже не успел. Наркоз избавил его от неслыханного святотатства – вверить полномочия смерти тому, кто больше известен как дарующий жизнь.
Хоть и немедленно поднятое на смех конкурирующими изданиями, сумевшими вырвать у вдохновения своих главных редакторов самые разнообразные и обстоятельные заголовки – попадались среди них драматические, встречались лирические, нередки были также философические и подернутые дымкой мистицизма, а то и проникнутые умилительным простодушием, которым решила, например, довольствоваться некая массовая ежедневная газета, завершившая вопль ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ С НАМИ БУДЕТ завитым хвостиком вопросительного знака, – однако уже упомянутый нами заголовок на всю полосу НОВЫЙ ГОД, НОВАЯ ЖИЗНЬ при всей своей вопиющей банальности пролился бальзамом – неким, стало быть, банальзамом – на душу кое-кому из тех, кто по природной душевной склонности либо обкушавшись плодов просвещения ставит превыше всего незыблемость более или менее прагматичного оптимизма, даже если имеются веские основания подозревать, что дело идет о чистейшей и к тому же мимолетной мнимости. Живя, вплоть до вдруг нагрянувших дней смятения, в мире, который они считали лучшим из всех возможных и вероятных, люди эти, к безмерной своей отраде, обнаружили, что теперь у них на глазах происходит кое-что совсем уж замечательное, что уже на самом пороге стоит невероятная, расчудесная жизнь, где не будет каждодневного страха перед лязгом пресловутых ножниц парки, где никому не вручат письмо, вскрыв которое в урочный час узнаешь, куда надлежит тебе с получением сего отправляться – в рай, в чистилище или в ад, – где сгинет тот перекресток, на котором еще так недавно расходились в разные стороны наша жизнь в сей слезной юдоли и сужденный нам, дорогие товарищи, загробный удел. И потому ничего не оставалось скептически или хотя бы сдержанно настроенным изданиям, а вкупе с ними – телевизионным и радиопрограммам, как броситься в эти прибойные волны всеобщего ликования, захлестывавшие страну с севера на юг и с запада на восток, охлаждавшие воспаленные мозги маловеров и уносившие прочь, с глаз долой, тень кладбищенского кипариса, которая, как известно, далеко падает. По прошествии известного срока и по обнаружении того, что и в самом деле никто не умирает, пессимисты и скептики – сначала поодиночке, потом малыми ручейками, а потом и целыми реками – стали втекать в разливанное море своих сограждан, которые использовали малейшую возможность выйти на улицу и криком прокричать, что вот теперь наконец жизнь и вправду прекрасна.
А потом одна недавно овдовевшая дама, не сыскав иного способа выразить переполнявшее ее счастье – и дай бог, если к нему примешивалась легчайшая печаль от сознания того, что раз она не умрет, то никогда больше не увидит многажды оплаканного мужа, – подумала: а не вывесить ли ей на своем украшенном цветами балконе государственный флаг. Это был тот самый случай, когда сказано – сделано. Не прошло и сорока восьми часов, как флаги запестрели по всей стране, заполонили весь пейзаж, причем в городе оказались заметнее по той очевидной причине, что висеть в окне или на балконе – не то что в чистом поле. Противостоять общему патриотическому подъему было решительно невозможно еще и потому, что откуда ни возьмись, то есть из неведомого источника, стали распространяться пламенные – чтобы не сказать, откровенно угрожающие – заявления вроде такого, например: Кто не вывесит бессмертный стяг нашей отчизны у себя в окне, не заслуживает того, чтобы оставаться в живых. С флагами по улицам не шатались только те, кто раньше и почти насильно успел всучить их бесфлажным согражданам со словами: Присоединяйся к нам, будь патриотом, купи флаг. Купи еще один. И третий тоже. Бей врагов жизни, жалко, что нельзя до смерти. Улицы превратились в настоящий рыцарский стан: повсюду виднелись развернутые знамена, развевавшиеся на ветру, при наличии, конечно, ветра, а при отсутствии его шел в ход электрический вентилятор, и если мощи его не хватало для того, чтобы полотнище, обретя мужественную упругость, вилось и струилось в воздухе, щелканьем своим вселяя ликование в воинственные души, то, по крайней мере, обеспечить достойное колыхание сей прибор мог. Находились, конечно, хоть и в небольшом числе, такие, кто втихомолку твердил, что, мол, это чересчур, что это перебор, что весь этот лес флагов когда-нибудь все равно придется убрать, а потому чем раньше это сделать, тем лучше будет, ибо как переслащенный пирог нехорош на вкус и вреден для желудка, точно так же и символы государственности станут посмешищем, если мы допустим, чтобы нормальное, более чем законное уважение к ним скатилось до такого вот явного непотребства, которое схоже с действиями эксгибициониста, распахивающего свой недоброй памяти плащ. И потом, говорили они, если знамена вывешены, извините за тавтологию, в ознаменование столь знаменательного события – смерть перестала собирать свою жатву, – то, значит, одно из двух: либо мы их уберем, не дожидаясь отрыжки, неизбежной при столь неумеренном потреблении национальной символики, либо до конца дней своих, читай – до бесконечности, да-да, вот именно: до бесконечности, до скончания века, которое не настанет никогда, – будем менять их всякий раз, как они вылиняют на солнце, сгниют от дождей или порвутся под ветром. Немного, очень немного нашлось тех, кто осмеливался так вот, на людях, влагать персты в рану, а одному бедолаге вломили за его антипатриотическое злопыхательство столь крепко, что он и выжил-то лишь потому, что с начала года смерть приостановила в этой стране свою деятельность.
Но жизнь – она так уж устроена, что рядом с теми, кто смеется, всегда отыщутся те, кто плачет, причем, как будет явствовать из нижеследующего, причина для смеха и слез – одна и та же. Кое-какие весьма влиятельные профессиональные сообщества, всерьез обеспокоившись развитием ситуации, стали мало-помалу высказывать свое недовольство. Как и следовало ожидать, первыми облекли его в юридическую форму похоронные бюро. Грубо отторгнутые от сырьевых ресурсов, капитаны этой индустрии поначалу на классический манер заломили руки и взвыли хором плакальщиц: Ах, да на кого ж ты меня покинула, – однако вслед за тем, осознав, что от неминуемого краха не спасется ни один из представителей их сословия, созвали съезд, итогом работы которого после споров, жарких и ожесточенных, но совершенно бесплодных, ибо все попытки выправить положение отрасли без участия смерти, каковое участие многие поколения гробовщиков и могильщиков привыкли воспринимать просто как дар природы, можно было смело уподобить стремлению прошибить головою каменную стену, да, так вот, значит, съезд, итогом которого стало обращение к правительству, содержавшее единственное предложение, столь же плодо-, сколь и смехотворное, о чем честно предупредил председательствующий: Над нами потешаться будут, но иного выхода нет, либо это, либо гибель всего нашего похоронного дела. Мы, делегаты чрезвычайного съезда, говорилось в обращении, созванного для рассмотрения средств борьбы с тяжелейшим кризисом, постигшим отрасль в связи с повсеместным прекращением смертей, после всестороннего и тщательного анализа ситуации и ни на миг не забывая о высших интересах народа, пришли к единодушному выводу: избежать катастрофических последствий обрушившегося на нас бедствия, страшнее которого не переживала наша отчизна за все время своего существования, возможно лишь в том случае, если правительство специальным постановлением предпишет обязательное захоронение или кремацию всех домашних животных, погибших как от естественных причин, так и в результате несчастного случая, возложив регламентированное должным образом исполнение вышеуказанных мероприятий на похоронные бюро и агентства, сотрудники коих, из поколения в поколение совершенствуя свое мастерство, зарекомендовали себя истинными радетелями народного блага и явили высокие примеры самоотверженного служения обществу на ниве ритуальных услуг в самом глубоком и полном значении этого понятия. Далее в письме говорилось: Обращаем внимание правительства на то обстоятельство, что безотлагательное возрождение и неотъемлемая от него переориентация отрасли неизбежно потребуют значительных капиталовложений, ибо одно дело – проводить к месту последнего упокоения человеческую особь и совсем другое – предать земле прах кота или канарейки, не говоря уж о слоне из цирка или крокодиле из зверинца, то есть должен быть предусмотрен коренной и всесторонний пересмотр нашего традиционного ноу-хау, в чем поистине неоценимую помощь окажет нам уже накопленный опыт, который ныне будет распространен на устройство кладбищ для животных и захоронение последних, или, иными словами, превращение побочной, хотя и, не станем отрицать, высокодоходной формы деятельности в единственную и исключительную, благодаря чему возможно будет избежать увольнения сотен, если не тысяч, тех самоотверженных и ревностных работников, которые, на протяжении стольких лет ежедневно и бестрепетно видя перед собой ужасающий лик смерти, ни в малейшей степени не заслужили того, чтобы ныне она поворачивалась к ним спиной. В заключение, господин премьер-министр, во имя жизненно необходимой защиты профессии, тысячелетиями доказывавшей свою нужность и полезность обществу, мы убедительно просим не только как можно скорее принять по нашему ходатайству благоприятное решение, но и в кратчайшие сроки открыть для восстановления элементарной справедливости кредитную линию и предоставить нам беспроцентный долговременный заем, который, несомненно, будет содействовать скорейшему оживлению того сектора экономики, чье существование впервые подвергается угрозе, какой не знавала не только история, но, вероятно, даже эпохи, называемые доисторическими, ибо нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах не может и не должен окончивший свой земной путь представитель рода человеческого лишиться того, кто рано или поздно предаст его тело земле, если только сама земля не разверзнется, великодушно предоставляя покойному последний приют в своем лоне. С уваженьем, дата, подпись.
Вслед за тем и администрация больниц, госпиталей и клиник, как частных, так и государственных, без промедления принялась стучаться в двери министерств здравоохранения и социальной опеки, дабы высказать их руководителям свои опасения, которые, как ни странно, лежали в сфере логистики, а не чистой медицины. Было заявлено, что в постоянно движущейся цепочке, звеньями коей являются больные и два разряда переставших быть таковыми: одни выздоровели и выписались, другие перешли в разряд покойников, случилось, с позволения сказать, нечто вроде короткого замыкания, а если не употреблять термины электротехники, то – пробка: не та, что перегорает, а та, что на дорогах: короче говоря, постоянно увеличивалось число пациентов, которым по тяжести заболевания или травм, полученных в результате какого-нибудь несчастного случая, в обычных обстоятельствах давно уже полагалось бы переселиться в лучший мир. Положение серьезное, твердило больничное начальство, мы уже размещаем пациентов в коридорах, и все указывает на то, что в ближайшее время столкнемся с нехваткой уже не только кроватей, но и помещений, ибо все они, включая комнаты для персонала, будут заполнены. И заявляло, что, поскольку имеющийся способ решить эту проблему задевает, пусть и по касательной, клятву Гиппократа, решение это, будет принято, должно быть не медицинским и не административным, но политическим. Умный понимает с полуслова, и министр здравоохранения, посоветовавшись с главой правительства, издал следующее распоряжение: Учитывая непрекращающийся наплыв больных в стационары, грозящий значительно осложнить бесперебойное функционирование всей лечебной системы и являющийся прямым следствием резкого увеличения количества пациентов, которые находятся при смерти и будут пребывать в этом состоянии неопределенно долгое время – причем без надежды на улучшение или хотя бы положительную динамику до тех, по крайней мере, пор, пока стремительно развивающаяся медицинская наука не предложит новые лекарственные средства и лечебные методы, – правительство рекомендует администрациям больниц после тщательного и всестороннего осмотра каждого пациента, осмотра, долженствующего подтвердить необратимость процессов, ведущих к летальному исходу, передавать таких больных на попечение родственников, но при этом обязывает, тем не менее, руководителей медицинских учреждений обеспечивать проведение всех клинических исследований и лечебных мероприятий, которые домашние/семейные врачи признают необходимыми или хотя бы желательными. Настоящее решение основывается на весьма убедительном предположении о том, что пациенту, постоянно находящемуся при смерти, постоянно отодвигающейся, должно быть чуть менее чем безразлично – даже в редкие моменты просветления, – где именно он пребывает: в переполненной ли больничной палате или в лоне семьи, поскольку ни там, ни здесь он не сможет ни умереть, ни выздороветь. Пользуясь случаем, правительство доводит до сведения граждан, что полным ходом проводятся исследования, призванные установить остающиеся до сей поры невыясненными причины внезапного исчезновения смерти. Сообщаем также о том, что недавно образованной экспертной комиссии, в состав которой вошли священнослужители различных конфессий и представители различных философских направлений – этим всегда есть что сказать по данному поводу, – поручено разобраться в столь тонкой и щепетильной проблеме, как бессмертие, и одновременно выработать хотя бы примерный перечень ожидающих наше общество проблем, первая и главная из которых формулируется таким жестоким вопросом: Что нам делать со стариками, если больше не приходится рассчитывать на то, что смерть, как бывало прежде, урежет избыток их капризов и чудачеств.