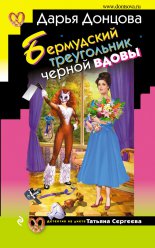Клуб одноногих Тремасова Светлана
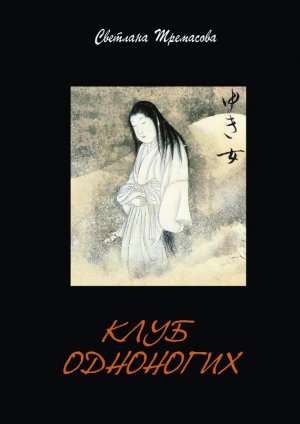
Но бессонными ночами, оглядывая обновленную комнату, она тихонько плакала. «Я – птица, теперь я тупая птица, я вью свое гнездышко, я бегаю в поисках вкусного червячка для ребенка, новых туфель, обоев, полки для ванной… я чищу перышки и прихорашиваюсь перед зеркалом, я начинаю уже чирикать иногда с соседками, и уже мужчина с третьего этажа смотрит на меня подчеркнуто-вежливо, а бабки кудахчут, что он разведенный…» – плакала ночами Лили и не могла смириться.
На очередной Женский день в марте, неожиданно нарушив кухонную традицию, ей подарили аккуратный черный пенал, в котором лежала сияющая матовым блеском красная авторучка. Лили взяла ее в руку, почувствовала приятную тяжесть и холодок корпуса, и поняла, что получила средство открыть еще один зудящий зажим, перекрывающий воздух для воплощения. И Лили стала время от времени записывать свои воспоминания о том, как она жила в снах. Потому что ни одна птица, как высоко бы она ни взлетела, не сможет достичь той глубины, которой без труда достигает рыба… Птичья безмятежность по сравнению с рыбьей – суета сует, хотя бы потому, что ни одна самая прекрасная птичья песня не сравнится с красотой рыбьего молчания…. Ведь только рыбе доступны все моря – земные и небесные. Птица летает вокруг Земли, а рыба плавает во Вселенной… И скорей бы уж стать этой птицей, чтобы потом снова иметь возможность становиться рыбой…
Глава пятая
О Серафиме и новом полете Лили
Серафим вернулся, к всеобщему удивлению тех, кто его знал и думал, что африканцы в сибирских лагерях всегда замерзают насмерть. Но Серафим сказал, что Мордовия находится вовсе не в Сибири, а всего в 650 километрах отсюда, объяснил, что мордвы не существует вовсе, а есть эрзяне и мокшане, и рассказал, как в лагере ему помогали жить эрзянские песни, которые он выучил.
Серафим пришел ко мне, в дом на Рождественской, так как идти ему больше было некуда. Он принес авоську апельсинов и хотел повидаться с Лили и сынулей. Но их не было. Я предложил ему остаться, подождать, когда Лили придет, потому что в квартиру на Гражданскую Сима идти не решался.
Мы ждали Лили несколько дней, съели все апельсины и выпили много пива, пока решали, как же Серафиму жить дальше. Он настаивал на том, что нужно поехать в Америку и встать возле Белого дома с лозунгом: «Марк Твен – объективная историческая реальность! Верните народу его книги! Долой политическое давление на историю и культуру!» – кто-то сказал ему, что в Америке запретили романы Марка Твена. Оставалось только придумать, как добраться до Америки.
Лили сказала, что это, конечно, неплохая идея, и тут же придумала, как до Америки добраться. План Лили был, конечно, довольно долгосрочным, но другого не было.
Наутро Сима поселился на другом конце коридора – в одной из комнат, принадлежащих когда-то одной очень большой семье, которой, как мне кажется, принадлежала и наша соседка – древняя сирая старушка, все время сидевшая на пне у ворот. Но их было так много, что потеря одного из членов семьи на конечном счете, видимо, никак не отразилась.
Мы выволокли из-за сараев старую, облезлую, помятую и местами поломанную будку, которая раньше принадлежала мужу Валентины, и принялись за ее починку. Валентина отдала нам все мужнины инструменты, которые уже, наверное, лет двадцать лежали так, как он их оставил.
Сима теперь почти каждый день в самые людные часы ходил в другой район города к центральному рынку, ставил перед собой пустую коробку и пел песни на английском и эрзянском языках – так он зарабатывал. В свободное время мы с ним ходили на помойки, и вскоре в пустой комнате Симы появился письменный стол без ящиков, тумбочка без крышки, мягкий стул без спинки, но на крутящейся ножке, а также совершенно не рваный и поновее даже, чем мой, диван, клетка для попугая и маленький, но работающий холодильник.
Будку мы починили, выкрасили в желтый цвет, написали на ней «Ремонт обуви» и поставили недалеко от перекрестка, возле ворот нашего дома, а на перекрестке повесили табличку со стрелкой: «Срочный ремонт обуви». Лили подарила Симе оранжевую рубашку и новые джинсы, Сима отпустил модную бородку и стал неотразим и практически неузнаваем (разве что по цвету кожи). План Лили начал работать.
Однажды Лили сидела в своем уголке редакции, вносила последние правки в распечатанные страницы журнала и услышала, как в фойе, где обычно принимали гостей и сотрудники пили чай, под умиротворяющий запах растворимого кофе разругались издатель с редактором. Журналисты в этом издании надолго не задерживались, и это был как раз тот момент, который периодически повторялся в жизни редакции: не осталось ни одного штатного журналиста. А тут, как нарочно, намечено интервью, отказаться от которого – катастрофа, а идти некому: внештатники заняты, у издателя – конференция, у редактора – выставка… к тому же ехать нужно было в один из ближайших небольших городов, и уйдет на это целый день. Лили даже подумать не успела, как вышла и сказала: «Давайте поеду я».
Сперва показалось, что ее даже не узнали – настолько незримо она существовала в редакции: все знали, что Лили есть, но ее никто не замечал – бесперебойно уже лет шесть с электронного почтового ящика Лили редактор получал исправленные тексты и отсылал ей новые, на распечатках неизменно появлялись кружочки, буковки и галочки, поставленные отточенным красным карандашом, на 8 Марта каждый год в уголок Лили ставили традиционную кружку или клали набор кухонных полотенец, которые неизвестно когда и как испарялись… Хотя, если поглубже вникнуть в дело, отчасти текучесть кадров в редакции существовала не только по вине низкой зарплаты, но и по усердию Лили. Часто сюда приходили журналисты совсем молодые, а еще чаще люди, решившие попробовать заняться журналистикой. Тексты их были иногда даже написаны не совсем по-русски, и Лили самоотверженно переписывала их, «переводя» на добротный русский язык. Так новоиспеченный журналист собирал здесь за год неплохое портфолио и находил себе более оплачиваемое место. «Ну вот!» – снова кричал редактор. «Опять! – возмущался директор. – У нас здесь какая-то кузница кадров! Стартовая площадка, а не серьезный журнал!» Но о причастности к этому Лили никто и не задумывался, и не догадывался.
У самой Лили тоже иногда возникали сомнения: нужно ли ей уже столько лет вести такую жизнь невидимки, но эти сомнения приходили, когда в среде окружающих – мамы и соседей, которым она рассказывала о дочериной работе, – прокатывала волна недоуменного возмущения – ну что это за работа?! Да разве это зарплата?! И тогда Лили делала робкие попытки найти работу другую, более динамичную и поденежней, но, увы, работодатели будто не видели и не слышали ее, и после уже перечисленного – грамотно составлять, исправлять, вычитывать, переписывать и писать тексты на разные темы – просили перечислить, что она умеет еще… и на попытках припомнить, что она умеет еще, Лили заваливалась окончательно. Но однажды одна сердобольная женщина с крашеными в непонятный цвет пышными волосами и мелкими лиловыми точками на лице, увидев, как Лили, краснея и бледнея, не знает, что ответить, подсказала ей, что теперь вместо «переписывать тексты» нужно говорить «рерайтинг», а ко всему перечисленному надо добавлять про умение работать в любом цейтноте, про знание навыков тайм-менеджмента (не важно, знаешь ты его вообще или нет) и обязательно про мобильность и креативность – все то же самое, сказанное по-русски, теперь не годится. И с удивлением, шмыгая носом, Лили наблюдала, как эта женщина, как заданную на дом басню Крылова, рассказывала, что она крайне коммуникабельна, мобильна, креативна и цейтнотна, и с довольной улыбкой без лишних вопросов была принята на работу, где зарплата, по меркам Лили, была просто баснословной. Лили попробовала дома перед зеркалом проговорить все то, что должна была сказать при приеме на работу, теми словами, что подсказала ей женщина, и поняла, что никогда она не сможет сказать это уверенно и всерьез – ей было и смешно, и стыдно, и тем более оттого, что она прекрасно знала русские значения этих дурацких слов.
Так потихоньку поиски работы прекращались и не поднимались до следующего колыхания назойливой общественностью этого вопроса.
Лили на всякий случай дали два диктофона – «главное, запиши разговор, а мы потом расшифруем». Дали список вопросов, научили пользоваться фотоаппаратом, заказали билет…
Мистер Тройлебен был вдохновлен и любую самую сухую газетную речь его уста теперь могли бы перевоплотить в удивительный рассказ о чудесных достижениях человечества, а новенький шредер, стоявший у него на столе – в воплощение самой запредельной мечты этого человечества. Рядом в офисных лотках и подставках были ненавязчиво приготовлены и ждали своей гильотины стопка бумаги, пара CD-дисков, скрепки и другая офисная мелочь, которую новенький шредер был готов шутя перемолоть.
Мистер Тройлебен почему-то очень долго выбирал сегодня галстук: ему хотелось надеть раритет – с темно-синими завитками на серебряном фоне – семидесятых годов времен Советского Союза, но в последний момент он сменил его на беспроигрышный в мелкий горошек – журналисты ведь любят писать о разных мелочах, а заскок на галстук семидесятых в статье будет неуместен.
Скоро секретарь объявила о приезде ожидаемого журналиста, и в кабинет вошла Лили… Лили, увидев мистера Тройлебена, решила держаться так, что не обнаружит их прежнего знакомства, если мистер Тройлебен того не захочет. Мистер Тройлебен… вызвал своего помощника и сказал, что тот ответит на все ее вопросы в зале для презентаций. Лили с помощником вышли.
Оставшись один, мистер Тройлебен несколько минут задумчиво сидел за столом – впервые за несколько лет он почувствовал покой и освобождение: все мысли вдруг куда-то испарились, и было безумно хорошо в этом пространстве, в котором все растворилось, и будто бы оставалось и не было одновременно. Потом он вспомнил серебряный галстук с темно-синими завитками и понял, почему так хотел его надеть. Вот уже второй раз встреча с Лили дарила ему прекрасные минуты безоблачного отдохновения, какие бывали, наверное, только в детстве, когда качался на качелях и ощущал, что не ему приходится гнаться под действием времени, а он сам, качаясь, время создает…
Мистер Тройлебен снял с себя галстук, развязал, сунул его широким краем в шредер и нажал на кнопку. Машина загудела, и тут же в лоток потянулась тонкая лапша в мелкий горошек.
Лили все сделала: записала разговор на два диктофона и еще коротко набросала для себя в блокноте, и даже фотографии, как потом оказалось, у нее получились. Обратно она тоже ехала в автобусе, и чувствовалась уже усталость от рано начавшегося и насыщенного дня. Но день еще не закончился. Еще светило солнце, тоже заметно подуставшее за день, по голубому плыли белые облака, и Лили, сидя у окна, думала, что вздремнет часок-другой, убаюканная качкой. Но – нет. Облако на глазах у Лили медленно превращалось то в крокодила, то в коршуна, то в ящерицу… «Вот и я, – думала Лили, – плыву по небу, смотрю на землю, со мной происходят разные метаморфозы – то курица, то рак, – и я счастлива». И автобус быстрым целенаправленным ходом не мог обогнать безмятежно плывущую в небе Лили…
Глава шестая
О том, как И. В. пошла к невропатологу
В начале октября на Рождественской решили отпраздновать день рождения сынули. Купили сладостей, выставили яблоки, сливу и крыжовник, сладкую квашеную капусту, черносмородиновый морс и свежий яблочный сок, наварили желтой рассыпчатой картошки. Серафим принес апельсинов, развел костер и жарил шашлыки из курицы. Из парка, где работала Валентина, перекочевали во двор старые качели-лодочки – когда их выкорчевывали из парковой земли, нам с Симой удалось уговорить мужиков перевезти качели на пустырь возле сараев и совместными усилиями их здесь вкопать. В раскрытые окна из выставленных колонок звучала музыка. На день рождения пригласили весь класс и Ирину Владимировну.
– Весь класс?! Это ж такие расходы! – вырвалось у И. В., когда Лили позвала ее на праздник.
– Ну что вы, – сказала Лили, – мы купим только кур и сладости, а праздновать будем прямо во дворе!
И. В. покосилась на нее недоверчиво.
Тем не менее, в пятницу, сразу после уроков, она привела на Рождественскую всех одноклассников сынули. День был осенний, довольно безрадостный, сухой, ветреный, хотя во дворе за калиткой ветер не буйствовал. Изредка задували его ослабленные струи со стороны пустыря, возникшего от снесенных домишек – школа, обновляясь, расширила горизонт своего двора, благоустроилась, отгородилась чугунной с завитками решеткой, а по эту сторону остались нанесенные земляные холмы, заросшие бурьяном, и между ними, как памятник первому предпринимателю нашей округи – Славке Огурцову, туалет, тот самый, до которого он не дошел и был застрелен.
Сначала, для порядка, детей посадили за составленные в ряд столы, укрытые остатками обоев. Одноклассники нестройным хором поздравили именинника, стоявшего во главе стола. И. В., приобняв его за плечо, громко высказала пожелания от имени всего класса, мы с Лили стояли по бокам, как свидетели. Потом снова под дирижерской рукой И. В. все еще раз, уже стройнее и громче, крикнули «по-здра-вля-ем!» и после тихой команды «ну а теперь ешьте» принялись хватать с тарелок поджаренные куски мяса и к чему кто потянулся.
Именинник сел, я вспомнил, что мы забыли про салфетки, и пошел в дом, Лили проверяла, всем ли всего хватило, а к Ирине Владимировне вовремя подоспел Серафим, от которого она сперва испуганно отшатнулась. Серафим посадил ее возле костра на большую колоду, укрытую фуфайкой, а сам сел на чурбачок, поближе к огню, чтобы следить за мясом. Здесь у Симы стоял маленький столик, на который он и разложил перед И. В. шампур со свежеподжаренным мясом, стакан сока, капустку и огурчики, и, конечно, апельсин, а возле стакана с соком поставил маленькую стопочку с водкой, налил и себе: меня зовут Серафим, Сима. И. В. хотела было отказаться, но Сима хитро и очень обаятельно улыбнулся, стукнул по стопочке стопочкой и глотнул. И Ирина Владимировна выпила. Когда мы с Лили к ним присоединились, они уже говорили о пикниках и как лучше замачивать мясо.
Потом И. В. и Серафим водили с детьми хороводы, играли в кошки-мышки – каждый получил в подарок колокольчик, а тех, кому не хотелось играть с ними, развлекали мы с Лили – катали на качелях, кидали дротики в нарисованную на заборе мишень, стреляли присосками в пластиковые бутылки, рисовали клюквенным морсом и акварелью на скатерти из старых обоев…
И. В. терпеливо ждала. Она боялась показаться навязчивой, но вот уже неделю Серафим не появлялся и ей не звонил. Лили тоже не поднималась в класс, да если бы и поднялась, И. В. не стала бы спрашивать о Симе. Не стала бы. Поэтому и не вызывала, но надеялась столкнуться с ней ненароком на улице и, выходя из школы, вглядывалась в похожие фигуры, оглядывая школьную площадку, и по пути домой – может, Лили ходила на рынок и идет обратно… и, может, она сама ненароком скажет, куда подевался Серафим.
Наконец, она решилась позвонить – просто спросить, все ли в порядке, может, что случилось, надо помочь – и, найдя номер, отчаянно нажала на кнопку вызова. Вместо Симы ответил женский голос и сказал, что такого номера не существует.
Тогда после уроков И. В. нерешительно направилась к дому на Рождественской, решила, что заходить не будет, а если кого увидит, скажет, что пропал Пучков, и она подумала, может, сюда прибежал покататься на лодочках.
Уже издалека она удивилась, как за такой короткий срок весь двор зарос – да еще в ноябре! – сухим безлиственным бурьяном, а приглядевшись, поняла, что зарос и дом, будто в нем не живут давным-давно, и в нерешительности остановилась. Может, я подошла не с той стороны? – предположила она. Вернулась к школе, дошла до перекрестка, свернула налево, прошла короткий квартал и снова налево… здесь раньше стояла Серафимова будка «Ремонт обуви». Теперь ее не было. Дом страшно темнел пустотой, окна его были забиты… он весь кособоко осел, погружаясь в травное забытье, припорошенное серым снегом, как безнадежный больной, чернеющий и высыхающий, тихо погружается в мутное облако смерти. Дальше, где площадь была разровнена, как вспаханное поле, грязно-желтенький экскаватор, урча, копал яму, по-детски высоко задирая ковшик, и строители в красных жилетах – как жучки-солдатики – сновали вокруг…
Возвращаясь, на желтой стене углового дома она увидела, что и улица эта вовсе не Рождественская, а Володарского… и что это значит, могла прояснить, вероятно, только Лили…
Сизиф Петрович принимал теперь только по талонам – он сам попросил об этом, не ради того, чтобы не было очередей, а с тем, что, взяв талончик к невропатологу за неделю до встречи с ним, кто-то за эти дни сам решал свою проблему: находил средство успокоить себя народным способом – траволечением, купаниями или самоубийством, либо ехал в ближайший монастырь, где батюшка бил палицей по больным местам и многие утешались. Или, может, часть больных пойдет, наконец, к психотерапевту, который, увы, не только этим «психо» внушал уже людям недоверие, а и всякими историями, ходившими о нем в народе. Говорили, например, как привела к нему жена своего мужа, которого навязчиво стали мучить страшные желания: «То он хочет новый дорогой фотоаппарат с девятого этажа выкинуть…» «Ну и пусть выкинет!» – с улыбкой сытого питона советовал психотерапевт. «То хочет глаз себе выколоть…» «Ну и пусть выколет!» – говорил психотерапевт… Пришел муж домой довольный, выкинул с балкона новый дорогой фотоаппарат, изрезал в лоскуты часть своей одежды и пару платьев жены и чуть не выколол себе глаз – жена помешала, а он стал ее бить и кричал: «Не мешай, мне доктор прописал!» Она закрылась от него в ванной и вызвала скорую. Одни советовали ей подать на психотерапевта в суд, другие говорили, что бесполезно, психотерапевт – он тоже заложник своей методы и не виноват, что не ко всякому организму она оказывается подходящей.
Но убежденные, что все болезни от нервов, и что они «не психи», люди, идущие к невропатологу, не убывали, и, как всегда в таких случаях, знакомые знакомых через знакомых находили талончик на нужный день.
Несколько дней подряд Ирина Владимировна упрямо набирала номер Симиного телефона, и ей каждый раз отвечали, что такого номера не существует, и от этого каждый раз она звонила все смелее. Все остальное время она ждала, что Серафим позвонит сам. По вечерам она пыталась доказать себе, что все кончено, что это был сон, или этого вообще не было, что смешно даже думать, будто на нее, уже стареющую тетку, может кто-то позариться, тем более Серафим – симпатичный, веселый экзотический персонаж, наверняка, любимец женщин, да и выглядит он, наверное, моложе, чем она. Тут она пыталась вспомнить Серафима, вглядеться в него и понять, сколько же ему лет, но это удавалось как-то смутно, в общих чертах, и никаких особых отличительных черт в облике Серафима не обнаруживалось, как и раньше, при встречах, глядя на него реального, она не могла понять его возраста. А может, потому она и не может хорошенько вспомнить его, что он не настоящий, как говорила Лили? Ведь у каждого человека, особенно когда с ним близко общаешься, есть запоминающиеся черты, а у Серафима – нет, оттого что и его самого не существует. И опять все сводилось к тому, что она так и состарится и умрет в своей комнатке общежития, день за днем утопая в слезах одиночества. И, переполняясь жалостью к себе, И. В. долго плакала.
Наконец, за чашкой чая на задней парте, она рассказала одной своей давней приятельнице из параллельного класса о том, что вот познакомилась она с хорошим мужчиной, а он исчез, и эта потеря ее сильно мучает, и что, кажется, теперь, в этом возрасте, пережить она этого не сможет, что у нее давление скачет и головные боли, и в ушах звенит, и спит она совсем плохо. Но про Лили ничего не сказала. Учительница эта – бывают такие, кто любит всегда обращаться за помощью к врачам, – посоветовала ей сходить к Сизифу Петровичу, и сказала, где взять талон, чтобы попасть к нему без очереди.
И. В. отправилась к нему на следующий же день, но весьма нерешительно. Всю ночь она думала, как же и что же рассказать невропатологу – оказалось, рассказывать о своей неудачной любви было стыдно, неудобно и совсем не хотелось, будто каждое повторение этой истории вновь и вновь еще больше укоренит ее теперешний взгляд на сложившийся факт и у чужих, и в ней самой, что еще ужаснее. Иной же взгляд на эту историю был больше похож на бред. Так в итоге ничего конкретного не решив, она, проспав всего два с половиной часа, утром позвонила в школу, сказавшись больной, потом не торопясь оделась и отправилась в поликлинику с мыслью, что нехорошо подводить человека, доставшего ей внеочередной талон.
В кабинете она устало сидела, молча рассеянно глядя тяжелыми глазами на древесную полированную плоскость стола и локоть в белом рукаве, который покачивался от того, что Сизиф Петрович размашистым почерком изображал в ее карточке стаю летающих галок.
– Ну-у, что же вы молчите? – спросил он, поднимая бровь круглого, вполне довольного собою лица.
Мучительно ища ответ – она все утро надеялась, что в нужную минуту он выплывет сам, – и не находя правильный, она выдавила:
– Я устала, я больше так не могу… – и в глазах защипало от соленой воды, а потом им стало легче, и тонкая струйка нарисовалась на щеке, и сорвалась, упав на руку, большая капля.
– Спокойно, – сказал доктор. – Со слезами вряд ли получится рассказать что-то внятно – я так ничего не пойму, – выдернул из деревянной бывшей карандашницы, а теперь салфетницы, белую салфетку и вложил ей в руку.
И. В. стала медленно вытирать щеку.
– А теперь я задаю вопросы, а вы отвечаете. У вас проблемы дома?
– Нет. Да.
– Муж, дети?
– Нет. Ни мужа, ни детей. Я живу одна, работаю в школе, в начальной школе, учительница. В октябре был день рожденья моего ученика, Вани Полосухина…
– Та-ак… – понятливо протянул доктор.
– И меня, и весь класс пригласили к ним в дом, на Рождественской улице. Я там познакомилась с Серафимом, и мы… встречались все это время, а потом он пропал. И в этом доме, оказалось, уже лет двадцать никто не живет, и улица, оказывается, не Рождественская, а Володарского. И Серафима вообще никогда не существовало… – и И. В. разрыдалась.
– Леночка, помогите ей успокоиться, – сказал невропатолог, который, как многие мужчины, не выносил женских слез, и вышел из кабинета.
Когда он вернулся, И. В. с красным припухшим лицом сидела, откинувшись на спинку стула, вертела в руках сложенную в аккуратный квадратик размахрённую салфетку и шмыгала носом – совсем как в детском саду, когда была ребенком, и слезы ее тогда были, наверное, не менее горькими.
– Ита-ак… – будто вновь запуская приостановившуюся карусель, сказал Сизиф Петрович и сел за свой стол.
– Когда я увидела, что в этом доме давно уже никто не живет, и улица называется по-другому, – продолжая шмыгать и вертеть бумажку, стала объяснять И. В., – я нашла в школьной анкете другой адрес и пошла к Полосухиным на Гражданскую. Лили сказала, что все это – что дом еще жилой, что в нем живет ее брат и Валентина, которая работает в детском парке, и Серафим – все это она придумала, что ничего этого не существует, а только воплотилось, благодаря ее воображению, и что она даже не думала, что они могут так воплотиться еще для кого-то, кроме нее…
– … – Сизиф Петрович молчал, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на животе.
– Доктор, может, это я схожу с ума, может, это Лили не существует? Но нет же, ее сын учится в моем классе уже два года, и в малышкину школу ходил. Я знаю Лили уже почти три года… Скажите, все это правда? Это возможно – вот так выдумывать людей, чтобы они появлялись на самом деле?
– Ну-у-у, науке такие случаи пока неизвестны, – многозначительно проговорил доктор, – а в жизни, я думаю, всему найдется рациональное объяснение. Это как фокус – кажется, что происходит чудо, а на самом деле – трюк, который, если знать, как его показать, на самом деле прост и понятен всем, правильно?