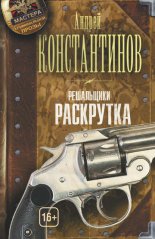Спиноза и проблема выражения Делёз Жиль
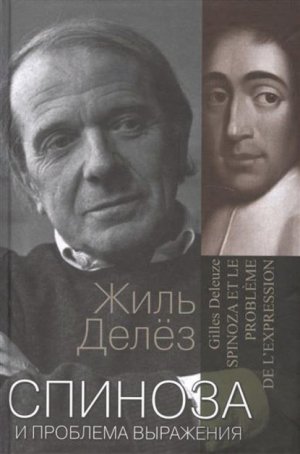
Gilles Deleuze
Spinoza et le problme de l'expression
LES DITIONS DE MINUIT
PARIS
1968
© Gilles Deleuze, 1968
Перевод с французского, редакция и заключительная статья
д. филос.н. Свирского Я.И.
Предисловие
Мы обозначаем произведения Спинозы следующими аббревиатурами: КТ (для Краткого трактата), ТУР (для Трактата об усовершенствовании разума), ОФД (для Основ философии Декарта), ММ (для Метафизических мыслей), БПТ (для Богословско-политического трактата), Э (для Этики), ПТ (для Политического трактата).
Что касается текстов, которые мы цитируем, то в тех случаях, когда указания для нахождения цитируемого текста достаточно подробны и позволяют легко обнаружить его в имеющихся изданиях, то мы не даем других ссылок. Однако для писем и Богословско-политического трактата, мы указываем ссылку на издание Van Vioten и Land, выпущенное в четырех томах и объединенное в двух книгах. Именно нам принадлежат выделения некоторых пассажей или слов в цитатах.
За некоторыми исключениями, используются переводы А Гурена Этики (ed. Pelletan), А.Койре Краткого трактата (d. Vrin) и К. Аппуна (d. Garnier) других произведений.[1]
Данная книга уже была представлена как дополнительная диссертация под названием ««Идея выражения в философии Спинозы».
Введение: роль и важность выражения
Идея выражения появляется в определении 6 первой книги Этики: «Под Богом я разумею существо абсолютно бесконечное, то есть субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов, среди которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность». Затем эта идея обретает все большую и большую важность. Она вновь и вновь воспроизводится в разных контекстах. Порой Спиноза говорит: каждый атрибут выражает некую определенную вечную и бесконечную сущность – сущность, соответствующую роду атрибута. Порой: каждый атрибут выражает сущность субстанции, ее бытие или реальность. И, наконец: каждый атрибут выражает бесконечность и необходимость субстанциального существования, то есть вечность.[2] И, несомненно, Спиноза четко разъясняет, как мы переходим от одной формулировки к другой. Каждый атрибут выражает некую сущность, но лишь постольку, поскольку он в своем роде выражает сущность субстанции; и коли сущность субстанции необходимо заключает в себе существование, то она принадлежит каждому атрибуту, дабы выражать – вместе с сущностью Бога – свое вечное существование.[3] Тем не менее, идея выражения резюмирует все трудности, связанные с единством субстанции и разнообразием атрибутов. Итак, в первой книге Этики выразительная природа атрибутов появляется как фундаментальная тема.
В свою очередь и модус выразителен: «Все, что существует, выражает известным и определенным образом природу или сущность Бога» (то есть в определенном модусе).[4] Итак, мы должны выделить второй уровень выражения, что-то вроде выражения выражения. Во-первых, субстанция выражается в своих атрибутах, а каждый атрибут выражает некую сущность. Но, во-вторых, атрибуты сами, в свою очередь, выражаются: они выражаются в модусах, кои от них зависят, а каждый модус выражает некую модификацию. Мы увидим, что первый уровень выражения должен быть понят как подлинное полагание – почти генеалогия – сущности субстанции. Второй же уровень должен быть понят как подлинное производство отдельных вещей. Действительно, Бог производит бесконечность вещей, ибо его сущность бесконечна; но, обладая бесконечностью атрибутов, он необходимо производит эти вещи в бесконечности модусов, каждый из которых отсылает к атрибуту, коему принадлежит.[5] Само по себе выражение не является производством, но становится таковым на своем втором уровне, поскольку именно атрибут, в свою очередь, выражает себя. И наоборот, выражение-производство обнаруживает свое основание в первом выражении. Бог сам выражает себя «до того», как выражается в своих эффектах; Бог выражается, полагая сам по себе природопроизводящую природу, до того, как выражается, производя в себе природопроизведенную природу.
Понятие [notion] выражения обладает не только онтологической, но и гносеологической значимостью. И это не удивительно, ибо идея – модус мышления: «Отдельные мышления, иными словами, то или другое состояние мышления, составляют модусы, выражающие природу Бога известным и определенным образом».[6] А значит, познание становится неким видом выражения. Знание вещей имеет то же отношение к знанию о Боге, какое сами вещи имеют к Богу: «Так как ничто без Бога не может ни существовать, ни быть понимаемо, то несомненно, что все, что есть в природе, заключает в себе и выражает понятие [concept][7] о Боге, смотря по своей сущности и своему совершенству; и потому, чем больше мы познаем естественные вещи, тем большее и совершеннейшее познание о боге мы приобретаем».[8] Идея Бога выражается во всех наших идеях как их источник и причина, так что совокупность идей точно воспроизводит порядок всей природы в целом. И идея, в свою очередь, выражает сущность, природу или совершенство своего объекта: определение или идея, как говорится, выражают природу вещи так, как последняя существует в себе. Идеи тем совершеннее, чем больше реальности или совершенства они выражают в объекте; значит, идеи, кои душа [esprit][9] формирует «абсолютно», выражают бесконечность.[10] Душа постигает вещи под видом вечности, но как раз потому, что она обладает идеей, выражающей, под этим видом, сущность тела.[11] По-видимому, концепция адекватного у Спинозы неотделима от такой выразительной природы идеи. Уже в Кратком трактате ведется поиск понятия [concept], способного дать отчет о познании, но не как об операции, остающейся внешней по отношению к вещи, а как о рефлексии, о выражении вещи в душе. О таком требовании всегда свидетельствует Этика, хотя и интерпретирует его в новом ключе. В любом случае, мало сказать, будто истина присутствует в идее. Мы должны еще спросить: что же такое присутствует в истинной идее? Что выражается в истинной идее, что она выражает? Если Спиноза и идет дальше картезианской концепции ясного и отчетливого, если он формирует собственную теорию адекватного, то всегда в связи с такой проблемой выражения.
У слова «выражать» есть синонимы. Голландский текст Краткого трактата использует [термины] uytdrukken-uytbeelden (выражать), но предпочитает [термин] vertoonen (сразу: манифестировать и доказывать): мыслящая вещь выражается в бесконечности идей, соответствующей бесконечности объектов; а также идея тела непосредственно манифестирует Бога; и атрибуты манифестируются сами через себя.[12] В Трактате об усовершенствовании разума атрибуты манифестируют сущность Бога: ostendere.[13] Но такие синонимы не столь уж важны. Более важны корреляты, уточняющие и сопровождающие идею выражения. Эти корреляты – explicare и involvere. Поэтому, определение, как говорится, не только выражает природу определяемой вещи, но свертывает и развертывает ее.[14] Атрибуты не только выражают сущность субстанции, они то развертывают, то свертывают ее.[15] Модусы свертывают концепт Бога, одновременно выражая его также как соответствующие идеи сами свертывают вечную сущность Бога.[16]
Развертывать – это развивать, свертывать – это подразумевать. Однако такие два термина не противоположны: они лишь указывают на два аспекта выражения. С одной стороны, выражение – это некое развертывание: развитие того, что выражает себя, манифестация Единого во многом (манифестация субстанции в ее атрибутах, а затем атрибутов в их модусах). Но с другой стороны, множественное выражение свертывает Единое. Единое остается свернутым в том, что его выражает, запечатленным в том, что его развивает, имманентным всему тому, что его манифестирует: в этом смысле, выражение является свертыванием. Между данными двумя терминами нет противостояния, за исключением одного особого случая, который мы проанализируем позже на уровне конечного модуса и его страстей.[17] Но, как общее правило, выражение свертывает, подразумевает то, что оно выражает, одновременно развертывая и развивая его.
Импликация и экспликация-развертывание, свертывание и развитие – вот термины, унаследованные у долгой философской традиции, всегда обвиняемой в пантеизме. Именно потому, что эти два понятия [concepts] не противостоят друг другу, они сами отсылают к некоему синтетическому принципу: complicatio. В неоплатонизме complicatio часто означает, одновременно, присутствие как множественного в Едином, так и Единого во множественном. Бог – это «усложненная, запутанная [complicative]» Природа: и такая природа развертывает и подразумевает в себе Бога, свертывает и развивает Бога. Бог «усложняет, запутывает [complique]» любую вещь, но любая вещь развертывает и свертывает его. Такое сочленение понятий образует выражение; в этом смысле оно характеризует одну из существенных форм христианского и еврейского неоплатонизма так, как последний развивался в Средних веках и в Возрождении. С этой точки зрения можно было бы сказать, что выражение было основной категорией мышления Возрождения.[18] Итак, по Спинозе, Природа собирает все, содержит все, и в то же время она эксплицируется и имплицируется каждой вещью. Атрибуты свертывают и развертывают субстанцию, но последняя собирает все атрибуты. Модусы свертывают и развертывают атрибут, от коего они зависят, но атрибут содержит все сущности соответствующих модусов. Мы должны спросить, как Спиноза вписывается в экспрессионистскую традицию, в какой мере он зависит от этой традиции и как ее обновляет.
Этот вопрос тем более важен, что сам Лейбниц принимает выражение в качестве одного из своих фундаментальных понятий [concept]. У Лейбница, как и у Спинозы, выражение обладает, одновременно, теологическим, онтологическим и гносеологическим измерениями. Оно оживляет теорию Бога, творений и познания. Независимо друг от друга эти два философа, как кажется, полагались на идею выражения, дабы преодолеть трудности картезианства, дабы восстановить философию Природы и даже интегрировать достижения Декарта в системы, глубоко враждебные картезианскому видению мира. В той мере, в какой мы можем говорить об антикартезианстве Лейбница и Спинозы, такое антикартезианство основывается на идее выражения.
Мы предполагаем, что идея выражения важна, одновременно, и для понимания системы Спинозы, и для определения ее отношения к системе Лейбница, а также для понимания происхождения и формирования обеих систем. Так почему же лучшие комментаторы уделяют столь мало (или почти не уделяют) внимания этому понятию в философии Спинозы? Одни ничего не говорят о нем. Другие же хотя и придают ему некую значимость, но лишь косвенно; они видят в нем синоним для какого-то более глубокого термина. Выражение рассматривалось только как способ обсуждения «эманации». На этом настаивал уже Лейбниц, упрекая Спинозу за интерпретацию выражения в смысле, соответствующем Каббале, и за низведение выражения до чего-то вроде эманации.[19] Либо же выражать будет синонимом [термина] развертывать. Посткантианцы, похоже, лучше подготовлены к тому, чтобы опознать присутствие в спинозизме движения генезиса и саморазвития, предвестников которого они разыскивали повсюду. Но термин «развертывать» укрепляет их в той идее, что Спиноза не сумел понять подлинное развитие субстанции, более того, не сумел продумать переход от бесконечного к конченному. Спинозистская субстанция кажется им мертвой: спинозистское выражение кажется им интеллектуальным и абстрактным; атрибуты, как они считают, «приписываются» субстанции разумом, который сам экспликативен.[20]Даже Шеллинг, когда разрабатывает свою философию манифестации (Offenbarung), обращается не к Спинозе, а к Бёме: именно у Бёме, а не у Спинозы и даже не у Лейбница, он находит идею выражения (Ausdruck).
Мы не можем свести выражение к простому развертыванию [explication] разума [entendement][21], не впадая в исторические нелепости. Ибо развертывать – далекое от того, чтобы обозначать операцию разума, остающуюся внешней по отношению к вещи, – обозначает, прежде всего, развитие вещи в себе и в ее жизни. Традиционная пара explicatio-compUcatio исторически свидетельствует о витализме, всегда весьма близком к пантеизму. Мы далеки о того, что должны понимать выражение, начиная с развертывания-экспликации, напротив, нам кажется, именно развертывание у Спинозы – как и у его предшественников – предполагается определенной идеей выражения. Если атрибуты по существу отсылают к разуму, воспринимающему или постигающему их, то, прежде всего, потому, что они выражают сущность субстанции и что бесконечная сущность не выражаема без того, чтобы «объективно» манифестироваться в божественном разуме. Именно выражение фундирует отношение в разуме [между мыслью и объектом – пер.], а не наоборот. Что касается эманации, то мы, конечно же, обнаруживаем ее следы – как и ее причастность – у Спинозы. Именно теория выражения и развертывания – как в Возрождении, так и в Средние века – формировалась у авторов, изрядно вдохновляемых неоплатонизмом. Тем не менее, ее цель и ее следствия глубоко трансформировали этот неоплатонизм, открыли ему совершенно новые пути, далеко отстоящие от путей эманации, даже когда обе темы сосуществовали. К тому же эманация, скажем мы, едва ли способствует нашему пониманию идеи выражения. Напротив, именно идея выражения может показать, как эволюционировал неоплатонизм, пока не изменилась его природа, и, в частности, как эманативная причина все более и более стремилась стать имманентной причиной.
Некоторые современные комментаторы непосредственно усматривают идею выражения у Спинозы. Кауфманн видит в ней путеводную нить через «спинозистский лабиринт», но настаивает на мистическом и эстетическом аспекте этого понятия взятого вообще, независимо от того, как на самом деле употребляет его Спиноза.[22] Дарбон, в иной манере, посвящает выражению замечательную страницу, но, в конце концов, заявляет, что оно остается лишь умопостигаемым. «Дабы объяснить единство субстанции, Спиноза говорит нам только то, что каждый из атрибутов выражает свою сущность. Такое объяснение – весьма далекое от того, чтобы внести ясность, – поднимает целый сонм трудностей. Прежде всего, то, что выражено, должно было бы отличаться от того, что выражается…», и Дарбон заключает: «Атрибуты выражают вечную и бесконечную сущность Бога; и опять же, мы не можем провести различие между тем, что выражено, и тем, что его выражает. Понятно, что задача комментатора трудна и что вопрос об отношениях между субстанцией и атрибутами в спинозизме дал повод для множества различных интерпретаций».[23]
Несомненно, есть одно основание, чтобы прокомментировать данную ситуацию. Дело в том, что идея выражения у Спинозы не является ни объектом определения, ни объектом доказательства, да она и не может ими быть. Она появляется в определении 6; но она не столько определена, сколько служит тому, чтобы определять. Она не определяет ни субстанцию, ни атрибут, ибо последние уже определены ([определения] 3 и 4). Не определяет она и Бога, чье определение может быть дано без всякой ссылки на выражение. В Кратком трактате, как и в письмах, Спиноза часто говорит, что Бог – это субстанция, состоящая из бесконечности атрибутов, каждый из которых бесконечен.[24] Таким образом, кажется, что идея выражения появляется только как детерминация отношений, в которые входят атрибут, субстанция и сущность, тогда как Бог, со своей стороны, определяется как субстанция, состоящая из бесконечного числа атрибутов, кои сами бесконечны. В неопределенных условиях выражение не касается ни субстанции, ни атрибута вообще. Когда субстанция является абсолютно бесконечной, когда она обладает бесконечностью атрибутов, тогда, и только тогда, атрибуты, как говорится, выражают ее сущность, ибо только тогда субстанция также выражается в своих атрибутах. Было бы неточным обращаться к определениям 3 и 4, дабы непосредственно вывести из них природу отношения между субстанцией и атрибутом, каким оно должно быть в Боге, ибо Бог сам «трансформирует» это отношение, возвышая его до абсолюта. Определения 3 и 4 только номинальные; одно лишь определение 6 реально и говорит нам о том, что отсюда следует для субстанции, атрибута и сущности. Но что значит «трансформировать отношение»? Мы лучше поймем это, если спросим, почему выражение более не является объектом доказательства.
В письме Чирнгаусу, обеспокоенному относительно знаменитой теоремы 16 (книга 1 Этики), Спиноза делает важную уступку: есть определенная разница между философским развитием и математическим доказательством.[25] Начиная с какого-либо определения, математик обычно может вывести только одно свойство; чтобы узнать несколько свойств, он должен умножать точки зрения и соотносить «определяемую вещь с другими предметами». Следовательно, геометрический метод [mthod gomtrique][26] дважды ограничен: внешним характером точек зрения и дистрибутивным характером свойств. Как раз об этом говорил Гегель, размышляя о Спинозе, а именно, что геометрический метод не способен постичь органическое движение или саморазвитие, кои только и годятся для абсолюта. Возьмем, к примеру, доказательство того, что сумма углов треугольника = двум прямым углам, где мы начинаем с того, что продлеваем основание треугольника. Ясно, что такое основание треугольника не существует подобно растению, растущему само по себе: требуется геометр, дабы продолжить основание, к тому же именно геометр должен рассмотреть с новой точки зрения сторону треугольника, к которой он проводит параллельную, и т. д. Не следует думать, будто Спиноза сам игнорировал такие возражения; это – возражения Чирнгауса.
Ответ Спинозы рискует разочаровать: когда геометрический метод прилагается к реальным сущим и – на более сильном основании – к абсолютному существу, у нас есть средство, чтобы вывести несколько свойств одновременно. Несомненно, создается впечатление, будто Спиноза соглашается с тем, что здесь обсуждается. Но мы разочарованы лишь потому, что смешали крайне разные проблемы, поднимаемые методом. Спиноза спрашивает: Нет ли средства, с помощью которого свойства, выводимые одно за другим, могли бы рассматриваться совместно, и благодаря которому точки зрения – внешние по определению – могли бы помещаться внутрь определяемой вещи? Так, в Трактате об усовершенствовании разума, Спиноза показал, что геометрические фигуры могут определяться ближайшей причиной или выступать объектом генетических определений.[27] Круг – не только место точек, равноотстоящих от одной и той же точки, называемой центром, но и фигура, описываемая подвижным концом любой линии, другой конец которой неподвижен. Также и шар является фигурой, описываемой любым полукругом, вращающимся вокруг своей оси. Верно, что в геометрии такие причины фиктивны: fingo ad libitum[28]. Как сказал бы Гегель – а Спиноза согласился бы – полукруг вовсе не вращается сам по себе. Но если такие причины фиктивны или воображаемы, то лишь в той мере, в какой они обладают истинностью благодаря тому, что с самого начала заключены в своих следствиях. Они предстают как средства, уловки, фикции потому, что фигуры здесь суть отвлеченные понятия [tres de raison]. И, тем не менее, верно, что свойства, которые одни за другими реально выводит геометр, обретают коллективное бытие в отношении этих причин и посредством таких фикций.[29] Так, в случае абсолюта, больше нет ничего фиктивного: причина более не заключена в своем следствии. Утверждая, что Абсолютно бесконечное является причиной, мы не утверждаем, как для вращения полукруга, что-то, что не содержалось бы в его понятии [concept]. Следовательно, нет никакой нужды в фикции, чтобы модусы в их бесконечности были уподоблены свойствам, совместно выводимым из определения субстанции, а атрибуты – точкам зрения, внутренним для такой субстанции, в какой они взяты. Так что, если философия и подсудна математике, то потому, что математика находит в философии преодоление своих обычных границ. Геометрический метод не встречает трудностей, когда применяется к абсолюту; напротив, он находит здесь естественное средство преодолевать трудности, кои осаждали его тогда, когда он применялся к отвлеченным понятиям [tres de raison].
Атрибуты подобны точкам зрения на субстанцию; но – в абсолюте – точки зрения перестают быть внешними, а субстанция постигает в себе бесконечность собственных точек зрения. Модусы следуют из субстанции также, как свойства следуют из определяемой вещи; но – в абсолютном – эти свойства обретают бесконечное коллективное бытие. Речь более не идет о конечном разуме, исчисляющем свойства одно за другим, размышляющем о вещи и развертывающем ее, соотнося с другими объектами. Теперь именно вещь выражает себя, именно она сама развертывает себя. Тогда все ее свойства совокупно «попадают в бесконечный разум». Таким образом, выражению не нужно быть объектом доказательства; скорее, именно выражение помещает доказательство в абсолют, который делает из доказательства немедленную манифестацию абсолютно бесконечной субстанции. Невозможно понять атрибуты без доказательства; последнее является манифестацией того, что невидимо, а также – взглядом, под который попадает то, что манифестируется. Именно в этом смысле доказательства, как говорит Спиноза, являются очами души, благодаря коим мы воспринимаем.[30]
Часть первая: триады субстанции
Глава I. Числовое различие и реальное различие
Выражение предстает как триада. Нам следует различать субстанцию, атрибуты и сущность. Субстанция выражается, атрибуты – это выражения, а сущность – выраженное. Идея выражения остается неумопостигаемой до тех пор, пока мы усматриваем только два термина в отношении, каковое она представляет. Мы смешиваем субстанцию и атрибут, атрибут и сущность, сущность и субстанцию постольку, поскольку не способны принять во внимание наличие и посредничество третьего термина. Субстанция и атрибут различаются, но лишь постольку, поскольку каждый атрибут выражает определенную сущность. Атрибут и сущность различаются, но лишь постольку, поскольку каждая сущность выражается как сущность субстанции, а не атрибута. Здесь манифестируется оригинальность понятия [concept] выражения: сущность – поскольку она существует – не существует вне выражающего ее атрибута; но постольку, поскольку она – сущность, она относится именно к субстанции. Сущность выражается каждым атрибутом, но как сущность самой субстанции. Бесконечные сущности различаются в атрибутах, в коих они существуют, но идентифицируются в субстанции, к которой относятся. Мы всегда сталкиваемся с необходимостью различать три термиа: субстанция, которая выражается; атрибут, который ее выражает; и сущность, являющаяся выраженным. Именно благодаря атрибутам сущность отличается от субстанции, но именно благодаря сущности субстанция сама отличается от атрибутов. Триада такова, что каждый из ее терминов – в трех силлогизмах – способен служить в качестве среднего [термина] по отношению к двум другим.
Выражение соответствует субстанции постольку, поскольку субстанция абсолютно бесконечна; оно соответствует атрибутам, поскольку они суть бесконечность; оно соответствует сущности, поскольку каждая сущность является бесконечной в атрибуте. Итак, имеется некая природа бесконечности. Мерло-Понти ясно отметил то, что, как нам сегодня кажется, труднее всего понять в философии XVII-го века: идею позитивной бесконечности, как «тайну великого рационализма», «некий невинный способ мыслить, начиная с бесконечности» – способ, обнаруживающий свое самое совершенное воплощение в спинозизме.[31] Верно, что невинность вовсе не исключает работу понятия [concept]. Спинозе нужны были все ресурсы изначальной концептуальной стихии, дабы показать мощь и актуальность позитивной бесконечности. Если идея выражения исполняет эту роль, то именно в той мере, в какой она вводит в бесконечность определенные различения, соответствующие этим трем терминам: субстанции, атрибуту и сущности. Каков же тип различения в бесконечности? Какого типа различение можем мы ввести в абсолют, в природу Бога? Такова первая проблема, поставленная идеей выражения; она главенствует в первой книге Этики.
В начале Этики Спиноза спрашивает, как две вещи – в самом общем смысле слова – могут различаться; а затем, как две субстанции – в точном смысле этого слова – должны различаться. Первый вопрос подготавливает второй. Ответ на такой второй вопрос, как кажется, недвусмыслен: если верно, что две вещи вообще различаются благодаря атрибутам их субстанций или же благодаря их модусам, то две субстанции, в свою очередь, могут различаться не благодаря модусу, а только благодаря атрибуту. Следовательно, не может быть двух или более субстанций с одним и тем же атрибутом.[32] Не вызывает сомнений, что Спиноза принимает здесь за точку отсчета область картезианства. Но что следует наиболее тщательно оценить, так это как раз то, что он заимствует у Декарта, то, от чего он отказывается, и, прежде всего, то, что он принимает у Декарта с тем, чтобы обернуть это против последнего.
Принцип, согласно которому существуют только субстанции и модусы, причем модусы пребывают в чем-то еще, а субстанция – в самой себе, в явной форме может быть найден у Декарта.[33] И если модусы всегда предполагают субстанцию, и их достаточно, чтобы дать нам знать о ней, то это так именно благодаря главному атрибуту, каковой они подразумевают и который конституирует сущность самой субстанции: итак, две и более субстанции различаются и по-разному познаются благодаря их главным атрибутам.[34] Отсюда Декарт делает вывод, что мы постигаем реальное различие между двумя субстанциями, модальное различие между субстанцией и модусом, который ее предполагает, но не предполагается ею, и мысленное различие между субстанцией и атрибутом, без чего мы не могли бы обладать отчетливым знанием.[35] Исключение, односторонняя импликация и абстракция – вот соответствующие критерии в идее, или, скорее, элементарные данные представления, позволяющие определять и опознавать такие типы различия. Детерминированность и применение этих типов играют существенную роль в картезианстве. И, несомненно, Декарт использовал то, что было достигнуто усилиями Суареса, дабы внести порядок в столь запутанные проблемы.[36] Но то, как он сам использовал эти три различия, – благодаря их богатству – вводит, по-видимому, еще много двусмысленностей.
Первая двусмысленность, по признанию Декарта, касается мысленного различия, модального различия и отношения между ними. Двусмысленность проявляется уже в применении слов «модус», «атрибут» и «качество». Любой атрибут дан, он – качество, ибо качественно определяет субстанцию как ту или иную, но он также и модус постольку, поскольку разнообразит субстанцию.[37] Каково же положение – с этой точки зрения – главного атрибута? Я могу отделить субстанцию от такого атрибута только благодаря абстракции. Но также я могу отличить такой атрибут от субстанции, при условии не делать его чем-то, что существует само по себе, при условии, что не делаю его только свойством, говорящем о том, что субстанция способна меняться (то есть, обладать изменчивыми фигурами или разнообразными мыслями). Вот почему Декарт говорит, что протяженность и мышление могут отчетливо постигаться двумя способами: «мышление и протяженность могут рассматриваться как образующие природу мыслящей и протяженной субстанций»; а также мышление и протяженность можно отличать от субстанции и постигать просто как «модусы» или «зависимости».[38] Итак, если в первом случает атрибуты различают субстанции, которые они качественно определяют, то, по-видимому, во втором случае, модусы различают субстанции с одним и тем же атрибутом. Итак, изменчивые фигуры отсылают к тому или иному телу, реально отличимому от другого тела; а разные мысли – к реально отличимой душе. Атрибут конституирует сущность субстанции, которую он качественно определяет, но он, тем не менее, конституирует также и сущность модусов, кои соотносит с субстанциями, обладающими одним и тем же атрибутом. Такой двойной аспект порождает большие трудности в картезианстве.[39] Отсюда мы можем вывести лишь одно следствие: существуют субстанции с одним и тем же атрибутом. Другими словами, есть числовые различия, которые в то же время являются реальными или субстанциальными.
Вторая трудность касается реального различия самого по себе. Последнее – не менее, чем другие – является данным представления. Две вещи реально различаются, когда мы можем ясно и отчетливо постигать одну, исключая все, что принадлежит понятию [concept] другой. Именно в этом смысле Декарт объясняет Арно, что критерий реального различия – это только идея как завершенная [идея]. Он с полным правом напоминает, что никогда не смешивал вещи, понятые как реально отчетливые, с реально различными вещами. Однако переход от одних к другим кажется ему необходимо законным; это только вопрос момента. Достаточно – в порядке Размышлений – приблизиться как можно ближе к Богу-творцу, дабы сделать вывод, что ему особо недоставало бы истинности, если бы он создал вещи иными, нежели те, о коих дает нам ясную и отчетливую идею. Реальное различие не обладает в себе основанием различаемого; но такое основание обеспечивается внешней и трансцендентной божественной причинностью, которая творит субстанции в соответствии с тем способом, каким мы постигаем их как возможные. И здесь снова возникают все виды трудностей, связанные с идеей творения. Главная двусмысленность сопряжена с определением субстанции: «вещь, которая может существовать сама по себе».[40] Нет ли тут противоречия в полагании существования самого по себе как того, что в себе является лишь простой возможностью? Здесь мы можем отметить второе следствие: Бог-творец вынуждает нас переходить от субстанций, понятых как реально отчетливые, к реально различным субстанциям. Реальное различие – будь то между субстанциями с разными атрибутами, или между субстанциями с одним и тем же атрибутом – сопровождается неким разделением вещей, то есть, соответствующим им неким числовым различием.
Начало Этики организуется именно вокруг этих двух пунктов. Спиноза спрашивает: в чем состоит ошибка, когда мы полагаем нескольких субстанций с одним и тем же атрибутом? Он разоблачает эту ошибку двумя способами, следуя своим излюбленным приемам. Сначала с помощью доказательства через абсурд, а затем посредством более сложного доказательства. Если бы имелось несколько субстанций с одним и тем же атрибутом, то они должны были бы различаться своими модусами, что абсурдно, ибо субстанция по природе предшествует своим модусам и не имплицирует их: таков короткий путь [доказательства], изложенный в 1, 5. Но позитивное доказательство появляется дальше, в схолии к теореме 8: две субстанции с одним и тем же атрибутом отличались бы только in numro; итак, характер числового различия исключает возможность создания реального или субстанциального различия.
Согласно этой схолии различие не было бы числовым, если бы вещи не обладали одним и тем же понятием [concept] или одним и тем же определением; но эти вещи не различались бы, если бы – помимо определения – не было внешней причины, благодаря которой они существуют именно в таком числе. Две и более численно различных вещи предполагают, таким образом, нечто иное, нежели их понятие [concept]. Вот почему субстанции могут быть численно различимыми только благодаря отсылке к некой внешней причинности, способной производить их. Ибо, когда мы утверждаем, что субстанции произведены, мы имеем множество спутанных идей одновременно. Мы говорим, что у них есть причина, но мы не знаем, как эта причина действует; мы претендуем на обладание истинной идеей этих субстанций, ибо они постигаются сами по себе, но мы не уверены, что такая идея истинна, поскольку не знаем [исходя] из самих субстанций, существуют ли они. Мы находим здесь критику странной картезианской формулы: того, что может существовать само по себе. Внешняя причинность имеет смысл, но только в отношении конечных существующих модусов: каждый существующий модус отсылает к другому модусу именно потому, что он не может существовать сам по себе. Когда мы применяем такую причинность к субстанциям, мы вынуждаем ее действовать вне условий, кои задают ее и делают законной. Мы утверждаем ее, но в пустоте, изымая из нее всякую определенность. Короче, внешняя причинность и числовое различие разделяют общую судьбу: они применяются к модусам и только к модусам.
Значит, аргументация схолии 8 предстает в следующей форме: 1°) числовое различие требует внешней причины, к которой оно отсылает; 2°) но невозможно применить внешнюю причину к субстанции из-за противоречия, содержащегося в таком употреблении принципа причинности; 3°) значит, две или несколько субстанций не могут различаться in numro, не бывает двух субстанций с одним и тем же атрибутом. У аргументации первых восьми доказательств не одинаковая структура: 1°) две или несколько субстанций не могут обладать одним и тем же атрибутом, ибо они тогда должны были бы различаться своими модусами, что абсурдно; 2°) следовательно, субстанция не может иметь некой внешней причины, она не может быть произведена или ограничена другой субстанцией, ибо обе субстанции должны были бы иметь одну ту же природу или один и тот же атрибут; 3°) значит, не существует численной различенности в субстанции, каким бы ни был атрибут, «каждая субстанция должна быть бесконечна».[41]
Только что из природы числового различия мы вывели его неспособность быть применимым к субстанции. Теперь, из природы субстанции мы выводим ее бесконечность и, таким образом, невозможность применять к ней числовые различия. В любом случае, числовые различия никогда не различают субстанции, а только лишь модусы, свертывающие в себе один и тот же атрибут. Ибо число, на свой манер, выражает характеристики существующего модуса: композиция частей, ограничение другой вещью той же самой природы, внешняя детерминация. В этом смысле число может идти в бесконечность. Но вопрос таков: может ли оно достичь самой бесконечности? Или, как говорит Спиноза: даже в случае модусов, можем ли мы, исходя из множества частей, делать вывод об их бесконечности?[42] Когда мы превращаем числовое различие в реальное или субстанциальное различие, мы уносим его в бесконечность, если только обеспечивается обратимость, необходимо устанавливаемая между атрибутом как таковым и бесконечностью конечных частей, кои мы в нем различаем. Отсюда и великий абсурд: «Если измерять бесконечную величину частями, равными футу, то она должна будет состоять из бесконечно многих подобных частей, точно также, как и в том случае, если измерять ее частями равными дюйму; следовательно, одно бесконечное число будет в двенадцать раз больше другого бесконечного».[43] Как полагал и Декарт, абсурд состоит вовсе не в гипостазировании протяженности как атрибута, а, напротив, в постижении ее как измеримой и составленной из конечных частей, с помощью которых мы намереваемся ее конвертировать. Сюда внедряется физика, дабы подтвердить права логики: отсутствие пустоты в природе будет означать только то, что деление на части не является реальным различением. Числовое различие – это деление, но деление имеет место лишь в модусе, только модус делится.[44]
Не бывает несколько субстанций с одним и тем же атрибутом. Отсюда мы можем сделать вывод, что, с точки зрения отношения, одна субстанция не производится другой субстанцией; с точки зрения модальности, природе субстанции присуще существование; с точки зрения качества, любая субстанция необходимо бесконечна.[45] Но эти результаты предстают как свернутые в аргументе числового различия. Именно последнее возвращает нас к исходной точке: «Субстанция, обладающая известным атрибутом, существует только одна».[46] Ибо, начиная с теоремы 9, кажется, что Спиноза меняет объект. Речь уже идет не о доказательстве того, что существует только одна субстанция для каждого атрибута, а что есть только одна субстанция для всех атрибутов. Соединение обеих тем, по-видимому, трудно ухватить. Ибо, какой значимостью, в этой новой перспективе, следовало бы наделить первые восемь теорем? Проблема проясняется, если мы полагаем, что для перехода от одной темы к другой достаточно проделать то, что в логике называется конверсией, или обращением, негативного универсального [la conversion d’une universelle ngative]. Числовое различие никогда не является реальным; и обратно, реальное различие никогда не является числовым. Аргументация Спинозы становится следующей: атрибуты реально различны; ибо реальное различие никогда не является числовым; значит, есть только одна субстанция для всех атрибутов.
Спиноза говорит, что атрибуты «представляются реально различными».[47] Нам не следует усматривать в этой формулировке ослабленное использование реального различия. Спиноза не внушает ни того, что атрибуты суть иные, не такие, как мы их постигаем, ни что они – только концепции, какие мы создаем себе о субстанции. Не будем более полагать, будто Спиноза предлагает только гипотетическое и полемическое использование реального различия.[48] В самом строгом смысле реальное различие всегда является данным представления: две вещи реально различны, когда они постигаемы как таковые, то есть, «одна без помощи другой», так, что мы постигаем одну вещь, отрицая все, что принадлежит понятию [concept] другой. В этом отношении Спиноза ничем не отличается от Декарта: он принимает декартовские критерий и определение. Единственная проблема состоит в том, чтобы знать, сопровождается так понятое реальное различие или нет неким разделением в вещах. По Декарту только гипотеза Бога-творца фундирует такое сопровождение. Согласно Спинозе мы приводим деление в соответствие с реальным различием, только превращая последнее в числовое различие – по крайней мере, возможное, – то есть, смешивая его уже с модальным различием. Ибо невозможно, чтобы реальное различие было числовым или модальным.
Когда мы спрашиваем Спинозу, как он пришел к идее одной еднственной субстанции для всех атрибутов, он напоминает, что предложил два аргумента: чем больше у некоего сущего реальности, тем больше в нем опознается атрибутов; чем больше атрибутов мы опознаем в неком сущем, тем больше следует придать ему существования.[49] Итак, ни одного из этих аргументов не было бы достаточно, если бы каждый из них не был подкреплен анализом реального различия. Действительно, только такой анализ показывает, что можно придать все атрибуты некоему сущему, а значит перейти от бесконечности каждого атрибута к абсолютности сущего, кое обладает ими всеми. И такой переход – являясь возможным или не предполагая противоречия – оказывается необходимым, согласно доказательству существования Бога. Более того, именно аргумент реального различия еще показывает, что все атрибуты суть бесконечность. Ибо мы не смогли бы переходить при посредстве трех или четырех атрибутов, не привнося повторно в абсолют то самое числовое различие, каковое только что исключили из бесконечности.[50]
Если бы мы делили субстанцию согласно атрибутами, то ее следовало бы трактовать как некий род, а атрибуты – как специфические [видовые] различия. Субстанция полагалась бы как род, который не подвигал бы нас ни к какому особому познанию; тогда она отличалась бы от своих атрибутов, как род от своих [видовых] различий, а атрибуты отличались бы от соответствующих субстанций, как их специфические различия и сами их виды. Именно так, превращая реальное различие между атрибутами в числовое различие между субстанциями, мы переводим простое мысленное различие в субстанциальную реальность. Нет необходимости существования для субстанции одного и того же «вида» как атрибута; специфическое различие задает только возможное существование объектов, соответствующих ему внутри рода. Вот почему субстанция всегда сводится к простой возможности существовать, причем атрибут – только индикатор, знак такого возможного существования. Первая критика, какой Спиноза подвергает понятие [notion] знака в Этике, появляется именно касательно реального различия.[51] Реальное различие между атрибутами является «знаком» разнообразия субстанций не более, чем каждый атрибут является специфической характеристикой некой субстанции, которая соответствует или могла бы ему соответствовать. Ни субстанция не является родом, ни атрибуты не являются [видовыми] различиями, ни качественно определенные субстанции не являются видами.[52] Равным образом Спиноза осуждает мышление, действующее посредством рода и [видовых] различий, мышление, действующее посредством знаков.
Регис [Rgis] – в книге, где он защищает Декарта от Спинозы, – обращается к существованию двух типов атрибутов: одни – «специфические», различающие субстанции разного вида, другие – «числовые», различающие субстанции одного и того же вида.[53] Но именно это Спиноза выдвигает против картезианства. Согласно Спинозе атрибут никогда не является ни специфическим, ни числовым. По-видимому, мы можем резюмировать тезис Спинозы: 1°) постулируя несколько субстанций с одним и тем же атрибутом, мы превращаем числовое различие в реальное различие, но тогда мы смешиваем реальное и модальное различия, мы трактуем модусы как субстанции; 2°) постулируя столько субстанций, сколько есть различных атрибутов, мы превращаем реальное различие в числовое различие, мы смешиваем реальное различие не только с модальным различием, но также и с мысленным различием.
В таком контексте, по-видимому, трудно полагать, будто у первых восьми теорем только гипотетический смысл. Порой мы действуем так, как если бы Спиноза начинал рассуждать, опираясь на гипотезу, не являющуюся его собственной, как если бы он исходил из гипотезы, которую намерен опровергнуть. Но тогда мы упускаем категориальный смысл первых восьми теорем. Не бывает несколько субстанций с одним и тем же атрибутом, числовое различие не реально: мы не находимся перед предварительной гипотезой, весомой лишь постольку, поскольку мы еще не обнаруживаем абсолютно бесконечную субстанцию; напротив, мы присутствуем при генезисе, который с необходимостью ведет нас к положению такой субстанции. И категориальный смыл первых теорем не только негативен. Как говорит Спиноза, «существует только одна субстанция одной и той же природы». Отождествление атрибута с бесконечно совершенной субстанцией – как в Этике, так и в Кратком трактате, – само не является предварительной гипотезой. Позитивно она должна интерпретироваться с точки зрения качества. С точки зрения качества существует одна субстанция для атрибута, но с точки зрения количества есть одна единственная субстанция для всех атрибутов. Что же означает такая чисто качественная множественность? Эта неясная формулировка отмечает трудности конечного разума, возвысившегося до понимания абсолютно бесконечной субстанции. Она оправдывается новым статусом реального различия. Она хочет сказать: качественно определенные субстанции различаются качественно, а не количественно. Или, еще лучше, они различаются «формально», «сущностно», но не «онтологически».
Один из своих источников антикартезианство Спинозы обнаруживает в теории различий. В Метафизических мыслях Спиноза излагает картезианскую концепцию: «Между вещами существует троякое различие, именно реальное (действительное), модальное и различие в мысли». И, кажется, он одобряет: «Впрочем, мы не заботимся о мешанине различений, выставленных перипатетиками».[54] Но что принимается в расчет, так это не столько список принятых различий, сколько их смысл и заданное распределение. В этом отношении у Спинозы нет ничего картезианского. Новый статус реального различия является существенным: будучи чисто качественным, сущностным и формальным, реальное различие исключает всякое деление. Не является ли это возвращением – под именем картезианства – одного из явно дискредитированных перипатетических различий? То, что реальное различие не является и не может быть числовым, как нам кажется, – один из главных мотивов Этики. За этим следует полный переворот других различий. Не только реальное различие не отсылает более к возможным субстанциям, различным in numro, но и модальное различие, в свою очередь, более не отсылает к акциденциям как к контингентным детерминациям. У Декарта определенная контингентность модуса отдается эхом в простой возможности субстанций. Декарт ясно напоминает о том, что акциденции не реальны, что субстанциальная реальность все еще обладает акциденциями. Модусы, дабы быть произведенными, нуждаются либо в чем-то ином, нежели субстанция, к коей они относятся, либо в некой другой субстанции, которая запечатлевала бы их в первой, либо в Боге, создающем первую субстанцию вместе со всем тем, что от нее зависит. Точка зрения Спинозы совершенно иная: контингенции модусов в отношении субстанции не больше, чем возможности субстанции в отношении атрибута. Все необходимо либо благодаря своей сущности, либо благодаря своей причине: Необходимость – это единственное аффективное состояние [affection] Бытия, единственная модальность. Мысленное различие, в свою очередь, само трансформируется. Мы увидим, что нет картезианской аксиомы (у ничто нет свойств, и так далее), которая не обретала бы нового – враждебного картезианству – смысла, начиная с новой теории различий. Такая теория обнаруживает свой принцип в качественно определенном статусе реального различия. Отделенное от всякого числового различия, реальное различие возводится в абсолют. Оно становится способным выражать различие в бытии, оно ведет в результате к реорганизации других различий.
Глава II: Атрибут как выражение
Спиноза не говорит ни о том, что атрибуты существуют сами по себе, ни о том, что они постигаются так, будто существование вытекает из их сущности или следует из поседней. Опять же, он вовсе не говорит, будто атрибут существует в себе и постигается сам по себе как субстанция. Он лишь говорит, что атрибут постигается сам по себе и в себе.[55] Статус атрибута намечается в весьма сложных формулировках Краткого трактата. Действительно, столь сложных, что у читателя есть выбор между несколькими гипотезами: допустить разную датировку их редакции; признать неизбежно несовершенное состояние рукописей; или даже обратиться к колебаниям мысли Спинозы. Однако, такие аргументы допустимы, только если мы принимаем, что формулировки Краткого трактата не согласуются друг с другом и не согласуются с более поздним содержанием Этики. Но, по-видимому, это не так. Тексты Краткого трактата не преодолеваются Этикой, а скорее трансформируются ею. И как раз благодаря более систематическому использованию идеи выражения. Так что, напротив, они могут прояснить нам концептуальное содержание, формируемое благодаря такой идее выражения у Спинозы.
Эти тексты – один за другим – говорят: 1) «к сущности ее [вещи, наделенной бесконечными атрибутами – пер.] относится существование, так что вне них [атрибутов – пер.] нет уже сущности или бытия»; 2) «мы постигаем их [атрибуты – пер.] только в сущности, но не в существовании, мы не постигаем их так, чтобы существование вытекало из их сущности»; «они не познаются тобою как существующие из самих себя»; 3) они существуют «формально» и «в действии»; «мы докажем a priori, что они существуют».[56]
Согласно первой формулировке, сущность как сущность не существует вне полагающих ее атрибутов. Следовательно, сущность различает себя в атрибутах, в коих она существует. Она всегда существует в неком роде – в стольких родах, сколько есть атрибутов. Тогда каждый атрибут – это существование вечной и бесконечной сущности, некой «особой сущности».[57] Именно в этом смысле, Спиноза может сказать: сущности атрибутов присуще существовать, но существовать как раз в атрибутах. Или даже: «существование атрибутов не отличается от их сущности».[58] В Этике идея выражения примет этот первый момент: сущность субстанции не обладает существованием вне выражающих ее атрибутов, так что каждый атрибут выражает определенную вечную и бесконечную сущность. Выраженное не существует вне своих выражений, каждое выражение предстает как существование выраженного. (Как раз тот же самый принцип мы находим у Лейбница, сколь бы ни был иным контекст: каждая монада – выражение мира, но выраженный мир не существует вне выражающих его монад.)
Как же мы можем говорить, что атрибуты выражают не только определенную сущность, но и сущность субстанции? Сущность выражается как сущность субстанции, а не атрибута. Значит, сущности различаются в атрибутах, в коих они существуют, но сводятся к одной в субстанции, чьей сущностью являются. Правило обратимости [covertibilit] утверждает: любая сущность является сущностью чего-то. Сущности реально различны с точки зрения атрибутов, но сущность является одной с точки зрения объекта, с коим она соотносится. Атрибуты не приписываются соответствующим субстанциям того же рода или того же вида, что и они сами. Напротив, они приписывают свою сущность чему-то еще, – тому, что, таким образом, остается одним и тем же для всех атрибутов. Вот почему Спиноза доходит до того, чтобы сказать: «Если ни одна субстанция не может не существовать и в то же время из ее сущности не вытекает существование, поскольку она рассматривается как отдельная, то следует, что она не может быть ничем особенным, не есть нечто, т. е. должна быть атрибутом чего-то другого, именно единого, единственного, всеобщего существа… Следовательно, ни одна существующая субстанция не может быть понята сама по себе, но должна принадлежать к чему-то другому».[59] Следовательно, все существующие сущности выражаются благодаря атрибутам, в которых они существуют, но как сущность что-то еще, то есть как одна единственная и одна и та же вещь для всех атрибутов. Тогда мы спрашиваем: что существует само по себе таким образом, что его существование вытекает из его сущности? Ясно, что это – субстанция, коррелят сущности, а не атрибут, в котором сущность существует только как сущность. Мы не будем смешивать существование сущности с существованием ее коррелята. Все существующие сущности относятся или приписываются субстанции, но как к одному единственному существу, чье существование необходимо вытекает из его сущности. Субстанция обладает привилегией существовать сама по себе: сам по себе существует вовсе не атрибут, а то, к чему каждый атрибут относит свою сущность таким образом, что существование необходимо вытекает из так конституированной сущности. Тогда, об атрибутах, рассматриваемых в себе, Спиноза вполне последовательно скажет: «Мы постигаем их только в их сущности, а не в их существовании, мы не постигаем их так, чтобы их существование вытекало из их сущности».[60] Этот второй тип формулировки не противоречит предыдущему, а задает меру углубления проблемы или изменения точки зрения на нее.
Выраженное не существует вне своего выражения, но оно выражено как сущность того, что выражается. Мы всегда сталкиваемся с необходимостью различать эти три термина: субстанция, которая выражается; атрибуты, являющиеся выражениями; и выраженная сущность. И наконец, если верно, что атрибуты выражают сущность субстанции, то как они могут не выражать также и существование, с необходимостью вытекающее из нее? Те же самые атрибуты, коим отказывают в существовании самим по себе, обладают, тем не менее – как атрибуты – актуальным и необходимым существованием. Более того, демонстрируя, что нечто является атрибутом, мы априори демонстрируем то, что оно существует. Разнообразие формулировок Краткого трактата должно тогда интерпретироваться так: они поочередно касаются существования сущности, существования субстанции, существования самого атрибута. И в Этике именно идея выражения собирает эти три момента, сообщая им систематическую форму.
Проблема атрибутов Бога всегда была тесно связана с проблемой божественных имен. Как бы мы могли именовать Бога, если бы у нас не было хоть какого-нибудь знания о нем? Но как бы знали о нем, если бы он сам не давал нам знания о себе каким-то образом, обнаруживая и выражая себя? Божественная Речь, божественное Слово скрепляет союз атрибутов и имен. Имена суть атрибуты, если только атрибуты суть выражения. Верно, что весь вопрос в том, чтобы узнать, что они выражают: саму природу Бога такой, какова она есть в себе, или только действия Бога как творца, или даже простые внешние божественные качества, относящиеся к творениям? Спиноза не упускает возможности приняться за эту традиционную проблему. Слишком умелый грамматик, чтобы пренебречь родством имен и атрибутов. Богословско-политический трактат спрашивает под какими именами или посредством каких атрибутов Бог «обнаруживает себя» в Писании; он спрашивает, что такое речь Бога, какую выразительную ценность следует признать в голосе Бога. И когда Спиноза хочет проиллюстрировать, что он лично понимает под атрибутом, ему приходит на ум [esprit] пример имен собственных: «Под именем Израиля разумеется третий Патриарх, но он же известен и под именем Иакова, причем последнее имя получено им за то, что он схватил пятку брата своего».[61] Связь спинозизма с теорией имен должна оцениваться двумя способами. Как Спиноза вписывается в эту традицию? Но, главным образом, как он обновляет ее? Уже можно предвидеть, что он двояко обновил ее: ибо он по-иному продумал то, что является именем или атрибутом, и иначе определил то, что такое атрибут.
Атрибуты у Спинозы суть динамичные и активные формы. И вот что кажется существенным: атрибут более не приписывается, он – в некотором роде «приписыватель, или атрибутор». Кждый атрибут выражает некую сущность и приписывает ее субстанции. Все эти приписываемые сущности смешиваются в субстанции, чьей сущностью они являются. Пока мы постигаем атрибут как нечто приписываемое, мы также постигаем субстанцию как того же вида или того же рода, что и он; тогда такая субстанция обладает сама по себе лишь возможным существованием, ибо только от доброй воли трансцендентного Бога зависит наделить ее существованием, соответствующим атрибуту, благодаря коему мы ее и познаем. Напротив, как только мы полагаем атрибут как «приписывателя», мы, одновременно, постигаем его как приписывающего свою сущность чему-то, что остается тождественным для всех атрибутов, то есть, некой необходимо существующей субстанции. Атрибут соотносит свою сущность с имманентным Богом, одновременно, принципом и результатом метафизической необходимости. В этом смысле атрибуты у Спинозы – подлинные слова, имеющие выразительную ценность: будучи динамическими, они более не приписываются изменчивым субстанциям, но приписывают нечто одной единственной субстанции.
Но что на самом деле они приписывают, что они выражают? Каждый атрибут выражает бесконечную сущность, то есть, некое неограниченное качество. Эти качества субстанциальны, ибо все они качественно определяют одну и ту же субстанцию, обладающую всеми атрибутами. К тому же есть два способа опознать то, что является атрибутом: либо мы априори ищем, что является качествами, кои мы постигаем как беспредельные. Либо же, отправляясь от того, что ограничено, мы апостериори ищем какие качества способны доходить до бесконечного, будучи как бы «свернуты» в пределах конечного: отталкиваясь от той или иной мысли, мы приходим к выводу о мышлении как о бесконечном атрибуте Бога; отталкиваясь от того или иного тела, мы приходим к выводу о протяженности как о бесконечном атрибуте.[62]
Такой последний – апостериорный – метод следовало бы изучить поближе: он ставит всю проблему свертывания бесконечного. Он состоит в том, чтобы сообщить нам знание об атрибутах Бога, начав с «творений». Но, на этом пути, он не действует ни через абстракцию, ни через аналогию. Атрибуты не абстрагируются из специфических вещей, и еще менее они переносятся на Бога по аналогии. Атрибуты достигаются непосредственно, как формы бытия, общие и творениям, и Богу, общие и модусам, и субстанции. Мнимая опасность такой процедуры хорошо известна: антропоморфизм и, более обобщенно, смешение конченного и бесконечного. В методе аналогии явно предлагается избегать антропоморфизма: согласно святому Фоме, качества, приписываемые Богу, подразумевают не общность формы между божественной субстанцией и творениями, а только некую аналогию, некое «соответствие» пропорции или пропорциональности. Порой Бог формально обладает совершенством, которое остается внешним для творений, порой же он эминентно обладает совершенством, формально соответствующим творениям. Итак, о важности спинозизма здесь следует судить по тому способу, каким он переворачивает эту проблему. Каждый раз, когда мы действуем по аналогии, мы заимствуем у творений определенные характеристики, дабы приписать их Богу либо двусмысленным образом, либо эминентным. Бог обладает Волей и Разумом, Добротой и Мудростью и т. д., но двусмысленно или эминентно.[63] Аналогия не может обойтись ни без двусмысленности, ни без эминенции, а значит, она содержит утонченный антропоморфизм, столь же опасный, как и антропоморфизм наивный. Разумеется, если бы треугольник мог говорить, он сказал бы, что Бог эминентно треуголен. Метод аналогии отрицает, что существуют формы, общие и для Бога, и для творений; но он далек от того, чтобы избежать той же опасности, какую сам разоблачает, он постоянно смешивает сущности творений и сущность Бога. Порой он отменяет сущность вещей, сводя их качества к определенностям, которые внутренним образом могут соответствовать только Богу. Порой же он отменяет сущность Бога, эминентно наделяя его тем, чем творения обладают формально. Напротив, Спиноза утверждает тождество формы между творениями и Богом, запрещая себе любое смешение сущности.
Атрибуты конституируют сущность субстанции, но они нисколько не составляют сущность модусов или творений. Это, однако, суть общие формы, ибо творения подразумевают их в своей собственной сущности, как и в своем собственном существовании. Отсюда важность правила обратимости: сущность – это не только то, без чего вещь не может ни существовать, ни быть постигаемой, но и, наоборот, то, что не может ни существовать, ни постигаться без вещи. Именно согласно этому правилу атрибуты действительно являются сущностью субстанции, но ни в коей мере не сущностью модусов, например, человека: они весьма легко могут постигаться без модусов.[64]Остается то, что модусы свертывают или подразумевают атрибуты, и подразумевают именно в той форме, каковая является их собственной, ибо они конституируют сущность Бога. Это равносильно тому, что атрибуты, в свою очередь, содержат или постигают сущности модуса, и постигают их формально, а не эминентно. Атрибуты, таким образом, суть формы, общие и для Бога, чью сущность они конституируют, и для модусов или творений, которые их по существу подразумевают. Одни и те же формы утверждаются о Боге и о творениях, хотя творения и Бог различаются как по сущности, так и по существованию. Различие состоит именно в этом: модусы только схватываются под этими формами, которые, напротив, сами взаимообразны [reciproquent] с Богом. Такое различие не затрагивает формального основания атрибута, взятого как таковое.
В этом пункте Спиноза полностью осознает свою оригинальность. Под предлогом того, что творения отличаются от Бога как сущностью, так и существованием, заявлялось, будто Бог формально не имеет ничего общего с творениями. На самом деле, все наоборот: одни и те же атрибуты высказываются и о Боге, который развертывает себя в них, и о модусах, которые подразумевают их – подразумевают в той же самой форме, в какой они соответствуют Богу. Более того: поскольку мы отказываемся от формальной общности, постольку мы обречены на то, чтобы смешивать сущности [творений и Бога – пер.]; мы смешиваем их по аналогии. Но как только мы полагаем формальную общность, мы обретаем средство различать их. Вот почему Спиноза может гордиться не только тем, что низвел до состояния творений то, что прежде рассматривалось как атрибуты Бога, но, одновременно, и тем, что возвысил до состояния атрибутов Бога то, что рассматривалось как творения.[65] Как правило, Спиноза не видит никакого противоречия между утверждением общности формы и полаганием различия сущностей. В примыкающих друг к другу текстах он скажет: 1) если вещи не имеют ничего общего между собой, то одна не может быть причиной другой; 2) если некая вещь является причиной сущности и существования другой вещи, то она должна отличаться от последней как в отношении ее сущности, так и в отношении ее существования.[66] На наш взгляд, примирение этих текстов не поднимает никакой особой проблемы в спинозизме. Когда корреспонденты Спинозы удивляются, то, в свою очередь, удивляется и Спиноза: он напоминает, что у него есть все основания сказать, что творения, одновременно, отличаются от Бога по сущности и по существованию и что Бог формально имеет нечто общее с творениями.[67]
Метод Спинозы ни абстрактен, ни аналогичен. Это формальный метод и метод общности. Он действует с помощью общих понятий [notions]; итак, вся спинозистская теория общих понятий [notions] находит свой принцип именно в этом статусе атрибута. Если же, наконец, следует дать имя этому методу, как и лежащей в его основании теории, то здесь легко распознать великую традицию однозначности [univocit]. Мы полагаем, что философия Спиноза остается отчасти неумопостигаемой, если мы не видим постоянной борьбы против трех понятий [notions] двусмысленного, эминеции и аналогии. Атрибуты, согласно Спинозе, – это однозначные формы бытия, которые не меняют природы при изменении «субъекта» – то есть, когда мы приписываем их бесконечному существу или конечным существами, субстанции и модусами, Богу и творениям. Мы полагаем, что от оригинальности Спинозы ничего не убудет, если поместить его в перспективу, коя уже имела место у Дунса Скота. Мы должны пока отложить анализ того, как Спиноза, со своей стороны, интерпретирует понятие [notion] однозначности, как он понимает его совершенно иным образом, нежели Дунс Скот. В настоящий момент нам достаточно объединить первые определения атрибута. Атрибуты суть бесконечные формы бытия, неограниченные, окончательные, несводимые формальные основания; эти формы являются общими для Бога, чью сущность они конституируют, и для модусов, которые подразумевают их в своей собственной сущности. Атрибуты – это слова, выражающие неограниченные качества; такие качества предстают как свернутые в пределах конечного. Атрибуты – это выражения Бога; такие выражения Бога однозначны, они конституируют саму природу Бога как прирдопроизводящую Природу, и свертываются в природе вещей, или в природопроизведенной Природе, которая неким образом, в свою очередь, заново выражает их.
Отныне Спиноза в состоянии различать атрибуты и свойства. Его исходный пункт – аристотелевский: свойство – это то, что принадлежит вещи, но никогда не объясняет то, что она такое. Следовательно, свойства Бога – это только «прилагательные», не дающие нам никакого субстанциального знания; без них Бог не был бы Богом, но Он не является Богом благодаря им.[68] Согласно долгой традиции, Спиноза мог дать этим свойствам имя атрибутов; но тогда это все еще будет, согласно Спинозе, различием по природе между двумя видами атрибутов. Но что хочет сказать Спиноза, когда добавляет, что свойства Бога – только «модусы, которые могут приписываться ему»?[69] Модус здесь должен был бы браться не в особом смысле, часто придаваемым ему Спинозой, а в более общем – схоластическом – смысле «модальности сущности». Бесконечное, совершенное, неизменное, вечное суть свойства, коими характеризуются все атрибуты. Всеведущее, вездесущее – свойства, характеризующие какой-то определенный атрибут (мышление, протяженность). Действительно, все атрибуты выражают сущность субстанции, каждый атрибут выражает одну сущность субстанции. Но свойства ничего не выражают: «Посредством этих свойств (propria) мы не можем знать, что представляет собой его [Бога – пер.] сущность, а также, какие он имеет атрибуты, которым принадлежат эти свойства».[70] Они не конституируют природу субстанции, но сами характеризуются тем, что конституирует эту природу. Таким образом, они формируют не сущность Бытия, а лишь модальность этой сущности так, как она формируется. Бесконечное – это свойство субстанции, то есть, модальность каждого из атрибутов, составляющих ее сущность. Всеведущее – это свойство мыслящей субстанции, то есть, бесконечная модальность такого атрибута мышления, который выражает сущность субстанции. Свойства не являются, собственно говоря, атрибутами именно потому, что они не являются выразительными. Скорее, они подобны «запечатленным понятиям [impresses notions]», подобны напечатанным буквам – либо во всех атрибутах, либо в том или ином из них. Оппозиция атрибутов и свойств открывается, таким образом, в двух пунктах. Атрибуты суть слова, выражающие сущности или субстанциальные качества; но свойства – это только прилагательные, указывающие на модальность этих сущностей или качеств. Атрибуты Бога являются общими формами, общими в субстанции, которая взаимообразна [reciproquent] с ними, и в модусах, которые подразумевают их без взаимообразия [reciproquent]; но свойства Бога – действительно присущи Богу, они характеризуются не модусами, а только атрибутами.
Вторая категория свойств касается Бога как причины постольку, поскольку он действует или производит: не как бесконечное, совершенное, вечное, неизменное, а как причина всех вещей, предопределение, провидение.[71] Итак, поскольку Бог производит внутри своих атрибутов, эти свойства подчиняются тем же принципам, что и предыдущие. Некоторые характеризуют все атрибуты; другие же – тот или иной из них. Эти вторые свойства все еще являются прилагательными; но вместо того, чтобы указывать на модальности, они указывают на отношения, отношения Бога к его творениям или к его созданиям. Наконец, третья категория обозначает свойства, которые даже и не принадлежат Богу: Бог как добрый суверен, как милосердный, как справедливый и сострадающий.[72] В этом отношении, именно Богословско-политический трактат может прояснить для нас суть вопроса. Данный Трактат говорит о божественных справедливости и милости как об «атрибутах бога, которым люди могут подражать известным образом жизни».[73] Эти свойства не принадлежат Богу как причине; речь уже идет не об отношении Бога к своим творениям, а о внешних детерминациях, указывающих только на способ, каким творения воображают себе Бога. Верно, что такие именования обладают чрезвычайно варьируемыми смыслами и значениями: они заходят настолько далеко, что придают Богу эминенцию во всех видах, божественные уста и глаза, моральные качества и возвышенные страсти, горы и небеса. Но, даже если мы ограничиваемся справедливостью и милосердием, мы ничего не достигаем ни в природе Бога, ни в его действиях как Причине. Адам, Авраам, Моисей не знают не только подлинных божественных атрибутов, но также и большей части свойств первого и второго вида.[74] Бог открывается им под внешними именованиями, кои служат им предостережениями, заповедями, правилами или моделями жизни. Более чем когда-либо, следует сказать, что такие третьи свойства никоим образом не обладают выразительностью. Это – не божественные выражения, а понятия [notions], запечатленные в воображении, дабы заставить нас повиноваться, заставить нас служить Богу, чья природа нам неведома.
Глава III: Атрибуты и божественные имена
Согласно долгой традиции, божественные имена соотносятся с манифестациями Бога. И наоборот, божественные манифестации суть слова, посредством которых Бог дает о себе знать под тем или иным именем. Следовательно, это возвращает к одному и тому же вопросу о том, являются ли имена, обозначающие Бога, утверждениями или отрицаниями, являются ли манифестирующие его качества и соответствующие ему атрибуты позитивными или негативными. По-видимому, понятие [concept] выражения – одновременно, речь и манифестация, свет и звук, – обладает какой-то своей собственной логикой, благоприятствующей обеим гипотезам. Порой мы будем настаивать на позитивности, то есть на имманентности выражаемого в выражении, а порой на «негативности», то есть на трансцендентности того, что выражается, по отношению ко всем выражениям. То, что скрывает, то же и выражает, но то, что выражает, еще и скрывает. Вот почему в проблеме божественных имен или атрибутов Бога все дело в нюансах. Теология, называемая негативной, допускает, что утверждения способны обозначать Бога как причину, подчиненную правилам имманентности, кои движутся от самого близкого к самому далекому. Но Бог как субстанция или сущность может определяться только негативно, согласно правилам трансцендентности, когда мы по очереди отрицаем самые далекие имена, а затем самые близкие. И наконец, сверхсубстанциальное или сверхсущностное божество остается великолепным, будучи вдали как от отрицаний, так и от утверждений. Таким образом, негативная теология комбинирует негативный метод с утверждающим методом и намерена превзойти оба эти метода. Откуда бы мы знали, что надо отрицать Бога как сущность, если бы с самого начала не знали, что должны утверждать его как причину? Следовательно, мы можем определять негативную теологию только через ее динамизм: утверждения превосходятся в отрицаниях, а утверждения и отрицания превосходятся в таинственной эминенции.
Теология с более позитивными амбициями, как теология святого Фомы, полагается на аналогию, дабы основать новые утверждающие правила. Позитивные качества не только обозначают Бога как причину, но и субстанциально соответствуют ему при условии, что подвергаются аналогической трактовке. То, что Бог добр, не означает ни того, что Бог не зол; ни того, что он является причиной доброты. Но на самом деле: то, что мы называемся добротой в творениях, «предсуществует» в Боге, следуя более высокой модальности, согласующейся с божественной субстанцией. И еще, именно динамизм определяет новый метод. Такой динамизм, в свою очередь, поддерживает права негативного и эминентного, но постигает их в аналогии: мы восходим от предварительного отрицания к позитивному атрибуту, и этот атрибут прилагается к Богу formaliter eminenter [75]. [76]
Арабская и еврейская философии столкнулись с той же проблемой. Как имена прилагаются не только к Богу как причине, но и к сущности Бога? Нужно ли их брать негативно, отрицать их по определенным правилам? Нужно ли утверждать их согласно другим правилам? Итак, если мы встаем на точку зрения спинозизма, то обе тенденции окажутся равно ложными, ибо проблема, к коей они относятся, сама всецело ложна.
Очевидно, что трехчастное деление свойств у Спинозы воспроизводит традиционную классификацию атрибутов Бога: 1) символические наименования, формы и фигуры, знаки и ритуалы, метонимии от чувственного к божественному; 2) атрибуты действия; 3) атрибуты сущности. Возьмем обычный список божественных атрибутов: доброта, сущность, разум, жизнь, интеллект, мудрость, добродетель, блаженство, истина, вечность; или же величие, любовь, миролюбие, единство, совершенство. Спрашивается, соответствуют ли эти атрибуты сущности Бога; нужно ли их понимать как условные утверждения или как отрицания, маркирующие только удаление отрицательного. Но согласно Спинозе такие вопросы не встают, поскольку большая часть этих атрибутов суть лишь свойства. А те, что ими не являются, суть отвлеченные понятия [tres de raison]. Они никак не выражают природу Бога – ни отрицательно, ни положительно. Бог столь же скрывается ими, сколь и выражается. Свойства – ни отрицательны, ни утвердительны; мы сказали бы, в кантианском стиле, что они неопределенны. Когда мы смешиваем божественную природу со свойствами, то неизбежно обладаем Богом, сама идея которого является неопределенной. Тогда мы колеблемся между эминентной концепцией отрицания и аналогической концепцией утверждения. Каждая, в своем динамизме, содержит в себе немного от другой. Мы создаем ложную концепцию отрицания, поскольку вводим аналогию в утверждаемое. Но утверждение, когда перестает быть однозначным или формально утверждаться в своих объектах, более таковым не является.
Один из главных тезисов Спинозы состоит в том, что природа Бога никогда не была определена, ибо она всегда смешивалась со «свойствами». Это объясняет отношение Спинозы к теологам. Но философы последовали за теологией: сам Декарт полагал, что природа Бога состоит в бесконечно совершенном. Однако, бесконечно совершенное – это только лишь модальность того, что конституирует божественную природу. Только атрибуты, в подлинном смысле слова, – мышление, протяженность – суть конститутивные элементы Бога, его конституирующие выражения, его утверждения, его позитивные и формальные основания, одним словом, его природа. Но именно здесь мы спрашиваем себя, почему эти атрибуты, не являясь скрытыми по определению [par vocation], оставались неизвестными, почему Бог был искажен, смешан со своими свойствами, придающими ему неопределенный образ. Нужно найти причину, способную объяснить то, почему предшественники Спинозы, несмотря на всю их гениальность, ограничились свойствами и не сумели обнаружить природу Бога.
Ответ Спинозы прост: им недоставало исторического, критического и внутреннего метода, способного истолковывать Писание.[77] Никто не задавался вопросом о том, каков был проект священных текстов. Они рассматривали их как Слово Божье, способ, каким Бог выражал себя. То, что тексты говорили о Боге, казалось нам всецело «выраженным», а то, о чем они не говорили, казалось невыразимым.[78] Мы никогда не задавались вопросом: касается ли религиозное откровение природы Бога? Состоит ли его цель в том, чтобы познакомить нас с этой природой? Поддается ли оно позитивным или негативным истолкованиям, кои мы собираемся к нему применить, дабы завершить определение этой природы? На самом деле, откровение касается только некоторых свойств. Оно никоим образом не ставит перед собой цель позволить нам познать божественную природу и ее атрибуты. Несомненно, данные Писания весьма разнородны: порой мы оказываемся перед особыми ритуальными наставлениями, порой перед моральными универсальными наставлениями, а порой даже перед спекулятивным наставлением – минимумом спекуляции, необходимым для морального наставления. Но никакой атрибут Бога никогда не обнаруживается. Ничего, кроме изменчивых «знаков», внешних наименований, гарантирующих некую божественную заповедь. В лучшем случае такие «свойства», как божественное существование, единство, всеведение и вездесущность, гарантирующие моральное наставление.[79] Ибо цель Писания в том, чтобы подчинить нас моделям жизни, заставить нас повиноваться и обосновать такое повиновение. Тогда было бы абсурдным полагать, будто познание может быть заменено откровением: как предположительно известная божественная природа могла бы служить практическим правилом в повседневной жизни? Но еще более абсурдно верить, что откровение сообщает нам хоть какое-то знание о природе или сущности Бога. Такой абсурд, однако, пронизывает всю теологию. И, таким образом, она компрометирует всю философию в целом. Порой мы подвергаем свойства откровения особому толкованию, кое примиряет их с разумом; порой мы даже обнаруживаем свойства разума, отличные от свойств откровения. Но так мы не покидаем теологию; мы всегда полагаемся на свойства, дабы выразить природу Бога. Мы не признаем их отличие по природе от подлинных атрибутов. Итак, неизбежно, что Бог всегда будет эминентным по отношению к своим свойствам. Как только мы наделяем их выразительной ценностью, каковой у них нет, мы наделяем божественную субстанцию невыразимой природой, коей она более не обладает.
Никогда еще столь далеко не заходило усилие, направленное на различение двух областей: откровение и выражение. Или двух разнородных отношений: отношение знака и означаемого, отношение выражения и выраженного. Знак всегда присоединяется к свойству; он всегда означает заповедь; и он обосновывает наше повиновение. Выражение всегда касается атрибута; оно выражает некую сущность, то есть некую природу в неопределенной форме [ l’infinitif]; оно делает ее известной для нас. Так что «Слово Божье» обладает двумя крайне разными смыслами: выразительное Слово, не нуждающееся ни в словах, ни в знаках, а только в сущности Бога и в разуме человека. Запечатленное, императивное Слово, действующее посредством знака и заповеди: оно не является выразительным, но будоражит наше воображение и внушает нам необходимую покорность.[80] Могли бы мы, по крайней мере, сказать, что заповеди «выражают» волю Бога? Это предполагало бы еще и волю как принадлежащую природе Бога, допускало бы отвлеченное понятие [tres de raison], внешнее определение для божественного атрибута. Любое смешивание двух областей разрушительно. Каждый раз, когда мы превращаем знак в выражение, мы везде видим тайны, и прежде всего, в том числе, в самом Писании. Таковы Евреи, думающие, что все безусловно выражает Бога.[81]Тогда мы получаем мистическую концепцию выражения: последнее, по-видимому, сколь скрывает, столь и бнаруживает то, что оно выражает. Загадки, притчи, символы, аналогии, метонимии призваны, таким образом, нарушать рациональный и позитивный порядок чистого выражения. Верно, что Писание действительно является Словом Божьим, но как слово заповеди: императив, он ничего не выражает, ибо не сообщает ни о каком божественном атрибуте.
Анализ Спинозы не ограничивается тем, что отмечает несводимость этих областей друг к другу. Он предполагает развертывание знаков, предстающее как генезис некой иллюзии. Действительно, не будет ошибкой сказать, что каждая вещь выражает Бога. Порядок всей природы в целом является выразительным. Но стоит плохо понять естественный закон, чтобы ухватывать его как императив или заповедь. Когда Спиноза иллюстрирует различные роды познания с помощью знаменитого примера пропорциональных чисел, он показывает что, на самом низком уровне, мы не понимаем правило пропорциональности: тогда мы удерживаем знак, говорящий нам, какую операцию мы должны проделать над этими числами. Даже технические правила обретают моральный аспект, когда мы игнорируем их смысл и удерживаем только знак. В еще большей мере это касается законов Природы. Бог раскрывает Адаму, что вкушение яблока будет иметь для него роковые последствия; но Адам, неспособный ухватить конститутивные отношения между вещами, воображает такой закон природы как моральный закон, запрещающий ему есть плод, а самого Бога как суверена, наказывающего его за поедание плода.[82]