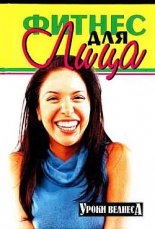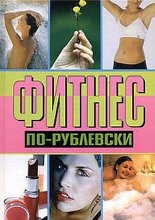Две повести о Манюне Абгарян Наринэ
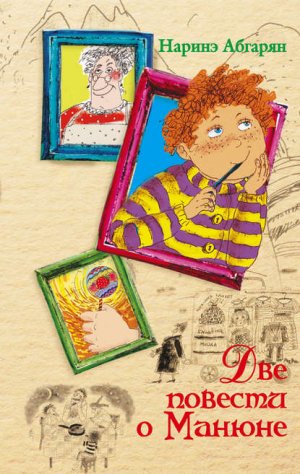
– Юра, – мама сунула ему в руки меня, – посмотри, как она на тебя похожа!
– Что, и нос будет как у меня? – испугался отец.
– Нет, что ты, – соврала мама.
– Слава богу, – обрадовался отец, – тогда назовем ее Наринэ!
– Наринэ, – зашелестели эхом духи наших предков, – огненная.
– Не это имя нужно было ей давать, – вмешался дух прапрабабушки Сирануйш, – надо было назвать ее…
– Шшшш, – зашикали на нее духи, – не вмешивайся…
Потом родилась вторая девочка. Папа ходил мрачнее тучи.
– Юра! – Мама откинула уголок конверта новорожденной. – Посмотри, какая чудная девочка, очень на мою маму похожа.
Папа взял девочку на руки, погладил по щечке.
– И впрямь похожа, – вздохнул, – назовем ее Каринэ.
– Каринэ, – от шепота духов наших предков затрепетали шторы в больничной палате, – ликующая.
– Другое нужно имя, – снова вмешался дух прапрабабушки Сирануйш, – есть персидское красивое имя…
– Шшшш, – зашикали на нее духи моих армянских и русских предков, – какие такие персидские имена?
Потом родилась третья девочка. Папа места себе не находил, непрестанно курил, ругался куда-то вверх.
– Я у тебя чего-то невозможного прошу? – брызгал он слюной в небо.
– Юра, – мама сунула ему в руки девочку, – посмотри, какая она красивая, копия твоего отца.
Папа взял девочку на руки, долго вглядывался в лицо.
– И в самом деле на отца похожа, – умилился он, – назовем ее Гаянэ.
– Гаянэ, – заволновались духи наших предков, – земная.
– Имя – это сакральный код, – вмешался снова дух прапрабабушки Сирануйш, – оно должно символизировать…
– Что? – обернулись к ней духи.
– Твой посыл Вселенной, – зашептала Сирануйш, – девочку нужно назвать Сона. Сона в переводе с фарси означает «красивая». Но есть еще второе значение этого слова – «достаточно».
– Подождите, но Сона – это армянское имя, – встряла прапрабабушка Тамара.
– Пф, – фыркнула прабабушка Анна, – есть хоть что-нибудь в мире, что не армяне придумали?
– Да ты что, Анна, – хохотнул прадед Иван, – вначале были армяне, и только потом – свет!
– Да где ты был, когда мы уже христианами были… – полезла в бой Тамара.
– Вооорс утееееееееееек![5] – раздался грозный рык прапрадеда Пашо.
Все притихли.
– Развели тут курятник! Заткнулись все! Говори, Сирануйш!
– Спасибо, Пашо, лучше бы ты при жизни так меня слушался, – хмыкнула Сирануйш.
– Вооооорс! – прогрохотал Пашо.
Сирануйш вздохнула.
– Если назвать девочку Сона, что в переводе с фарси означает «достаточно», то следом обязательно родится мальчик!
– Сона, – заволновались духи предков, – девочку нужно назвать Сона!
– Хорошо, пусть будет Гаянэ, – улыбнулась мама папе.
А потом мама забеременела в четвертый раз.
– Бог любит троицу, – потирал руки папа, – три дочки у меня уже есть, теперь точно будет мальчик!
Однажды он ворвался в дом с большим топором наперевес. Мама обхватила руками живот и забилась в угол. Папа был явно не в себе, он отчаянно жестикулировал, нервно ходил лицом и всячески напоминал умалишенного.
– Вот! – тряс он томагавком над головой. – Смотри, что я нашел в лесу! Топор! Оружие! Это знак!!! Теперь точно будет мальчик!
Когда родилась четвертая девочка, папа месяц с лишним ходил с немым вопросом на лице. Родные всерьез беспокоились о его душевном равновесии, поили отваром пустырника и зверобоя, кормили валерьянкой.
– Юра, – мама подвела его к кроватке, – посмотри, как она на моего отца похожа!
– А что, она не могла быть мальчиком, похожим на твоего отца? – гаркнул отец.
– Она родилась с седой прядью в волосах, – заплакала мама.
– Да? – смягчился папа. – Видимо, знала, что я буду расстраиваться. Назовем ее…
– Сона, – наклонилась к его уху прабабка Сирануйш, – назови ее Сона, сынок.
– Мне кажется, ее нужно назвать Сона, – сказала мама, – почему-то это имя пришло мне сейчас на ум.
– Ну наконец-то, – вздохнули духи наших предков.
– Ну наконец-то, – засмеялась Сирануйш.
Папа не умел слышать шепота духов предков. И не замечал знаков судьбы в виде белой пряди волос в кудрях своей младшей дочери. Папа всю жизнь страстно мечтал о сыне. И затаил большую обиду на Бога.
Дядя Миша уже крепко дружил с папой, когда родилась Сонечка. Дядя Миша наравне с отцом пил зверобой и закусывал его валерьянкой.
Вот почему, когда он предложил отцу освятить машину, тот моментально вышел из себя. Вот почему дядя Миша не стал спорить со своим другом, и всю оставшуюся дорогу они проехали в гордом молчании.
Когда папа довез его до дома, дядя Миша повернулся к нему:
– Я продам своего Васю и покрою твой долг, – сказал он.
– Если хоть копейку мне принесешь, я с тобой никогда больше здороваться не буду, – забарабанил пальцами по рулю папа.
Помолчали.
– Хоть бы вничью сыграли эти идиоты, – вздохнул дядя Миша.
– Это еще вопрос, кто тут идиоты, – ответил отец, – потратиться на билеты, гостиницу, проездить туда-обратно тысячу километров и выкупить свою машину может только очень умный человек.
– Понимаешь, Надя, – рассказывала потом Ба, – это надо было видеть, сидят в машине и хохочут в голос. С завываниями, охами-ахами, заламывая руки. Аж слезы по лицу ручьем текут. Только и слышно сквозь смех – идиоты, идиоты. Я даже выходить к ним не стала, ждала, пока отсмеются. Идиоты, что с них взять!
Глава 15
Манюня и двойные стандарты красоты, или Как можно разжалобить Ба
Ба считала мух опасным источником грязи и ненавидела их что есть мочи.
Мухи хорохорились и делали вид, что этого не замечают. Мухи не соображали, кому они бросают вызов, поэтому по дурости своей всячески лезли на рожон: залетали в форточки, назначали свидания у мензурок с вареньем и ходили парами по чисто протертой мебели. Ба мигом пресекала наглые притязания мух на ее личное пространство. Для этих целей у нее имелся целый арсенал разнообразных мухобоек – от простых пластиковых, которые разваливались буквально через месяц немилосердного обращения, до более основательных, с металлической длинной ручкой и тяжелой резиновой сеткой. Последние были из разряда долгоиграющих, и такой мухобойкой взъерепененная Ба могла легко скопытить не то что муху, а половозрелого африканского буйвола.
Я не могу, конечно, этого утверждать, но очень даже может быть, что наученные горьким опытом мухи всячески старались умаслить Ба. Может, в своем мушином царстве они в спешном порядке проводили реформы, как то: господствующим строем объявляли матриархат, выпускали из тюрем всех женщин-политзаключенных, в рекордные сроки воздвигали храмы с идолами, стоящими по пояс в земле и отдаленно напоминающими Ба, а также переименовывали столицу из Мухосранска в Розиосифск.
Может, даже специально назначенная комиссия ежеквартально выбирала из числа молоденьких мушек прекрасную деву для жертвоприношения немилосердному Молоху. Возможно, бедняжку натирали ароматическими маслами, обкуривали благовониями, вешали на грудь поляроидное изображение Ба и запускали в дом.
Я не могу знать, на какие еще ухищрения шли мухи, чтобы пробудить в Ба хоть капельку сострадания. Ясно было одно – Ба не знала, что такое милосердие к мухам. Ба прихлопывала одной левой трепетную мушиную Андромеду и шла дальше по своим делам.
Когда Ба торжественно говорила: «Завтра у меня уборка», – то у всех жителей северо-восточных районов Армении портилось настроение. Потому что Ба не умела убираться так, как убиралась среднестатистическая советская хозяйка – пропылесосил, протер полы, поелозил тряпкой по выступающим частям мебели. Ну и постирал-погладил.
Еженедельная уборка а-ля Ба предполагала ритуальный утренний геноцид мух, а далее по накатанной – протирку пыли влажной тряпкой со всех предметов и поверхностей, включая антресоли и шкафы. Мытье межкомнатных дверей и окон с подоконниками (слава богу, что только изнутри – окон в доме было мильон штук). Уборка включала в себя также остервенелую двойную протирку полов с обязательным перетаскиванием мебели, чтобы не дай бог ни одна пылинка не завалялась в каком-нибудь уголочке. Далее производилось тщательное мытье всех раковин-унитазов и кафельных поверхностей до зеркального блеска. Непременным ритуалом была стрика, обязательно с синькой и крахмалом, и глажка.
А апофеозом этого мучительного дня становилось тщательное мытье Мани в семи водах до победного скрипа. Дядя Миша, как опытный диссидент, отстоял-таки единоличное право на свою гигиену и мылся сам.
В один из таких трудных дней я позвонила Маньке, чтобы позвать ее к нам переждать стихийное бедствие под названием «Ба убирается».
– Ты можешь зайти за мной? – шепотом попросила Маня.
– Зачем? Сама не дойдешь?
– Я тебя как друга прошу, – рассердилась Манька, – тебе трудно до нашего двора дойти? Поговорить надо, а у тебя не дадут.
Через пять минут я уже была у нее. Встретила она меня с таким лицом, что мне сразу стало ясно – случилось что-то непоправимое. Маня молча приложила палец к губам и повела меня в гостиную.
– Где Ба? – шепотом спросила я.
– На втором этаже, протирает окна.
– Так что случилось?
– Я случайно сломала плафон бра.
– Чешского? – Я похолодела.
– Да!
У меня захватило дыхание. Историю о том, как Ба простояла сутки в ленинградской очереди за люстрой и бра, мы знали наизусть. Героизм Ба заключался не в том, что она раздобыла в невероятной давке светильники потрясающей красоты. А в том, что когда она с коробками вернулась в гостиницу и обнаружила трещину на одном из плафонов, то по горячим следам вернулась в магазин, боем взяла прилавок и заставила продавщицу поменять сломанный плафон на целый! Я думаю, в магазине «Свет» ее запомнили на веки вечные.
Мне стало дурно.
– Как это ты умудрилась? – спросила я, разглядывая длинную продольную трещину на плафоне.
– Случайно, – заплакала Манюня, – погналась за мухой, она села на плафон, ну я и не подумавши хрястнула со всей силы!
На Маню было жалко смотреть – губы тряслись, боевой чубчик на голове поник и позорно повис надо лбом.
Я повернула плафон трещиной к стене.
– Пойдем отсюда, слезами горю не поможешь.
Мы выскользнули за дверь и поплелись к нашему дому со скоростью похоронной процессии. Настроение у обеих было препаршивое.
– Убьет ведь! – тяжко вздыхала Манюня.
– Убьет! – горько соглашалась я.
Во дворе нашего дома мы столкнулись с моей сестрой Каринкой. Ну, то есть как столкнулись, сначала из-за угла здания вылетела свора дворовых собак, потом группа испуганных мальчишек, а следом с гиком выскочила Каринка. Каринка дико щерилась и грозно трясла длинной грязной метлой. Волосы у нее были всклокочены донельзя, на лице, во всю левую щеку, красовался длинный чапаевский ус, подол платья был изорван практически до трусов.
– Откуда метла? – невозмутимо поинтересовалась я. Мою невозмутимость, которой бы позавидовал сам Сфинкс, легко можно было объяснить: все в облике моей сестры – и угольный ус, и всклокоченные вихры, и разодранное практически в клочья платье – было вполне обыденным явлением.
– Украла в подсобке у дворника, – шмыгнула Каринка. Она провела указательным пальцем под носом, и рядом с одним усом у нее на лице появился второй.
– Покажи руки, – скомандовала я.
Каринка растопырила пальцы – руки ее были вымазаны чем-то черным.
– Это что такое?
– Уголь, я сначала кидалась в этих балбесов углем, а потом обмакнула в грязь метлу и погнала их как гусей.
Моя сестра была сущим наказанием для всего подрастающего мужского населения нашего квартала.
Мальчики боялись ее как огня – она могла с легкостью поколотить любого из них. Если у какого-нибудь несознательного мальчика почему-то отказывал инстинкт самосохранения и он обижал девочку, то эта девочка прямиком шла жаловаться моей сестре. А далее часы этого мальчика были сочтены – сестра находила его, и все заканчивалось тем, что вечером к нам в дверь скреблась очередная мама, держа за руку очередного покалеченного сына.
– Кто бы мне объяснил, за что я страдаю! – восклицала мама, отвешивая сестре очередной фирменный подзатыльник.
Мы с Манькой очень гордились Каринкой. Пока Каринка оставалась моей сестрой, ни один мальчик не смел подойти к нам ближе, чем на пушечный выстрел. А так как уходить к другим родителям в обозримом будущем сестра не намеревалась, то мы чувствовали себя как у Бога за пазухой.
– Что щас расскажу, что щас расскажу, – забегала глазами по лицу Каринка.
– Что?
– Знаете, чего мне Маринка из тридцать восьмой квартиры рассказала? Что если кто-то сильно скосит глаза к переносице, а в этот момент его чем-то тяжелым ударят по голове, то он останется косым на всю жизнь. Вот!
– Врешь небось!
Каринка выставила вперед свои грязные руки, чтобы мы видели, что она не скрещивает пальцы.
– Клянусь! – поклялась торжественно. – Я и Маринку заставила поклясться и внимательно следила – она пальцы на руках не скрещивала. И даже ноги не скрестила. И даже пальцы на ногах! Я все видела!
Мы переглянулись.
– Это надо же, что в мире творится, – ошарашенно протянула Манюня.
– Давайте я с вами пойду домой, авось проскочу, и мама не заметит, что я платье порвала, – заканючила Каринка.
Мы согласились, хотя знали совершенно точно – мимо маминого взора порванное платье невозможно было пронести. Мы встали перед входной дверью так, чтобы заслонить сестру спинами, и нажали на звонок. И сразу поняли о провале операции, потому что мама открыла нам с таким выражением лица, что мы молча расступились – сестру бы уже все равно ничего не спасло!
Мама затащила Каринку в квартиру, подцепила ее, кажется, за лопатку и, как жертвенную овцу, поволокла в ванную комнату. Молча!
Мы с Маней затравленно прислушивались к голосам, раздававшимся из ванной комнаты.
– Сколько можно, – ругалась мама, – ну сколько можно!
– Ааааа, – орала Каринка, – я нечаянно порвала платье, мам, я не специально, это я когда через окно в подсобку пролезалаааааа!
– Раздевайся! – проорала мама так, что штукатурка посыпалась с потолка. – Снимай все!
Потом послышался плеск воды.
– Топит она ее, что ли? – вылупилась Маня.
Экзекуция Каринки напомнила нам о сломанном плафоне и, естественно, не добавила оптимизма – мы понимали, что и Маню поджидает такая же участь.
Минут через десять отворилась дверь ванной, и оттуда выползла чисто отстиранная сестра. Она куталась в банный халат, мокрые волосы были немилосердно прилизаны к голове, глаза припухли от слез. Кроме пламенно алеющего и увеличенного в размерах раза в два уха, других повреждений мы не заметили. Следом из ванной вышла мама.
– Марш все в детскую, и чтобы ни слуху ни духу вашего не было, понятно? – рявкнула она.
Мы припустили в комнату стаей вспугнутых сайгаков, а когда пробегали мимо мамы – инстинктивно втянули головы в плечи.
В комнате мы сочувственно разглядывали ухо Каринки.
– Больно было?
– Не очень, – шмыгнула сестра, – больнее было, когда она мне мокрые волосы расчесывала.
– А если у тебя ухо навсегда останется красным? – испугалась я.
– Не останется, – махнула рукой сестра, – если твое ухо от удара ведром пришло в норму, то почему мое должно остаться таким?
Я потрогала свое ухо. Все правильно, не прошло и месяца после знаменитого удара пластмассовым ведром по моему многострадальному уху, а оно вполне уже обрело прежние свои очертания.
Вообще наступили тяжелые времена. Нас уже сильно беспокоила наша внешность. И если Каринке было наплевать, что у флейтистки Ангелины уже выросла небольшая грудь, а у нас хоть шаром покати, то мы с Маней по этому поводу сильно переживали. Нам было по одиннадцать, и мы отчаянно хотели быть красавицами.
Меня волновал мой высокий рост, я уже вымахала аж до 165 см и могла похвастаться 38-м размером ноги. К тому же, для пущего счастья, у меня посреди лица вырос достаточно крупный нос с горбинкой.
– Мам, – пожаловалась я как-то маме, – ну почему у всех наших детей носы как носы, а у меня не пойми что?
– Ну что ты, дочка, – мама погладила меня по голове, – у тебя аристократический нос, с горбинкой, твой профиль называют римским! Такие носы были у античных богов и богинь!
– Да? – обрадовалась я.
– Ну конечно!
Манька скосила глаза к переносице.
– Я тоже хочу горбинку, – обиделась она, – чтобы как у античных богов!
– Зачем тебе горбинка? – засмеялась мама. – Ты и так красавица!
Маня надулась. В том, что она красавица, Манюня ничуть не сомневалась. Только лишняя горбинка на носу ни одной красавице не помешает!
Поэтому если меня беспокоила моя горбинка, то Манечку беспокоило как раз ее отсутствие. Так и жили, тайно завидуя друг другу.
Мы тихонечко ковырялись у себя в комнате, рисовали цветными карандашами. Потом вытащили альбом творческого наследия эпохи Возрождения и стали его пролистывать. Особенно пристально, пока мама гремела посудой на кухне, рассматривали мужское достоинство Давида.