Лабиринт Бушков Александр
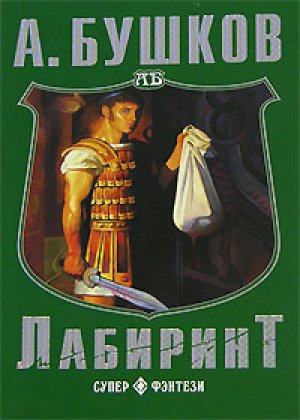
Я заказал вино и обед, достаточно дорогие, чтобы быть занесенным в число гостей, заслуживающих внимания и лучшего обращения, и довольно быстро разговорил хозяина, незаметно переведя разговор с кносских новостей на Тезея, о котором я, профан этакий критский, знал едва ли не меньше новорожденного младенца.
И хозяина понесло. Я и раньше знал, что Тезей благодаря своему живому характеру горячей любовью афинян не пользуется. Спасало их от полной прострации лишь то, что большую часть времени Тезей проводил, болтаясь в иных краях с ватагой шалопаев под предводительством некоего лапифа Пиритоя, того еще молодчика. Однако и самые светлые деньки когда-нибудь кончаются, и афиняне вновь обрели Тезея при обстоятельствах, о которых я слышал впервые, – это были самые свежие новости, еще не успевшие дойти до Крита.
Пиритой со своими приятелями, в том числе, понятно, и Тезеем, ни за что не упустившим бы такой случай, отправился в Кикир, чтобы украсть жену у тамошнего царя Эдонея. Однако старый Эдоней кроме молодой красивой супруги обладал еще и знаменитой на всю Элладу псарней, обитателей которой он, не мудрствуя, и спустил на нахальных гостей, вознамерившихся против его воли разлучить его с любимой супругой. Пиритоя и кого-то еще псы разодрали в клочки, кое-кому удалось удрать, а покусанный Тезей угодил в Эдонееву тюрьму, где, на радость афинян, мог задержаться надолго.
Выяснилось вскоре, что радовались Афины рано. Одно из заданий, данных царем Эврисфеем Гераклу, как раз и заключалось в том, чтобы привести из Кикира свору тамошних псов. Геракл выполнил его добросовестно, как и все прочие, но по собственной инициативе, уходя из Кикира, кроме псов прихватил и Тезея, приходившегося ему дальним родственником. Так и вышло, что Тезей, едва залечив раны, осел в Афинах, причем пережитые неприятности отнюдь не способствовали превращению его характера в голубиный. И слабым утешением афинянам служили лишь поговорки вроде «перебесится – остепенится». Увы, поговорки не всегда отражают хитросплетения реальной жизни – в частности, увиденный мною утром в порту изувеченный корабль приобрел такой вид после того, как Тезей с дружками не поделили что-то с его командой.
Наш чинный разговор был прерван к вящему моему удовольствию и полному неудовольствию хозяина. Глянув случайно в окно, он съежился – мне показалось даже, что сейчас он нырнет под стол, – и прошептал:
– Тезей!
И шустро юркнул за стойку. Я пересел на другой табурет, в угол, чтобы быть лицом к вошедшему.
Ничего пугающего и ничего выдающегося. Таких тысячи. В меру привлекателен, молод, достаточно силен, но никакой, как у них в Афинах говорят, божьей отметины. Впрочем, он меня вполне устраивал таким, каким был.
Удостоив меня лишь мимолетным равнодушно-пренебрежительным взглядом, он ногой придвинул табурет, сел и рявкнул:
– Вина! И не того уксуса, которым простаков потчуешь. Что стоишь, может, денег ждешь?
Хозяин выпорхнул из-за стойки так, словно на ногах у него внезапно оказались крылатые сандалии Гермеса.
– Какие деньги, Тезей? – приговаривал он, увиваясь вокруг стола. – Такая честь моему скромному заведению, жаль вот, жена с дочкой на базаре, они бы тоже порадовались…
– Кстати, о дочке, – Тезей его не отпускал. – Красивая она у тебя, да больно много о себе воображает. Ты почему недотрогу воспитываешь, старый баран? (Хозяин мялся, угодливо хихикая.) В кого это она такая скромненькая, интересно бы знать? Уж наверняка не в тебя. Думаешь, не знаю, куда ты норовишь шмыгнуть, когда жена гостит у родни? Домик у бани, а?
Я не сводил взгляда с его лица и, надо признаться, испытал некоторое потрясение. Я умею разбираться в людях и в их поведении, ремесло того требует, я и жив-то остался до сих пор только благодаря умению разгадывать собеседника, противника. Так что ошибиться я никак не мог. Этот парень играл, как первоклассный комедиант, актер из самых лучших, великолепно изображая недалекого молодого шалопая, полупьяного хама, смысл жизни которого заключен лишь в неразбавленном маммертинском вине, драках и доступных красотках. Но это была маска; судя по всему, он давно и тщательно отрепетировал интонации, позы и жесты. Не только простака хозяина, многих людей поумнее он с успехом мог ввести в заблуждение. Но только не меня.
То, что он оказался сложнее, чем я представлял, собственно, ничего не изменяло. Его роль в предстоящих событиях четко определена, и его качества никоим образом ни на что не влияют. Примитивная марионетка как раз способна создать лишние хлопоты и вызвать непредвиденные случайности, а я, при всем к себе уважении, отнюдь не считаю, что полностью застрахован от упущений и промахов. Решено, он подходит.
– Повеселились на славу? – спрашивал тем временем кабатчик, неуклюже меняя тему разговора.
– Ничего интересного, – небрежно махнул рукой Тезей. – Разнесли в щепки одну тартесскую лоханку.
– Какой великий подвиг, право! – громко и насмешливо сказал я на весь кабак. – Хозяин, выгляни на улицу, посмотри, не шатаются ли поблизости летописцы. Если увидишь рапсода, тоже зови. Такое героическое деяние нужно немедленно занести в скрижали.
Хозяин уставился на меня с ужасом, Тезей – с изумлением.
– Я не ослышался? – спросил он многозначительно.
Я сказал раздельно и громко:
– У нас на Крите такими потасовками и уличные мальчишки не стали бы хвастаться.
– Так ты с Крита? – Он издевательски расхохотался. – Это у вас там любвеобильная царица наставила рога супругу в прямом и переносном смысле?
– Болтают всякое, – сказал я, – а ты, оказывается, не только болтун, но еще и сплетник?
Он двинулся ко мне нарочито медленно. Я стоя ждал, неотрывно глядя ему в глаза.
Он шел, отшвыривая ногами табуреты.
Я стоял.
Он чуточку замедлил шаг – его смутило, что я держусь столь уверенно.
Я смотрел ему в глаза.
Теперь нас разделял шаг, не более. Он нерешительно положил ладонь на рукоять меча.
– Меч не стоит обнажать в кабаке – он теряет блеск, – сказал я. – И потом я безоружен, это как-то…
– Что тебе нужно, бычачий подданный? – спросил он грубо, но за грубостью не скрылось то самое удивление – он был умен, сообразил, что все это ничуть не похоже на обычную кабацкую ссору, и откровенно колебался.
– Я не за тем плыл к тебе с Крита, чтобы ты меня зарубил в первые минуты знакомства.
– Ко мне? – Он обернулся: – Хозяин, брысь!
Хозяин исчез. Тезей присел напротив – смесь удивления, любопытства и подозрительности.
– Ты кто такой?
– Я – Рино с острова Крит, по воле богов толкую сны.
– Я сплю без снов, – отмахнулся он.
– Ой ли? – сказал я. – Ложь. Сны видят даже собаки, а уж человек… Человек их видит всегда. Отними у человека сны – и он умрет от отчаяния, потому что сны – это наши желания и те, что еще могут осуществиться, но чаще всего – желания уже заведомо несбыточные. Сплошь и рядом во сне мы живем более насыщенной и удачливой жизнью, нежели наяву, потому что наяву заела обыденность, смелости не хватило, просто не повезло. Можешь мне верить – я большой специалист по снам. Я их толкую, но одного толкования мало.
– Что же еще нужно, кроме толкования? – спросил он, и я подумал: вот и все, теперь ты мой. Ты умнее, чем я считал, но я понял тебя, и ты все-таки станешь моей марионеткой.
– Согласно доктринам современной науки, сны человеку посылают боги, – сказал я. – Но для чего они это делают? Чтобы дать отдых уставшему за день, чтобы подсластить нашу убогую и скудную жизнь? Если ты перебиваешься с хлеба на чечевицу, во сне будешь играть мешками с золотом, если тебе не отдалась гордая красавица, во сне ты ее получишь, если ты родился в хижине, во сне будешь восседать на троне, одетый в пурпур, и все это – милостью добрых богов. Как умилительно, слов нет… Чушь собачья, Тезей. Боги становятся филантропами раз в столетие – по капризу, из пресыщения. Когда им надоедает Олимп, небо, облака, они спускаются на землю, чтобы немного развлечься. А развлечения бывают самыми разными – например, творить добро.
– Философия у тебя интересная, – сказал Тезей. Сейчас он был таким, каким, по всей вероятности, бывает только наедине с собой. – Но перейдем к делу.
– Я и говорю о деле. Ты согласен теперь, что боги посылают нам сны отнюдь не по доброте своей? Отлично. Тогда?
– Что же тогда? – подхватил он.
– Сны – одна из разновидностей наказания. Чем обычно наказывают людей боги? Засухой, дождем огненных камней, градом, чудовищами, пожарами, мором, набегами неприятеля. Но все это действует лишь на наше бренное тело, а сны – истязание души.
– А что если боги не имеют никакого отношения к нашим снам? – резко перебил он.
– Прекрасно, – сказал я. – Собственно говоря, заявлять так – богохульство, ведь каждому известно, что сны нам посылает Морфей. Ладно, будем надеяться, что он нас не слышал, не будет у него времени следить за каждым. Видишь ли, Тезей, если сны – наказание, то вряд ли имеет значение, посылает ли их бог или человека наказывает его собственная душа, ты согласен?
– Что-то я тебя не совсем понял. Я нагнулся к нему и заглянул в глаза:
– А что заставило тебя поверить, будто сны – наказание? Каждую минуту я жду, что ты скажешь: «Критянин, ты пьян или безумен и болтаешь глупости. Если я увидел во сне поющую на крыше корову или храмовый праздник в честь Зевса, то в чем же тут наказание?» – Я нагнулся к нему еще ближе. – Ничего подобного ты не сказал, такой вывод тебе и в голову не мог прийти, потому что твои сны на редкость однообразны. Тебе снятся горящие города, которые жгут твои воины, армии, которые ты ведешь, морские сражения, в которых побеждает твой флот. Это под твоим мечом хрустят кости Лернейской гидры, это на твоем ложе Андромеда и Елена Прекрасная, это от твоих стрел падают стимфалиды, это через твое плечо перекинуто золотое руно. Ты примерял на себя подвиги Геракла и аргонавтов, славу Одиссея и битвы Патрокла – так слуга, пока хозяина нет дома, надевает его блестящую виссоновую тунику и кривляется перед зеркалом. Но потом наступало жестокое утро, младая наша Эос розовыми своими перстами пыталась открыть тебе глаза, а ты отбивался и молил дать досмотреть сон. И горько сожалел, что живешь не в гиперборейских землях, где ночь длится полгода. Так, Тезей? Я прав?
На лице у него был страх.
– Ты колдун или бог?
– Я обыкновенный человек, – сказал я. – Стыдно, Тезей, – ты сомневаешься в могуществе человеческого ума? Твой дед Питтей, царь Трезены, был образованнейшим человеком своего времени, писал книги, ты многому у него научился. К чему нам привлекать колдунов и богов? То, о чем думает один человек, может отгадать другой – вот и весь секрет.
Хотя есть и другой секрет, унизительный для него, и поэтому не следует говорить о нем вслух – он считает себя неповторимой и самобытной личностью и мысли не допускает, что его побуждения ужасно стандартны.
– Если честно, я вполне сочувствую тебе, Тезей, – сказал я. – Мачеха у тебя – весьма неприглядного поведения особа, даже убить тебя пыталась. Отец пока что не намерен освобождать для тебя трон. Золотое руно давно отнял у колхов Язон, чудищ трудолюбиво перебил Геракл, осада Трои – в прошлом. Ну где уж тут проявить себя? И чтобы дать хоть какой-то выход неутоленному честолюбию и энергии, ты буянишь в портовых кабаках, пугаешь путников на дорогах…
– Хватит! – Он грохнул кулаком по столу, упал и разбился кувшин. Тезей склонился ко мне и заговорил лихорадочным шепотом, готовым в любой момент перейти на крик. – Да, ты прав, проклятый критянин. Я хочу славы. Чем я хуже Язона, Патрокла или дяди Геракла? Чем они были лучше меня – тем, что родились вовремя и ухватили за хвост счастливей случай? Почему я, молодой, сильный, не без способностей, точно знающий, чего хочу, должен прозябать в глуши? Где справедливость богов, о которой вопят во всех храмах? Или ты будешь говорить о деле, или…
Его рука дернулась к поясу. Переигрывать не стоило – он приведен в нужное состояние, пора обговаривать конкретные детали.
– В последнее время стало ужасно модным жаловаться на несправедливость богов, – сказал я. – Плохому любовнику всегда неудобная постель мешает. Хорошо, оставим высокие материи. Поговорим о деле. Ты жаловался на несправедливость богов? Что ж, настал твой час. Чудовища, некогда обитавшие в ущельях Эллады, перебиты, но остается Минотавр, страшилище из кносского Лабиринта. Убей его, и тебя признают равным Гераклу. Или ты в этом сомневаешься?
– Минотавр? – переспросил он, заметно побледнев. – Это страшилище?
– Испугался? Столько лет мечтал о славе, а теперь, когда стоит лишь протянуть руку и взять ее, как спелое яблоко с ветки, идешь на попятный? Или все же думаешь, что это и подвигом нельзя назвать? Вспомни живую дань, которую платят Криту твои Афины. Хочешь, выслушаем мнение простого, среднего человека? Хозяин! – закричал я.
Хозяин опасливо приблизился. Он был несказанно удивлен и обрадован, застав нас мирно сидящими за своим столиком, а утварь своего заведения, если не считать кувшина, – совершенно целой. Однако кувшин он все же отметил скорбным взглядом.
– Друг кабатчик, что ты думаешь о Минотавре? – небрежно спросил я.
– Мерзкое чудовище. – Его лицо помрачнело. – Сколько это может продолжаться – живая дань, погибшие смельчаки? О чем Геракл думает, не знаю, как раз ему по плечу. Постарел наш Геракл, что ли…
– А найдись смельчак и убей он Минотавра? – спросил я.
– Вся Эллада славила бы его как богоравного!
– Довольно, иди, – сказал я. – Итак, Тезей? Наш друг кабатчик нисколько не преувеличил – победителя Минотавра весь мир, и особенно Эллада, признают героем, равным Гераклу и Язону. Боишься?
– Как тебе сказать, – произнес он задумчиво. – Это не страх, тут другое. Сорок три человека уже погибли, ни один из них не вернулся назад. А ведь это были опытные, набившие руку бойцы. Последние два года никто уже не отваживается выйти на поединок. Я не боюсь рисковать, но какой смысл идти в бой, зная заранее, что тебя ожидает поражение?
– Ты просто не веришь в свои силы, – сказал я. – Разве до Геракла никто не пытался убить Немейского льва? Разве до Язона никто не пробовал добыть золотое руно? Путь к победе всегда устлан трупами неудачливых предшественников.
– Может быть, ты побывал в Дельфах и заранее знаешь…
– И не думал, – сказал я. – Хороший лекарь никогда не станет лечиться у другого лекаря, иначе он рискует подорвать свой авторитет. Решайся, Тезей. Рискни, поверь, что повезет именно тебе, что так предначертано. Я могу уйти, но ты никогда не простишь себе, что однажды смалодушничал.
Наступил решающий миг. Он умен и честолюбив, но нужно еще, чтобы он не оказался трусом. Неизмеримо проще было бы, окажись он откровенным примитивным подонком, тогда я мог бы позволить себе кое-какими намеками убедить его, что его задача легче, чем ему представляется. Но он пока все-то лишь юный неглупый честолюбец, равно чуждый подлости и героизму, и моя откровенность может его отпугнуть. А жаль. Как-никак неплохая кандидатура на роль главного героя, дело не в молодости и обаянии, родословная его меня привлекает – сын Эгея, царя одного из славнейших городов Эллады, внук мудрого царя Питтея, воспитывался в знаменитой своими учебными заведениями Трезене, родственник Геракла, наконец, а это – преемственность поколений, толпа такое любит, Аид меня забери.
– Я согласен! – Он вскинул голову.
Конечно, он чуточку рисовался, сам восхищался саоей храбростью, но и понять его можно – не так-то просто решиться выйти на бой с чудовищем, прикончившим уже сорок три храбреца. Итак, полдела сделано.
– Ты победишь, Тезей! – раздался мягкий вкрадчивый голос. Давненько я его не слышал, но ничуть не удивился – чего-нибудь в этом роде следовало ожидать. Впрочем, и на лице Тезея я не заметил особого удивления – очевидно, он полагал, что, решившись на подвиг, может беседовать с богами, как равный.
Гермес, бог торговли и всевозможных плутней, покровитель путников и мошенников, шествовал к нам от двери во всем своем великолепии, в самом, так сказать, парадном и престижном облике – он шагал по воздуху, не касаясь грязного пола, прозрачные, отблескивающие радужными вспышками крылышки золотых сандалий трепетали, и сандалии казались живыми существами, прекрасными птицами, залетевшими из неведомой страны; в руке сверкал витой золотой кадуцей; короткий плащ, сотканный из радуги, колыхался за спиной; сияние, напоминающее чистым золотым цветом луч солнца, пробившийся сквозь тающую грозовую тучу, излившую весь до капельки дождь, вплыло следом за Гермесом в дверь и заливало кабачок, преображая обшарпанные стены и делая гармонично красивыми грубые табуреты. Выглядело все это достаточно эффектно – наш покровитель умеет себя подать, ничего не скажешь.
– Ты победишь, Тезей, – сказал Гермес мурлыкающим голосом. – Боги поручили мне, легконогому вестнику Олимпа, сообщить тебе эту приятную весть.
Он уселся в воздухе над табуретом и изящно скрестил ноги. Улыбка его была подкупающей, невинной и прекрасной, как лесной ручей.
– Ты не изумлен и не испуган, юноша? Я, правда, не самый старший и не самый влиятельный в семье олимпийцев, но бьюсь об заклад, тебе не столь уж часто приходится лицезреть богов…
– Как-то не приходилось, – сказал Тезей. – То ли я их не интересую, то ли…
Он все же не осмелился закончить, и Гермес сделал это за него:
– Они тебя не интересуют, ты это хочешь сказать?
Его улыбка стала еще более чарующей.
– А хотя бы и так, – сказал Тезей. – Почему я должен о вас думать? Что хорошего вы для меня сделали?
– А что ты сам сделал для того, чтобы обратить на себя внимание богов и пробудить к себе интерес?
– Я еще сделаю, – сказал Тезей уверенно. – На Крите.
– Да, разумеется, мой юный друг. – Гермес был великолепен. – И я послан, чтобы тебе помочь. Это моя обязанность – помогать героям, ты, может быть, слышал. Приходилось выручать и Одиссея, и Персея. Мои крылатые сандалии, которые я однажды одолжил Персею, тебе не понадобятся, а вот изделие Гефеста оказалось как нельзя более кстати. Возьми же, о Тезей!
Он снял с пояса короткий меч в богато изукрашенных ножнах и торжественно, протянул его Тезею. Похоже, на сей раз Тезей был слегка взволнован.
– Изделие Гефеста? – спросил он дрогнувшим голосом.
– Специально для тебя, – сказал Гермес. – Прикрепи его к поясу, юноша, и отправляйся собираться в дорогу. Ветер как раз дует в сторону Крита.
– Ты был великолепен, – сказал я, когда за Тезеем затворилась низенькая выщербленная дверь. – Однако встреча старых знакомых может обойтись и без ваших олимпийских выкрутасов, а? Юнца ты и так восхитил до предела.
Он усмехнулся, опустился на табурет, небрежно бросил кадуцей рядом с кувшином и взмахнул рукой. Золотистое сияние растаяло, исчез радужный плащ, крылышки сандалий помутнели и стали неподвижными, похожими на листки слюды.
– Так-то лучше, а то я чувствовал себя рыбкой в аквариуме, – сказал я. – Ты, как всегда, не упустил случая участвовать в спектакле?
– Ну конечно. Я бы появился и раньше, но любопытно было, сумеешь ли ты справиться сам.
– Гефест, разумеется, и в глаза не видел этого меча «своей» работы?
– Разумеется, – беззаботно сказал Гермес. – Я его купил тут неподалеку, в лавке за углом. Что ж, поздравляю, дружок, замысел дерзкий, мистификация грандиозная. Ты полностью оправдываешь мое доверие и выгодно отличаешься от большинства моих обычных подопечных.
Странные все же у нас с ним отношения. Он, я подозреваю, втихомолку гордится мной – то, что среди его подопечных имеются столь яркие и одаренные личности, помогает ему не чувствовать себя на Олимпе простым мальчиком на побегушках, каковым он, в сущности, и является – не более чем гонец, которого без зазрения совести используют почти все остальные олимпийцы. А такие, как я, поднимают его и в собственных глазах, и в глазах других богов – отблеск наших свершений ложится и на него.
Ведь, если совсем откровенно, на что он может влиять? Купцы и мошенники и без него прекрасно знают свое дело, просто традиционно считается, что и они должны иметь своего покровителя. Но вот уважают ли они его, как, к примеру, уважают и не на шутку побаиваются моряки Посейдона, – другой вопрос. Возведенные в его честь храмы не столь уж многочисленны и пышны. И чтобы утолить свое честолюбие и упрочить свои позиции на Олимпе, он частенько возникает на пути героев и полководцев, оказывая мелкие услуги, прикидывается соратником и единомышленником, так что в конце концов его имя оказывается прочно связанным со всем, что эти герои совершили. Одиссея во время его многолетних странствий Гермес, рассказывают, временами доводил до бешенства, навязчиво возникая на его пути там и сям, чуть ли не в спальню к Навсикае вламывался, чуть ли не каждый шаг комментировал, с Цирцеей поссорил и заставил покинуть ее раньше, чем того Одиссею хотелось, – злые языки утверждают, что к Цирцее Гермес его попросту приревновал, и моральная стойкость Одиссея в отношениях с Цирцеей, если верить вовсе уж вошедшим в раж сплетникам, проистекала исключительно оттого, что Гермес подсунул ему какое-то снадобье, вызывающее временный упадок мужских способностей. Не знаю в точности, как там обстояло дело, история давняя, но от Гермеса всего можно ожидать. Говорят еще, что он умышленно затягивал странствия Одиссея, дабы тот испытывал как можно больше приключений (которые ему, естественно, предсказывал и из которых помогал выпутываться невредимым Гермес); что и узел на мешке с усмиренными Бореем ветрами развязал не кто иной, как Гермес, когда Итака уже виднелась на горизонте, – понятно, чтобы Одиссей подольше мотался по свету.
Правду от выдумки отделить довольно трудно (своих шпионов на Олимпе у нас нет, увы), но, как бы там ни было, Гермес своего добился – Гомер в «Одиссее» уделил ему немало места. Не зря (это я уже знаю совершенно точно) Гермес впоследствии, когда «Одиссея» была перенесена на папирус, уговорил слепого и неграмотного Гомера начертать на ней какие-то каракули, долженствующие изображать теплую дарственную надпись, и хвастался этим свитком на Олимпе направо и налево. Как и своим участием в истреблении сестер Горгон и спасении Андромеды.
Объективности ради и к чести Гермеса следует упомянуть, что иногда и он отличается весьма похвальной скромностью. Например, он очень не любит вспоминать, что по приказу Зевса арестовал Прометея и доставил его к скале в землях колхов. Гермес обычно сваливает все на эту мерзкую тварь, Зевсова орла (хотя орел выступал в роли простого полицейского), и на Гефеста, чье дело – приковать Прометея к скале – было уж вовсе десятое. Меж тем несомненно, что заправлял всем, когда орел сцапал Прометея за шиворот, как жалкого уличного воришку, не кто иной, как Гермес, и я не исключаю, что именно он предварительно и донес на Прометея Зевсу. Вспоминать обо всем этом Гермес не любит – как-никак Прометей до сих пор томится в тех диких скалах и пользуется большим уважением – и лишь видя, что недомолвками и умолчанием не отделаться, цедит с кислой миной, что он-де лишь исполнял приказ Зевса, которого никак не мог ослушаться.
Вот такой он у нас, Гермес. Конечно, в силу своего положения он обладает кое-какими способностями: полеты и ходьба по воздуху, фокусы с невидимостью и прочее, но на роль подлинного вершителя судеб не вытягивает. И он не настолько глуп, чтобы не знать, что и мы об этом прекрасно осведомлены.
– Я слышал, ты в последнее время стал отрицать существование богов? – спросил Гермес.
– Неправда, – сказал я. – Вы существуете, и с вами приходится считаться.
– Смел…
– Что поделать, таким уродился, – сказал я.
– Знаешь, постоянно насмехаться над богами опасно. Могут и отомстить когда-нибудь.
Я насторожился – не понравились мне что-то его глаза – и сказал:
– Ударом молнии?
– Рипо, голубчик, – поморщился Гермес. – Ты человек умный, спору нет. Но слышал ли ты, что своих желаний нужно бояться, ибо они сбываются?
– Не приходилось, – осторожно сказал я.
– Можно наказать молнией, а можно и удачей. – Он задумчиво повертел в руке кадуцей, улыбнулся преувеличенно добродушно и коснулся кадуцеем моего плеча. – Предрекаю тебе удачу, ею тоже можно наказывать…
– Намекаешь на судьбу Мидаса?
– Вот видишь, ты не понял. – Он улыбнулся уже искренне.
И растаял, исчез, как рассветный сон.
Горгий, начальник стражи Лабиринта
– Никак не получалось у нас разговора, не клеилось что-то. Вернее, я не мог начать, не знал, с чего начать. Минос долго рассказывал о вчерашних гонках колесниц, жалел, что проиграл тот, новенький, с гнедой квадригой, – крайнюю левую лошадь пришлось буквально накануне гонки заменить другой, слаженная квадрига перестала быть единым организмом, и возничий едва не сломал себе шею. А первым пришел Феопомп, которого Минос за что-то неизвестное мне крепко недолюбливает, но послать на Олимпийские игры придется все-таки его – при всем своем к нему отношении Минос вынужден признать, что этот тип обладает врожденными бойцовскими качествами и непременно выиграет. Лучше уж послать Феопомпа, чем не посылать никого, нужно помнить о нашем престиже и нашей роли в Играх – Минос чрезвычайно горд, что именно критяне стояли некогда у колыбели Олимпийских игр. Я слушал вполуха, рассеянно поддакивал в нужных местах, но, видимо, в конце концов все же рассеянность и равнодушие вырвались наружу, и Минос их заметил. Он остановился (мы прохаживались по западной галерее, самом тихом месте дворца, где всегда полумрак и тишина) и положил мне руку на плечо:
– Что с тобой происходит? Я заметил давно. И не я один.
Он облегчил мне задачу, сам свернул на нужную мне тропу, но я то ли растерялся, то ли не нашел нужных слов и смог лишь пробормотать:
– Пустяки.
– Мне-то ты можешь сказать? Долги? Нет, ты бережлив и богат. Заболел отец? Или, – он лукаво подмигнул, – влюбился наконец старый солдафон? Мы с тобой, хвала священному петуху, еще в том возрасте, когда можно подкреплять влюбленность практическими действиями. Я могу чем-нибудь помочь?
– Только ты и можешь помочь, – сказал я.
– Интригующе. – Он беззаботно улыбнулся. – Так чем же я могу тебе помочь?
– Мне, собственно говоря, помощь не нужна.
– Значит, ты выступаешь посредником? Почему же тот, за кого ты просишь, не обратится ко мне сам? Клянусь священным дельфином, я не думал до сих пор, что мои подданные боятся обращаться ко мне с просьбами.
– Ему довольно затруднительно обратиться к тебе с просьбой, – сказал я. – Для этого ему нужно сначала выйти из Лабиринта.
Улыбка мгновенно исчезла с его чуточку обрюзгшего, но все еще красивого и волевого лица, он невольно оглянулся, но на галерее было пусто и тихо.
– Ты опять за свое? – спросил он тихо, без выражения.
– Да, – сказал я. – Он двадцать лет сидит в Лабиринте. В чем его вина? В том только, что рожден распутницей?
Он схватил меня за серебряный наплечник, приблизил бешеные глаза, и гнев сделал его лицо совсем молодым, каким оно было много лет назад, когда мы врубались в стройные ряды египетской пехоты или отражали атаку хеттов:
– Не забывайся! Ты как-никак говоришь о царице Крита!
Я молча смотрел ему в глаза, и наконец он убрал руку, как-то расслабленно она соскользнула с моего плеча, перстни царапнули по закраинам моего панциря. Склонив массивную голову, он отошел на шаг, отвернулся и заговорил тихо:
– В чем-то ты прав. За один намек на это людей разрывают лошадьми перед дворцом, но если возле меня не будет хотя бы одного человека, с которым можно откровенно говорить, жизнь станет невыносимой. Шлюха, да, и все это знают. А что ты мне предлагаешь делать? Лупить метлой, как принято у черни? Или сделать нечто более приличествующее царю – отрубить голову? Отравить, быть может?
У меня сжалось сердце – нельзя вычеркнуть из памяти наши бои и походы, нельзя не сочувствовать тому, кто несколько лет дрался с тобой плечом к плечу, а однажды спас тебе жизнь. Тем более нельзя не сочувствовать, когда необъяснимым чутьем солдата чувствуешь в нем какую-то перемену. Что же, годы нас так меняют? Жизнь? Одежда из пурпура? Злая воля богов? И в чем же эта перемена состоит, до сих пор не могу понять.
– Не будем о Пасифае, – сказал я. – Не о ней речь, в конце концов. Я не хочу оскорблять ни тебя, ни даже ее. Мы сами недостаточно чисты, чтобы быть судьями. Я лишь напоминаю о Минотавре.
– Почему тебя так волнует его судьба? Судьба одного-единственного человека? Мы с тобой видели поля, покрытые тысячами трупов, огромные пылающие города, в которых не осталось ничего живого. Ты в состоянии подсчитать, сколько человек мы с тобой убили?
– Это была война, – сказал я.
– Ну и что? Разве за эти годы ты еще не успел понять, насколько мала цена жизни отдельного человека? Какому-нибудь голодному мудрецу простительно называть каждого живущего единственным и неповторимым. Но мы-то, Горгий, мы-то прямо-таки обязаны мыслить иными категориями. Государство, армия, город – вот о чем мы думаем, и тысячи лиц сливаются в одно поневоле, у нас нет возможности расщеплять целое на частички.
Он говорил что-то еще. Я солдат, прежде всего солдат, только солдат. Я не умею рассуждать на такие темы, да и мало что в них понимаю, откровенно говоря. Не мое это дело. Поэтому всякий раз, как только заходит речь о каких-то сложных и отвлеченных понятиях, я теряюсь, не умею связно высказать свои мысли. Но и устраниться от спора на сей раз не могу. И отступать не собираюсь. Это продиктовано чисто военным складом ума: можно иногда отступить, но нельзя отступать до бесконечности, когда-нибудь да следует закрепиться и принять бой.
– Тридцать лет назад ты был другим, – сказал я.
– Тридцать лет назад мы были молоды, Горгий, и, как все юнцы, считали, что жизнь предельно проста и никаких сложностей впереди нет. Но с годами приходит мудрость, пойми это наконец, мой верный меч.
– В последние двадцать лет мне пришлось иметь дело в основном с кинжалами, а не с мечами, – сказал я.
– Ты об… этом?
– Об этих, – сказал я. – Сорок три человека, стремившихся сразиться с кровожадным чудовищем, существовавшем лишь в их воображении. Что из того, что их убивал не я, а Харгос?
– Это еще кто?
– Знаток своего дела, – сказал я. – Бывший искусный воин, который стал непревзойденным мастером по ударам кинжалом в спину. Будем называть вещи своими именами: ты превратил меня и моих солдат в тюремщиков и палачей.
– Подожди, Горгий. – Он властно поднял руку. – А что тебя больше волнует – судьба Минотавра или то, что вас превратили в тюремщиков? Ну-ка?
– Ты снова жонглируешь словами, – сказал я. – Конечно, мне не по душе то, что нас все эти годы заставляли делать. Но и Минотавр, его судьба… Как-то все это не по-солдатски, не по-человечески.
– Ты меня осуждаешь?
– Нет, – сказал я. – Просто я иногда не понимаю тебя, а иногда думаю, что ты, прости меня, запутался. Я понимаю – двадцать лет назад ты был молод и, когда разразилась вся эта история, растерялся, искал решения на ходу. Сгоряча, желая отомстить Пасифае, возвел Лабиринт, не пресек слухи о чудовище, позволил им вырваться за пределы дворца, а потом и Крита. Конечно, потом ты опомнился, поручил мне охрану Лабиринта, велел мне поступать с желающими поединка так, как мы поступали. Наша выдумка зажила самостоятельной жизнью, не зависящей от своих творцов. Колесо закрутилось и крутится все эти годы, а мы растерянно смотрим на него, не пытаясь остановить. Не можем или не хотим? Притерпелись за двадцать лет. Может быть, решимся?
– А ты остался моим верным другом, – сказал он рассеянно. Он стоял, глядя то ли вниз, на покрытые сетью мелких трещинок каменные плиты дорожек, то ли в прошлое.
– От тебя требуется не столь уж много, – сказал я громче. – Набраться решимости и прекратить игру, не нужную никому, в том числе и нам, ее создателям. Мы еще в состоянии это сделать.
Он повернулся ко мне, и я понял, что ошибался, – он слушал очень внимательно.
– Прекратить затеянную сдуру игру, не нужную никому, даже нам, ее создателям, – сказал он. – Что ж, ты умный и проницательный человек, Горгий. Ты очень точно обрисовал историю создания Лабиринта, ты нашел нужные слова, я высоко ценю твою преданность и дружбу и никогда в них не сомневался. Может быть, пошлем надежного человека в Дельфы, к оракулу?
– Сомневаюсь, будет ли польза.
– Ты не веришь богам?
– Я привык верить людям, – сказал я. Я все-таки хорошо его знал и видел, что на этот раз он не собирается отделаться от меня под каким-нибудь надуманным предлогом или с помощью обещания подумать, как четырежды случалось за последние поды. На сей раз он готов что-то решить, что-то сделать, но надолго ли хватит благой решимости? Случалось и так, что он готов был уступить, но в последний момент менял решение и все шло по-прежнему.
– Высокий царь! Высокий царь!
Мы обернулись – к нам бежал телохранитель в желтой одежде с черным изображением головы священного быка на груди.
– Высокий царь! – Он задыхался. – Только что во дворец прибыл Тезей, сын царя Афин Эгея. Он желает поединка с Минотавром.
Наши взгляды скрестились – Минос был спокоен, а что касается меня, я просто не мог разобраться в своих чувствах и мыслях. Властным мановением руки Минос отослал телохранителя, тот уходил медленно, по-моему, ему очень хотелось оглянуться, но он, разумеется, не посмел.
– Через несколько минут эта новость облетит весь дворец, – сказал Минос. – А в Кноссе наверняка это уже знают, вряд ли он держал свои намерения в тайне. Два года гостей не было.
– Еще один, – сказал я. – Сорок четвертый. Что же, и ему отправиться вслед за остальными? Пора на что-то решаться.
– Хорошо. Но ты-то мне веришь, Горгий? Веришь?
– Разве о таком спрашивают? – сказал я. – Я не могу не верить человеку, который спас мне жизнь.
– Спасибо. – Он коснулся рукоятки моего меча. – Когда же я в последний раз держал в руках меч?
– На берегах Скамандра, двадцать три года назад, – сказал я. – Помнишь ту войну? Весть, что умер Великий Сатурн и трон перешел к тебе, застала нас именно там.
– Да, действительно. Что же, пойду взгляну на этого юного храбреца. Ты со мной?
– Я приду позже, – сказал я.
Да, Скамандр… Для Миноса это был последний поход, я же участвовал еще в пяти, а потом родился Минотавр, появился Лабиринт и мы сменили мечи на кинжалы.
Наверное, я уже старик, если считаю, что у меня не осталось ничего, кроме воспоминаний, но, с другой стороны (этого неспособна понять и оценить молодежь), воспоминания – огромное богатство. Как всякое богатство, оно порой расходуется крайне неумеренно.
Но обо мне этого не скажешь. Я не мот и не скупец в обладании своим богатством, избегаю обеих крайностей. Я умею расходовать воспоминания разумно и бережно. И все же порой, словно богатей, задумавший вдруг кутнуть, поразвлечься, я уверенно запускаю руку в груду своих невидимых золотых монет. Но ведь нельзя иначе, как, например, сейчас, когда только что закончившийся разговор вновь возвращает к тому дню, когда Минос спас мне жизнь…
Тридцать лет назад Минос был юным наследником престола, а я – столь же юным рубакой, бедным на деньги и жизненный опыт. Правда, мы успели достичь кое-какой славы – участвовали в десятке крупных сражений и походов, едва спаслись после печального и унизительного для эллинов сражения, когда фараон Меренптах наголову разгромил греческое войско в дельте Нила. Этого, разумеется, было весьма и весьма недостаточно – тем же тогда мог похвастаться едва ли не каждый носивший меч, время было бурное.
С отрядом критской конницы мы добрались до Геркулесовых столпов, угадав как раз ко времени, когда Элаша, царь Тартесса, замыслил дерзкий набег на окраинные владения великой Атлантиды. Схватиться с могучими атлантами, потомками Посейдона, вторгнуться в страну, где храмы, города и дома набиты золотом, – могло ли найтись что-либо более привлекательное даже для людей посерьезнее нас, тогдашних? Конечно, мы тут же истратили последние деньги, уплатив за места на кораблях.
Сейчас, с высоты своих лет и военного опыта, я просто не могу понять, как не провалилось это прямо-таки обреченное на провал предприятие. Элаша был смел и горяч, но искусством полководца не владел ни в коей мере. У нас вообще не было хорошего полководца. И разведку мы не выслали. Нам просто повезло. Мы благополучно высадились, угодив в момент, когда поблизости не было вражеских войск, заняли большой и богатый город, похозяйничали там в свое удовольствие и отправились восвояси, не претендуя на что-то большее, – щелчок по самолюбию надменных внуков Посейдона и так получился достаточно ощутимым.
Сегодня я, повторись такой поход, сделал бы несколько простых вещей – разместил бы в месте высадки несколько сильных отрядов прикрытия, разослал во все стороны легкоконных разведчиков, а главное – перекрыл бы то ущелье, потому что большого труда не стоило незаметно перебросить по нему к месту стоянки наших кораблей хоть целую армию. Ничего этого не было тогда сделано, мы даже не выставили боевого охранения, считая, что войск поблизости нет.
Мы ошиблись. Не зря ходят упорные слухи, что жрецы атлантов владеют каким-то таинственным способом молниеносно передавать известия и приказы на огромные расстояния. Мы возвращались, опьяненные вином и победой, мы хвастались друг перед другом действительно грандиозной добычей, пленницами, золотым оружием и собственной храбростью, и никто уже не сохранял строя, отряд превратился в бредущее без порядка и управления скопище людей. И тут пронзительно завыли служившие атлантам боевыми трубами огромные морские раковины, которые они привозят из каких-то дальних неведомых земель. Загремели трещотки. Из ущелья слева от нас, рассыпаясь веером, на полном скаку стали вылетать конные полусотни, их становилось все больше и больше и им не было конца; казалось, их в дикой злобе извергают сами скалы. Это была знаменитая тяжелая конница атлантов, Любимцы Посейдона. Позже, когда я метался в жару на корабле, эта картина вновь и вновь вставала перед глазами. Да и ночью, уже на Крите, уже оправившемуся от раны, иногда снилось – сухая каменистая земля, ослепительно синее небо, гремят копыта, воют трубы, мелькают оскаленные, пенные конские морды, сверкают доспехи и шлемы из орькалка и дико ревут всадники: «Посейдон! Посейдон!» Их было раз в пять больше. Конница, а у нас две трети людей были пешими – сколько лошадей можно привезти на кораблях?
Нас спасло одно – то, что мы находились на расстоянии полета стрелы от наших кораблей. И все-таки мы имели кое-какой воинский опыт. Вряд ли нас поддерживало еще и сознание, что позорно будет бежать, бросив добычу, после того, как мы так дерзко бросили вызов могуществу атлантов. Ни о чем подобном в такие минуты не думаешь. Просто мы были в двух шагах от своих кораблей.
Элаша, к радости наследников, там же и сложил голову, бросившись галопом со своими конниками навстречу врагу. Их буквально смяли и растоптали тяжелые меченосцы. Мы поступили иначе – построились тесными рядами, поместив повозки с добычей и пленников в центр, и стали отступать к морю, ощетинившись копьями и пуская стрелы. То, что у нас было много пеших, вооруженных луками, как раз и пошло на пользу: атланты изрубили несколько внешних шеренг, но не смогли прорвать наши ряды. Половину людей мы потеряли, но добычу сохранили всю, так что доля каждого увеличилась вдвое. Это мне рассказали, когда я очнулся на корабле, – хвала богам, что нам удалось уйти от флота атлантов, воспользовавшись туманом.
Я был тяжело ранен в первые минуты боя, когда Элаша со своими уже погиб, но наш отряд не успел сомкнуть ряды, и какое-то время царила неразбериха.
Конник, который ударил меня мечом, не сумел добить вторым ударом – распаленная лошадь пронесла мимо, но я, потеряв сознание, неминуемо бы слетел с седла и погиб под копытами своих и чужих лошадей, если бы не Минос. Он не дал мне упасть, поддержал, вывел моего коня из боя к повозкам и уложил меня в одну из них, а сам бросился назад, вспомнив, что у нас имелся небольшой запас огненных стрел, наилучшего средства борьбы с конницей, распорядился метать их и сумел многое сделать для того, чтобы отступление не превратилось в беспорядочное бегство, а атланты не успели бы отрезать нас от кораблей. Так что один способный стратег у нас все-таки оказался.
Так все было, он спас мне жизнь, я навеки ему благодарен, но сейчас, глядя, как он уходит по галерее быстрой, однако исполненной величавого достоинства походкой, я не в силах ответить на давние вопросы: правда это или нет, что мы не понимаем друг друга, как встарь? Правда ли, что чего-то не понимаю я? Что же большое и важное унеслось вскачь вместе с нашей юностью на полудиких тартесских скакунах? В самом деле, что?
Рино с острова Крит, толкователь снов
– Конечно, я и не рассчитывал, что все решится с первой аудиенции и перед Тезеем распахнутся украшенные коваными барельефами ворота главного входа в Лабиринт, едва он заявит о своей твердой решимости разделаться с чудовищем. Такие вопросы Минос с маху не решает. Более того, отправь он Тезея в Лабиринт сразу же, это означало крах всего замысла, это означало бы, что Тезея прикончат там, как и всех его предшественников, ибо Горгий еще не обезврежен, а Минос еще не подведен к нужному решению. Первая встреча была лишь обязательной торжественной церемонией.
Я на ней, разумеется, присутствовал. Для успеха дела мне просто необходим был пост главного сопроводителя, который представляет Миносу знатных чужеземных гостей и обязан присутствовать в тронном зале до конца приема. Получить эту должность было нетрудно – лишь сказать об этом Пасифае. Никогда не вникал я в мелкие подробности, и мне ничуть не интересно, что там учинил Клеон, только прежний главный сопроводитель, безобидный такой и осанистый старичок, проходя по галерее, вдруг схватился за горло, рухнул ничком и тут же скончался на глазах нескольких придворных. Сердце, вероятно. Поскольку он не участвовал в интригах, переполнявших дворец от подвалов до крыши, никто не стал шептать о насильственной смерти. Смотритель дворца, ведавший всеми назначениями, от главного церемониймейстера, моего прямого начальника, до кухонного мальчишки, был человеком Пасифаи, и я тут же заполучил так кстати освободившееся место. Никто и внимания не обратил – должность эта во дворце высоко не котировалась. Ариадна, правда, встретив меня, удивилась было, но я объяснил, что удостоен этого поста в награду за успешное гадание, и этого ей оказалось достаточно.
Жизнь при дворце была скучноватая, собственно, кроме интриг, развлечений не было, соискатели поединка к тому же не появлялись давно, так что в тронный зал собрались царедворцы и приближенные от мала до велика – все, кто имел на это право. Я впервые присутствовал на столь представительном и торжественном сборище, но это ничуть не наполнило трепетом сердце и особого впечатления не произвело. Толпу сановников, этих разряженных в пурпур и виссон болванов, вообще не следовало брать в расчет, а тем более интересоваться ими. Горгий, как обычно, был словно олицетворение мировой скорби, и я знал, почему он сегодня особенно хмур, – люди Клеона, обязанного теперь отчитываться и передо мной, уже донесли о разговоре Горгия с Миносом. О чем они разговаривали, подслушать удалось плохо (недавно умер чтец по губам, один из лучших лазутчиков Клеона), но я примерно догадывался. Пасифая разглядывала моего афинянина с откровенным любопытством стареющей шлюхи, Ариадна – с жадным удивлением ребенка, узревшего великолепную игрушку, но было уже в ее глазах и не одно детское, так что и с этой стороны дело развивалось в нужном направлении.
Главным образом меня, понятно, интересовал Минос. Я впервые видел так близко этого храброго в прошлом солдата, любителя и любимца женщин, человека великого ума и вынужден был признать, что противник у меня достойный. Это не означало, что моя задача так уж трудна. Во-первых, то, что однажды построено одним человеком, всегда может в один прекрасный момент быть разрушено другим. Во-вторых, в отличие от обыкновенного человека, царю свойственны некоторые стереотипные ходы мышления и присущие только властелинам страхи. И сыграть на этом можно великолепно.
Все шло, как обычно. Минос расспросил Тезея о происхождении, родственниках, прежних подвигах, буде таковые имеются, и, оставшись, по моим наблюдениям, довольным, отпустил его, ничего конкретного не пообещав, а дальнейшего я уже не видел и не слышал – вывел Тезея из тронного зала, и на этом мое участие в церемонии закончилось, о чем я нисколечко не сожалел.
– Он не сказал ни да, ни нет, – обернулся ко мне Тезей, когда мы оказались в достаточно уединенном коридоре.
– Обычная блажь многих властелинов – оттягивать решающий миг, – сказал я. – Будь то объявление войны, завершение ее или, например, наш случай. Попытка царя внушить себе и окружающим, что он сохраняет некую верховную власть над событиями. Успокойся, он вскоре решится. Как тебе понравились наши войска?
– Вымуштрованы неплохо, – сказал Тезей. – Только опыта, по-моему, им не хватает – в вашу землю давно уже никто не вторгался.
– Да, – сказал я. – Но мы воюем. Правда, давно предпочитаем воевать за пределами Крита. Нас боятся, и еще как боятся…
– Ну еще бы, запугали соседей своим чудищем…
– Государственная мудрость – штука тонкая, – сказал я. – Иногда она в том, чтобы воевать, иногда в том, чтобы не воевать.
– Но почему ты стремишься, чтобы я его убил? Ведь он, не в последнюю очередь, основа вашего благополучия?
У парня острый ум, не замутненный волнением, подумал я и сказал:
– У нас, знаешь ли, каждый делает, что хочет, и промышляет, чем может. К тому же ты помнишь – воля богов. Ну, как тут с ними спорить? Просто никакой возможности нет, я человек богобоязненный.
Горгий, начальник стражи Лабиринта
– Ариадну я встретил в парке, у подножия статуи великого Сатури, отца Миноса. Вернее, она меня встретила – явно ждала, я понял это по тому, как она порывисто подалась навстречу.
– Что решил отец?
– Ничего определенного. Он подумает.
Она опустила голову. Плохо я разбираюсь в женщинах – кто их вообще понимает? – но угадать ее волнение мог бы и болван – она еще в том возрасте, когда плохо умеют скрывать мысли и чувства. Жаль, что с годами это проходит, как жаль, что не дано нам всем навсегда остаться чистыми душой, откровенными, прямыми… как на войне, где нет места двусмысленности и лжи. Священный петух, ну почему я все меряю войной и все с ней сравниваю? Двадцать лет я не воевал. Что за отрава таится в звоне мечей и грохоте подков, что за сладкая отрава? И почему меня вдруг потянуло на такие мысли? Старею? Конечно. А вот мудрею ли?
– Сядем, если ты не спешишь? – спросила она. Я сел с ней рядом на теплую каменную скамью. Зеленая ящерка бесшумно скользнула прочь, всколыхнув траву.




