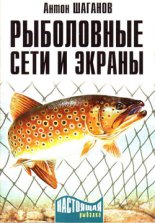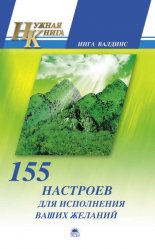Сказки старого Вильнюса IV Фрай Макс
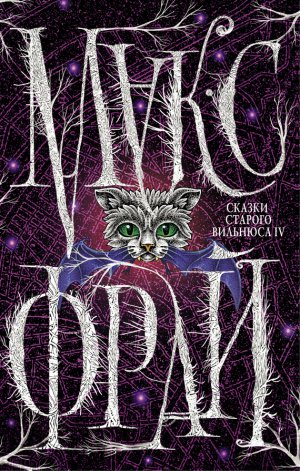
Поэтому сперва я просто пялилась на экран как баран на новые ворота – о чем писать-то? За ночь ничего выдающегося не случилось, даже снов толком не помню – как всегда, когда просыпаюсь по будильнику. В общем, гуманитарная катастрофа.
Тогда я решила писать все, что придет в голову. Любую чепуху. И сама не заметила, как сочинила историю про человека в белом пальто, который якобы сидел и писал о том, как мимо иду я, вся такая прекрасная. А я, дескать, подглядела, и возрадовалась – сумерки мне к лицу! Ну надо же! Всем комплиментам комплимент.
Написала, перечитала. Мне показалось – полная ерунда. Низачем и ни о чем. Но переписывать уже не было времени, так что я быстренько посыпала голову пеплом и, не отряхнувшись, убежала на работу. Которая, к слову сказать, закончилась на полтора часа раньше, чем я планировала, так что, получается, можно было не суетиться. Но что сделано, то сделано.
И вот иду я домой. И, как всегда, сворачиваю на Беатричес, потому что это, как ни крути, самая короткая дорога, а я уже и так набегалась по самое немогу.
И – слушай.
Там действительно был этот человек. Блондин в белом пальто, загорелый и безмятежный. С белым же ноутбуком. Действительно сидел на стуле у входа в мое нелюбимое кафе, даже листья не стряхнул, все как я с утра сочинила.
На этом месте меня так и подмывает красиво приврать – дескать, остановилась, подсмотрела, что он там пишет, и увидела ту самую фразу про сумерки, которые мне якобы к лицу. Но Рутка! Какое там подсмотрела. Я так испугалась! Сама толком не знаю, чего. Но очень сильно. Настолько, что появление нетрезвого маньяка с окровавленным топором меня бы здорово успокоило. Но такой уж вредный народ эти маньяки с топорами, когда позарез нужны, не доищешься.
Поэтому я просто прибавила шагу. И только когда свернула за угол, на Якшто, немножко перевела дух. Но пошла еще быстрее. Если совсем честно, то побежала. Хотя за мной, конечно, никто не гнался. Да и с чего бы.
Пока во всей этой истории мне понятно только одно: я теперь еще долго не буду ходить по Беатричес. Потому что, если этот белый человек, которого я сдуру придумала, теперь будет сидеть там всегда, я ничего не хочу об этом знать. А если, наоборот, исчезнет и больше никогда не появится, об этом я знать не хочу тоже. Понятия не имею почему. Не хочу, точка.
Руки так окоченели на ноябрьском ветру, что не согрелись даже в теплых карманах пальто. Когда вошел в дом, негнущиеся пальцы еле справились с пуговицами и шнурками.
Впрочем, все это ерунда.
В гостиной был встречен вопросительным взглядом – дескать, ну как? Торжествующе улыбнулся.
Сказал:
– Еще утром знал, что сегодня все получится.
Улица Вису Швентую (Vis ventj[1] g.)
Все святые
– …и вот идет она по городу в таком ужасе, что даже реветь не может, потому что – ну, ты прикинь, пятнадцать тысяч долларов, это и сейчас не то чтобы копейки, а в то время совершенно фантастическая сумма. Еще вчера были и вдруг пропали. В собственном доме, среди бела дня. И, получается, кто-то из своих взял, больше некому, чужие давно не заходили. И совершенно непонятно, на кого думать. А если хотя бы на минуточку предположить, что понятно, так еще хуже. Потому что если деньги взял муж, то пропали не только заветные тысячи, а вообще все. Ну, ты понимаешь ее логику, да? Зачем нормальному, непьющему мужику тайно уносить из дома собственные доллары, если не ради побега со смуглой красоткой-разлучницей в какую-нибудь знойную Аргентину или на худой конец Варшаву. И вот идет она с такими замечательными мыслями, сама не знает, куда и зачем. Говорила потом, моталась полдня по городу, просто чтобы с ума не сойти вот так сразу, без подготовки, а растянуть удовольствие хотя бы до вечера. Пока переставляешь ноги и следишь, чтобы под машину не угодить, ты, получается, вроде как при деле, и это помогает держать себя в руках… Короче, неважно. Шла себе и шла. И вдруг услышала, как за ее спиной какая-то женщина говорит: «…еще со вчера лежит в холодильнике…» И мама тут же все вспомнила. В смысле как сама перепрятала деньги в холодильник. Накануне папа был на ночном дежурстве, а к маме пришла сестра, тетя Соня. И они под сплетни о родне уговорили бутылочку домашней настойки. Если не две. Потом тетя Соня ушла, а у мамы спьяну случился приступ паранойи. Уснуть не могла, думала, куда деньги перепрятать. Она же все время, пока эти доллары в доме лежали, сама не своя была. Все прикидывала, как бы получше спрятать их от воров. И под мухой ее осенило. Завернула пакет в тряпку, положила в кастрюлю, сверху накидала кислой капусты, накрыла крышкой, поставила в холодильник и успокоилась – если и заберутся воры, в холодильник вряд ли полезут, разве только за выпивкой, а по кастрюлям шарить не станут, не до того. И легла спать, страшно довольная своей находчивостью. А поутру, проспавшись, полезла в шкаф проверять, на месте ли деньги – просто по привычке, она по сто раз на дню проверяла. А в шкафу их, понятно, уже не было. И мама сразу ударилась в панику, вместо того, чтобы сесть и спокойно подумать. И только когда кто-то на улице сказал про холодильник, она все вспомнила, бросилась домой и, понятно, нашла деньги в кастрюле. То есть эта история закончилась хорошо. Родители в конце концов купили дом – тот самый, на Конарского, где и сейчас живут; ну, неважно. Мама потом эту историю всем рассказывала, и соседка – жила рядом с нами такая бабушка Дайва, из тех чудесных старушек в шляпках с искусственными розами, кому с виду лет семьдесят, а начнешь их слушать, и кажется, что все пятьсот, ходячая история, разве только князя Гедиминаса в живых не застала, да и то не факт, может, просто к слову пока не пришелся… И вот она стала расспрашивать – где, да где ты про холодильник услышала? Мама сперва не могла сообразить, но потом вспомнила, как свернула с Пилимо к храму Всех Святых, а там вроде бы еще раз свернула, и на этом месте бабушка Дайва понимающе закивала – дескать, ну конечно, по улице Вису Швентую ты шла, где еще и получить дельный совет, как не там. Мама эти слова мимо ушей пропустила, но не я. Мне же тогда двенадцать лет было, ты что! Самый подходящий возраст, чтобы такими вещами интересоваться. И уж я в баб Дайву вцепилась – что за улица такая, и как там совет получить? А ее и упрашивать особо не нужно было, любила поговорить. Оказывается, есть такая не то примета, не то просто городская легенда – если ищешь ответ на какой-то вопрос, хочешь узнать что-то важное или, скажем, совета спросить, иди на улицу Всех Святых, ходи по ней туда-сюда, думай свою думу и слушай внимательно, рано или поздно дадут тебе ответ человеческим голосом, главное не прохлопать, потому что повторять никто не станет. Ну, ты представляешь, что со мной сделалось?
Наконец пауза. Не потому, конечно, что Янка ждет моего ответа. Просто вспомнила про давно остывший чай. Н я все-таки говорю:
– Представляю. Каждый день с утра до вечера по улице Всех Святых гуляла?
Хохочет.
– Ну что ты. Не каждый, а только тогда, когда у меня появлялись жизненно важные вопросы. То есть примерно через день. И знаешь, что замечательно? Я всегда получала ответ. Хороший, простой и понятный, как будто жизнь – задачник для пятого класса, и я нашла способ подглядывать в конец, где все правильные ответы написаны. Вот честное слово, не вру. Загадаю, например, про какого-нибудь мальчика, так обязательно услышу, как где-то в конце улицы ругаются: «Дурак!» Или наоборот, восклицают: «Ах ты, мой хороший», – и сразу все про мальчика ясно. А когда влюбилась в одного красивого старшеклассника, услышала, как пьяный кричит собеседнику: «Ты кто? Я тебя не знаю!» И ведь чистую правду сказал, тот красавчик вообще не подозревал, что я, такая расчудесная, на свете есть, да и я его всего раз пять издалека видела. А однажды обиделась на подружку, уж не помню, в чем там было дело, но переживала страшно, даже ночью ревела, с утра не утерпела, вместо школы поехала в центр, по улице Всех Святых гулять, чтобы сказали, как теперь жить, и, знаешь, услышала тихий такой голос, совсем близко: «Не сердись». Как будто кто-то сзади подошел и лично мне на ухо шепчет, я даже чужое дыхание на шее почувствовала. Оглянулась, а не то что рядом, на всей улице никого. Вообще ни души. Ух как мне стало страшно! Но с подружкой помирилась, конечно. Сказали же: «Не сердись», – значит, нельзя… Ох. Я долго потом на Вису Швентую не решалась ходить. Но мое тогдашнее «долго» – это всего несколько месяцев, осенью я опять туда зачастила. Дала себе честное слово, что теперь с пустяками не сунусь, только про самое-самое важное спрашивать буду, но можешь себе представить, какое оно у меня тогда было, это «самое важное». То очередной мальчик понравился, то родителей в школу вызвать пригрозили, то в театральный кружок записывать не хотят… Короче, в один прекрасный день я услышала, как мужской голос говорит – очень, знаешь, таким сварливым тоном: «Отвяжись, надоела». И вот тогда я испугалась по-настоящему. И одновременно обиделась. Прогоняют, значит. Ну и ладно, подумаешь. Обойдусь. Ни за что больше сюда не приду, вот хоть убейте. И действительно не приходила несколько лет. Сперва боялась-обижалась, а потом просто забыла. Ну как, не то чтобы совсем забыла, а перестала придавать значение. В пятнадцать лет все, что с тобой происходило два года назад, кажется совершенной ерундой. Потом – тем более. Так что до двадцати я как-то дожила без подсказок. А потом влипла в историю, вернее, в несколько историй сразу, одна другой веселее… Ой, да что я тебе рассказываю, ты же знаешь, за кем я была замужем. Короче, я сейчас даже не могу вспомнить – нарочно я тогда отправилась на Вису Швентую за советом или случайно мимо шла. Жила как в тумане, дома – ад, и куда ни пойдешь, таскаешь этот ад за собой, как улитка раковину… В общем, так или иначе, а свернула я на улицу Всех Святых и почти сразу услышала, как кто-то говорит: «Всего на три года уезжала, а вернулась – такие перемены, ничего не узнать». Вроде бы обычная реплика, да? Но я совершенно точно знала, что это было сказано только для меня. Я, сам понимаешь, не раз думала, что надо просто взять и уехать куда глаза глядят. Это в городе меня найти проще простого, а мир-то велик. Но никак не могла решиться. Не представляла, куда ехать, что я там буду делать и на какие шиши жить. Думала – совсем пропаду, здесь хоть какая-то крыша над головой есть и мама с папой рядом, ничем не помогут, так хоть пожалеют. И вдруг – как будто ведро воды на меня вылили. Мгновенно очнулась. Подумала – а что я теряю? Домой даже заходить не стала, благо документы всегда с собой носила. Отправилась к маме, сказала, что уезжаю, она на радостях все деньги, какие были в доме, собрала, но отдала мне только на вокзале, когда я в автобус садилась. И правильно сделала. С женами наркоманов иначе нельзя. Рано утром я уже была в Варшаве, оттуда поехала в Германию автостопом. И как-то все устроилось – и работу нашла, и на улице не осталась, я же немецкий неплохо знала и с людьми всегда легко ладила. А ад мой благополучно потерялся где-то на полпути к Мюнхену. В туалете на одной из заправок, я так думаю. Короче, долг маме я уже через четыре месяца вернула переводом, а дальше становилось только лучше, вот буквально с каждым днем все лучше и лучше, потрясающее было время. Я, конечно, помнила фразу: «всего на три года уехала», – а все равно не планировала возвращаться. От добра добра не ищут. Но тут, как раз примерно через три года после моего отъезда, заболел папа. Ничего страшного, как в итоге оказалось, но я так перепугалась, что поехала его навещать. И вдруг выяснилось, что владыка моего ада давным-давно исчез. Не то укатил в Индию, как всегда мечтал, не то мерцающие астральные сущности его, такого прекрасного, похитили, понятия не имею, потому что больше никто никогда его не видел. И, по мне, так гораздо лучше, чем если бы он просто умер, как все предсказывали, я – за открытый финал. И от его чудесного исчезновения я пришла в такой восторг, что сама не заметила, как восстановилась в университете, мне же совсем немного доучиться оставалось. А потом вдруг объявились знакомые немцы с очень интересными предложениями, и все у нас так занятно завертелось – до сих пор, собственно, вертится, ты знаешь… Давай ты теперь заваришь чай, а я соберусь с мыслями. Потому что не представляю, как рассказать, что было дальше. Но лопну, если не расскажу.
За время моего отсутствия Янка успела пересесть из мягкого кресла на стул, зачем-то застегнула пиджак и, кажется, даже губы подкрасила.
– Это чтобы сосредоточиться, – отвечает она на мой невысказанный вопрос. – Когда спина прямая, я почему-то лучше соображаю. А если застегнуться на все пуговицы, речь становится более внятной, проверено практикой. Все это сейчас очень-очень важно, скоро поймешь почему.
Киваю – дескать, ладно, пойму. Разливаю чай, протягиваю ей чашку. Терпеливо жду.
– Значит так, – наконец говорит Янка. – Смотри, как обстояли мои дела. С одной стороны, я очень хорошо помнила, почему решилась уехать. И отдавала себе отчет, что это был самый правильный поступок в моей жизни. И не пыталась делать вид, будто приняла решение сама, без подсказок. Моя благодарность голосу, прозвучавшему в тот день на улице Всех Святых, была и остается безграничной. С другой стороны, я туда больше не ходила. В моей жизни не осталось вопросов, ответы на которые я не могла бы получить самостоятельно. Вот и старалась не беспокоить по пустякам. Не знаю, кого именно. Но – не беспокоить по пустякам, точка. В машине, конечно, не раз там проезжала, но это, думаю, не считается. А однажды, года полтора назад, я туда все-таки пошла. Совершенно сознательно пошла. Я хотела сказать наконец «спасибо». Вернее, подумать «спасибо». Решила – если даже вопросы там вслух произносить не нужно, уж «спасибо»-то мое тем более услышат. Опять же не знаю кто. Но услышат, факт. И вот иду я по Вису Швентую, старательно думаю свое «спасибо-спасибо-спасибо» и заодно глазею по сторонам – пасмурно, но очень светло, как только весной бывает, почки на деревьях вот-вот взорвутся и от этого в воздухе такая неуловимая зеленая зыбь, а значит, скоро будет совсем тепло, зацветут вишни, черемуха, сирень, а потом наступит лето, и как же будет хорошо… И тут я осознаю, что говорю это вслух. То есть не все подряд, а только одну фразу: «Как же будет хорошо». Заткнулась, конечно, смутилась страшно, покосилась по сторонам – как там народ, не шарахается от сумасшедшей бабы? Но вокруг никакого народа не было, только впереди девушка шла, и это еще вопрос, кто из нас сумасшедшая баба, потому что она вдруг как подпрыгнула! И помчалась куда-то, размахивая руками и смеясь. А я, наоборот, остановилась. Потому что – ну, ты понимаешь, о чем я подумала.
– Что девушка по улице Всех Святых не просто так шла?
– Ну да. Я еще вспомнила, как она медленно плелась, еле ноги переставляла. Сперва далеко впереди была, а я ее за минуту почти догнала, хотя никуда не спешила. И вдруг – такое ликование. Я же себя тоже примерно так вела в школьные годы, когда ходила на Вису Швентую узнавать про мальчиков и контрольные. И хихикала, и верещала, и подпрыгивала. А кого, собственно, стесняться – неведомых голосов, которые и так знают, что у меня на уме?.. В общем, я долго потом об этом происшествии думала. И, в конце концов, решила – отлично все получилось. Какая разница, я это сказала, или еще кто-то? Если у девицы действительно был какой-то вопрос к мирозданию, она получила самый прекрасный ответ, какой только можно вообразить.
Янка улыбается и одновременно тяжко вздыхает. Черт знает, как это у нее получается.
– В следующий раз я попала на Вису Швентую примерно месяц спустя, совершенно случайно. Ну, то есть не с какой-то возвышенной целью, а только потому, что это был кратчайший маршрут от русского книжного, куда я зашла за журналами, до чайного клуба на Базилиону, где меня ждали коллеги; мы туда, знаешь, ходим по пятницам после работы, вместо того, чтобы надираться пивом в ближайшем баре, как все приличные люди. В общем, я задержалась в книжном, страшно переживала, что чай закажут без меня – они же совершенно не разбираются, выберут не пойми что! – рванула чуть ли не бегом, кратчайшей дорогой. И тут заголосил телефон, мама решила посоветоваться, ехать ей к куме в деревню на выходные, или холодно еще, и я громко – ну, потому что шумно на улице, машины ездят – заорала в трубку: «Обязательно поезжай, там хорошо!» Спрятала телефон в карман и чуть не налетела на тетку, которая шла впереди и вдруг внезапно остановилась как вкопанная.
Я в последний момент как-то изловчилась, обогнула препятствие и услышала, как она шепотом, почти про себя, повторяет мои слова: «Поезжай, там хорошо». И чуть не расхохоталась вслух – ну надо же, опять! – но, конечно, сдержалась. И весь вечер об этом думала – пока чай пила и потом, перед сном. И даже на следующее утро. И, знаешь, ничего путного не придумала, но радовалась как дура. Вот просто счастлива была, что так все совпало, и мой голос снова кому-то что-то подсказал. И пришла от этого в такое вдохновенное настроение, что вечером уже специально поехала в центр, припарковалась прямо на Вису Швентую и принялась там бродить туда-сюда. Не то чтобы я планировала регулярно выкрикивать: «Все будет хорошо», – и любоваться произведенным эффектом. Как раз наоборот, твердо обещала себе помалкивать. И ни о чем не спрашивать. Просто хотела там побывать. Побыть. И все.
Янка снова улыбается, тянется за сигаретами, берет одну, крутит в руках, смотрит с рассеянным интересом, похоже, не может вспомнить, что обычно делают с этими штуками. Продолжает.
– И понимаешь. Вроде бы ничего особенного в тот вечер не произошло. Я сама помалкивала и никого ни о чем не спрашивала, даже мысленно. И не было никаких голосов, никаких пророчеств. Только где-то все время играла музыка. Труба или что-то в таком роде, я не разбираюсь. И, похоже, не в записи, а живьем. Ничего сверхъестественного, конечно. Кто-нибудь репетировал у открытого окна, весной они у всех нараспашку. Но знаешь, если бы я задала вопрос, это был бы очень внятный ответ. Поэтому теперь, задним числом, можно считать, что вопрос я все-таки задала, просто сама не заметила. Неважно. Но когда я села в машину, чтобы ехать домой, уже понимала, как будет дальше. В смысле как мне теперь себя вести и что делать. И как к этому относиться. Правильный ответ: да как получится. Как бог на душу положит. Универсальная формула. Поэтому я просто живу себе дальше, как всегда жила. Каждый день по Вису Швентую с пророчествами не мотаюсь, ты не думай. Но и не избегаю ее специально, как раньше. Если по дороге, сворачиваю туда, почему нет. И если, пока иду, у меня звонит телефон, я, конечно, отвечаю, не откладывая: «посмотри в шкафу», «не забудь, о чем мы утром говорили», «беги туда немедленно», «не спеши с этим делом пока», – короче, что требуется по обстоятельствам, то и говорю, не задумываясь о последствиях. А если вдруг обнаруживаю, что, замечтавшись, брякнула что-то вслух без всякого телефона, не беру в голову. Сказала – и сказала, чего уж теперь. С кем не бывает. Я не всемогущий оракул, не пророк, ответственный за счастье суеверной части виленского человечества. Просто человек, который иногда проходит по улице Всех Святых и говорит что-то вслух. Может быть, кто-то услышит мой голос и примет его на свой счет, а может, нет. Неважно. Совершенно неважно, потому что нас великое множество – тех, кто порой что-то говорит, и тех, кто слышит, и тех, кто не слышит. Был бы музыкант, а дудка всегда найдется, уж если ему приспичит, возьмет первую попавшуюся и сыграет. Я, конечно, очень счастливая дудка – не потому что играю лучше прочих, а потому, что точно знаю – музыкант есть. Понятия не имею, кто он, что за пьесу играет и почему выбрал для концерта именно улицу Вису Швентую, а не какую-нибудь еще. И даже вообразить не могу, как звучит вся мелодия целиком. Но пока он играет, почему бы мне, как и всем остальным, не быть под рукой.
Улица Вокечю (Vokiei g.)
До луны и обратно
– Какой странный подарок, – говорит Тимо. – Превосходная работа. Совы, восседающие на циркулях, – удивительный сюжет, в жизни ничего подобного не видел. А фигура старика под циферблатом даже слишком хороша. Блестящая работа скульптора, неумело прикинувшаяся декоративным элементом. Знаешь, что у него в руке? Это не серп, а специальный виноградарский нож для подрезания лозы. Похоже, тут изображен сам Кронос, причем на раннем этапе своей карьеры, когда он был простым крестьянским богом, ответственным за сбор урожая. Уникальная вещь. Однако – часы? Мне? Да еще такие большие? У меня в жизни не было настенных часов. Только будильник на тумбочке. А теперь все тот же будильник, но в телефоне, и хватит с меня. В семьдесят восемь лет человек окончательно перестает нуждаться в постоянном напоминании о ходе времени. Как тебе пришло в голову?..
К этому вопросу Натали хорошо подготовилась.
– Во-первых, это страшная месть за то, что ты не хочешь на мне жениться.
– Так я же хочу, – напоминает Тимо. – Еще как хочу! Но не могу. По техническим причинам. Будь я хоть на десять лет моложе…
– Неважно почему. Не женишься, и точка. Поэтому я решила проникнуть в твою спальню столь изощренным способом. Эти часы много лет тикали в изголовье моей кровати, а теперь будут висеть над твоей, и не вздумай снимать, всерьез обижусь. Отныне в твоем доме всегда будет мое время, и делай что хочешь.
– Твое время? Такая постановка вопроса не приходила мне в голову, – оживляется Тимо.
– Это еще не все. Смотри внимательно. На стрелки смотри.
– Погоди-ка, – растерянно говорит Тимо. – Мне не мерещится? Они действительно идут назад?
– Очко команде знатоков! И всегда на моей памяти так шли. Три дюжины старых и мудрых виленских часовщиков пытались их починить, никто не справился, и я решила оставить как есть.
– Неужели действительно три дюжины?
– Конечно, нет, – смеется она. – Всего четверо. Но, согласись, тоже неплохое число.
А вот это неправда. Натали никогда не пыталась починить эти часы. В голову не пришло бы с ними возиться. Она вообще не понимала, зачем их купила.
Как и Тимо, Натали большую часть жизни довольствовалась древним будильником, на глупую звонкую голову которого обрушивались ежеутренние проклятия многих поколений ее семьи. А позолоченные наручные часики, подаренные дядей на совершеннолетие, надевала только в дни семейных торжеств, чтобы порадовать дарителя. Все остальное время подарок лежал в тумбочке. Натали так и не смогла привыкнуть к обновке, постоянное тиканье путало мысли, сбивало с толку, навязывало свой монотонный, гипнотический, невыносимый, в сущности, ритм. И прекрасно жила без часов до сорока с лишним лет, когда вдруг осталась совершенно одна и с кучей денег.
Муж при разводе обошелся с Натали, как говорится, по-божески: оставил ей не только огромную квартиру в Старом Городе, но и телефонный номер своего приятеля риэлтора, который почти бескорыстно помог продать хоромы за хорошую по тем временам цену и купить крошечную студию в Ужуписе, еще не вошедшем в моду и, следовательно, довольно дешевом районе. И банк надежный присоветовал для помещения капитала – сумма, оставшаяся у Натали на руках после операций с недвижимостью, казалась ей огромной и скорее пугала, чем радовала. Положив деньги в банк, она более-менее успокоилась и стала учиться жить заново, как учатся ходить после тяжелой болезни.
Это была очень странная жизнь. Вовсе не такая плохая, как мерещилось Натали, когда Роберт внезапно объявил о предстоящем разводе и своем скором отъезде.
Натали никогда не любила мужа, во всяком случае, не испытывала ничего похожего ни на чувства, описанные в соответствующих романах, ни на дикую смесь радостного возбуждения и почти невыносимой душевной муки, сопровождавшую ее собственную ервую юношескую влюбленность. Но она была очень привязана к Роберту, привыкла, что муж всегда где-то рядом, надежный, как лапландский Гранитный Вал, одним своим присутствием отменяющий проблемы, печали, радости и, кажется, саму жизнь в обмен на восхитительное ощущение полной безопасности и гарантированного покоя. А тут вдруг не то что привычной скальной породы – рыхлой земли под ногами не осталось, болтайся, как хочешь, в полной пустоте, которая, наверное, и есть свобода, красивое книжное слово; кто бы мог подумать, что это – так.
Поначалу Натали именно что болталась. У нее были время, деньги, крыша над головой и умопомрачительный вид из окна, а больше ничего – ни друзей, которых как-то незаметно отменил Роберт, ни детей, которых они оба никогда не хотели, ни работы, ни мало-мальски востребованной профессии. Какому психу-работодателю может понадобиться сорокадвухлетний искусствовед, автор одной-единственной бестолковой статьи, опубликованной еще во время учебы? Натали уж на что была наивна, но особых иллюзий насчет трудоустройства не питала.
Все, что можно было сделать в сложившейся ситуации, – это как можно экономнее расходовать положенные в банк деньги и постараться не очень долго жить, чтобы не нищенствовать в старости. Натали очень хорошо это понимала, но совершенно не видела смысла вести себя благоразумно. Роберт преподал ей отличный урок: планировать будущее бессмысленно, подчинять ему свое настоящее – самоубийственная глупость. Натали решила, что в этом зыбком мире, где все по-настоящему важные события случаются внезапно и беспричинно, даже не пытаясь казаться следствиями хоть каких-то твоих поступков, слов и ошибок, можно позволить себе все, чего захочется. Наряды? Да какие угодно. Путешествия? Да хоть на край света. Икра и лангустины на ужин? Да хоть лопни.
Но это была теория. На практике Натали целыми днями сидела в своей новой квартирке, перечитывала любимые книги и ждала, когда ей чего-нибудь захочется. Если не в Париж, то хотя бы накрасить ногти.
Но ей, конечно, так ничего и не захотелось.
Похоже, я уже давно живу под знаком Сатурна, думала Натали, листая новую, скверно изданную, невесть как затесавшуюся в их тщательно подобранную библиотеку «Энциклопедию Символов»: «Злое влияние Сатурна приносит страх перед жизнью, скуку, неприспособленность, медлительность, лень, угрюмость, уход в себя, одиночество, печаль». Как про меня написано, думала Натали. Как будто кто-то долго наблюдал за мной, а потом пошел и записал все, как есть. Ей это очень не нравилось.
«У алхимиков Сатурн считался знаком Свинца – основы их искусства, низкого металла, потенциально содержащего в себе золото, – продолжала читать Натали. – Человеку, сумевшему противостоять его дурному влиянию, Сатурн дарует зрелость разума, волю и рассудительность».
Ладно, сказала она себе. Значит, противостояние хотя бы теоретически возможно. Вот с этого и начнем.
Натали по-прежнему ничего не хотела, но твердо решила, действовать, не дожидаясь вдохновения. Вот прямо сейчас.
Тут очень кстати оказалась выработанная годами потребность в привычном распорядке. Натали придумала немудреный, но дисциплинирующий режим: вставать не позже восьми, поддерживать дом и себя в чистоте, готовить еду – не впрок, на неделю вперед, а понемножку, в маленькой кастрюльке. И, если уж новомодные спортзалы вызывают стойкое отвращение, побольше ходить пешком. Просто гулять по городу, но – в любую погоду, не меньше трех часов. Больше – можно.
Поначалу прогулки казались Натали сущим мучением, но она быстро сообразила, что следует отказаться от каблуков, и втянулась, а ближе к середине весны осознала, что стала получать удовольствие от неспешной ходьбы по цветущему городу. Вдруг вспомнила, что зрелища, запахи и звуки когда-то были важной частью ее жизни. Принялась рассматривать лица и одежду прохожих, подслушивать разговоры, глазеть на мелкие уличные происшествия, сворачивать во дворы, мимо которых всю жизнь проходила, не испытывая ни малейшего интереса.
Все это еще не было настоящей жизнью, но стало неплохим подготовительным упражнением. Однажды она поймала себя на слабом, но явственном желании заглянуть в новое, только что открывшееся кафе, тут же зашла и на радостях сделала самый бестолковый заказ в своей жизни: кофе, который терпеть не могла, и пирожное, хотя никогда прежде не ела сладкого. Впрочем, ей вполне понравилось и то и другое, такой уж был удивительный день. Я просто становлюсь кем-то другим, думала Натали. Какой-то незнакомой женщиной, о которой пока ничего не известно, кроме того, что она любит кофе, а значит, совершенно точно не похожа на меня. И как же это, честно говоря, хорошо.
Кофе Натали любит до сих пор. Вот и сейчас, распрощавшись с Тимо, который в последнее время начал слишком быстро уставать, она не мчится домой, где в темном углу за письменным столом затаилась страшная хищная Срочная Работа, а сидит в кафе на Вокечю. То есть не в самом кафе, тесном и уже сейчас, в мае, душном, а снаружи, на заставленном бесчисленными столиками бульваре. Кофе здесь не то чтобы хорош. Откровенно говоря, совсем фиговый у них кофе, как во всякой нормальной пивной. Но – восхитительно шумный бульвар. Но – мутный перламутр вечерних облаков над головой. Но – нагретый недавно закатившимся солнцем, еще влажный от короткого послеполуденного дождя деревянный стул. Но – сокрушительный запах мокрой сирени из окрестных дворов. И никакой срочной работы, по крайней мере, здесь и сейчас. Мало ли что будет потом, дома. Будущего вообще нет, весело думает Натали. И одновременно, противореча себе, бормочет под нос: «Грядущее свершается сейчас». И то и другое – чистая правда. Этим вечером. Для нее.
От возбуждения Натали болтает ногами и размахивает руками, дирижируя одной лишь ей слышным сводным хором всех майских ветров. Дамы, сидящие за соседним столиком, неодобрительно на нее косятся. Очень солидные, представительные дамы, даже бокалы с пивом выглядят в их руках как переходящие кубки за успехи в мелкобуржуазном домоводстве. А ведь они младше меня, думает Натали. Лет на десять, пожалуй. Совсем, можно сказать, писюхи. И, обнаружив в своей голове это дурацкое слово, тоненько, по-детски хихикает вслух от неожиданности.
Тогда тоже был май, и Натали, гуляя по цветущему, всеми ветрами обласканному городу, все чаще видела, как улыбаются ее отражения в витринах. Та, другая женщина, обитающая в блистающем застекольном мире, с каждым днем нравилась ей все больше. Иногда Натали подходила поближе, делала вид, будто разглядывает выставленные товары, а на самом деле пытливо всматривалась в собственное отражение. Кто ты такая? – думала она. – И кто такая я? Мы действительно одно и то же? Хорошо, если так.
Антикварная лавка на бульваре Вокечю только потому и привлекла внимание Натали, что стекло в ее витрине было толстое, двойное, причудливо искривленное временем. И отражение получилось непростое: многослойное, текучее, переменчивое, несколько почти не похожих друг на друга затуманенных лиц, множество рук, гибких, тонких и толстых, а в том месте, где положено быть сердцу, располагались большие настенные часы – одни на всех. Натали глядела на них, как завороженная, не понимая – откуда взялись? У меня же нет ничего, кроме сумки. Потом, конечно, поняла, что часы не отражаются, а просто стоят за стеклом. Она сделала шаг в сторону, намереваясь уйти, и ощутила непривычную пустоту в груди, как будто оттуда только что извлекли нечто теплое и тяжелое, а взамен ничего не положили. Почти испугалась, почти обрадовалась неизвестно чему, и, запутавшись в этих противоречивых чувствах, сама не заметила, как вошла в лавку.
По законам жанра, за прилавком должен был стоять ветхий старик со следами былой импозантности на поношенных лице и костюме, но там хозяйничала совсем юная барышня, полная и румяная. От смущения Натали зачем-то поинтересовалась ценой выставленных в витрине часов. Оказалось – сущие копейки. Красивая интерьерная вещь, но не то чтобы ценная для коллекционеров, к тому же относительно новая, двадцатые годы… кажется… Папа что-то такое говорил, – щебетала продавщица. Кроме того, часы не совсем исправны. Впрочем, их, конечно же, можно починить, и вряд ли ремонт обойдется дорого, механизм совсем простой, никаких секретов старого мастера; оно и к лучшему.
Натали растерянно слушала, кивала в нужных местах. Зачем-то полезла в сумку за кошельком. Пересчитала деньги. Отдала. Из лавки она вышла, прижимая к груди тикающий сверток. К тому месту, где положено быть сердцу.
Натали была так удивлена собственной выходкой, что даже не стала корить себя за бессмысленную трату. Допустим, я просто потеряла кошелек, решила она. И закрыла тему.
Только дома Натали поняла, в чем, собственно, заключается обещанная «не совсем исправность». Часы шли назад. Некоторое время она провела, сверяя их ход с верным будильником, чудом пережившим ее студенчество, замужество, развод и несколько соответствующих переездов. И выяснила, что часы еще и спешат. Или отстают? В общем, их стрелки бежали назад значительно быстрее, чем стрелки будильника – вперед. Вот уж действительно, простой механизм. Никаких секретов старого мастера, думала Натали. Более бестолкового предмета в жизни не видела. Зато красивые! Причудливый узор, образованный птицами, похожими на сов, и тонкими, ломкими циркулями. Под циферблатом – старик с серпом в руке, глядит строго, но, похоже, доброжелательно. Вполне можно с ним поладить, подумала Натали. Пусть присматривает за мной, раз больше некому.
Она окончательно развеселилась и повесила свое дурацкое приобретение над кроватью; впрочем, в ее крошечной студии куда ни повесь, все равно получится в той или иной степени над кроватью – если только не прямо над плитой. Будильник же убрала в шкаф – неслаженное хоровое тиканье действовало ей на нервы. А ежеутренний звон можно услышать и оттуда. Поди его не услышь.
Натали опасалась, что звонкий, торопливый ход новых часов не даст ей спать, однако он, напротив, успокаивал, утихомиривал мысли, замедлял дыхание, маленький ночной мир кружился под закрытыми веками, как разноцветный зонт Оле-Лукойе, как детская карусель с лошадками, как старый калейдоскоп в расслабленных руках. Натали уснула, едва ее голова коснулась подушки, а проснулась на рассвете, задолго до звона будильника, от острого ощущения счастья. Она никогда прежде, даже в детстве не испытывала ничего подобного, но сразу поняла, что это – именно счастье и есть. А как еще назвать самое замечательное, что только может твориться внутри человека без каких бы то ни было видимых причин?
Жизнь, сказала она себе, поставив на плиту чайник. Похоже, это и есть та самая жизнь, о любви к которой так часто пишут в книгах. Всегда думала, они… э-э-э… несколько преувеличивают. Теперь – верю. Интересно, так будет всегда?
Было, конечно, по-разному. Особенно после того, как у Натали стали появляться новые знакомые, один из которых предложил ей поработать в только что открывшейся художественной галерее. Она, не раздумывая, согласилась и никогда, даже в минуты слабости, не жалела о своем решении. Прежде Натали не предполагала, что работа может быть настолько захватывающей. Конечно, невозможно непрерывно испытывать счастье, когда у тебя десятки дел, а вокруг постоянно крутится столько людей, что ими можно заселить целый провинциальный городок. Но вполне достаточно каждое утро просыпаться счастливой, а там – как бог даст.
Пять лет спустя Натали отмечала свой сорок седьмой день рождения и принимала комплименты. Она знала, что друзья, уверяющие, будто ни за что не дали бы ей больше тридцати, почти не привирают. Придирчиво разглядывая себя в зеркале, думала: ну, пожалуй, все-таки больше. Чуть-чуть. Тридцать пять – максимум.
Впрочем, еще через пару лет Натали была вынуждена согласиться с окружающими – больше тридцати не дашь, действительно. Даже как-то неприлично настолько молодо выглядеть, думала она. Приятно, конечно, спору нет, но еще немного, и меня станут подозревать в подделке документов. И как, интересно, я стану выкручиваться?
Она-то давно начала догадываться в чем дело. Собственно, уже в самое первое утро знала, что за часы ей достались, просто поначалу старательно прятала это знание от себя. И теперь прекрасно понимала, что следует продолжать в том же духе, по крайней мере, вслух о часах даже не заикаться. Все равно никто не поверит в такую чушь, только славу новой городской сумасшедшей наживешь.
А потом Натали познакомилась с Тимо.
Кофе выпит, но Натали пока не хочется идти домой. Она заказывает бутылку газированной воды, медленно переливает в стакан звонкую смешливую влагу. Достает сигарету, прикуривает, косится на окно кафе – как там ее отражение? Тоже закурило? Вот и молодец.
Стекло, конечно, давным-давно не то. Новые владельцы помещения первым делом заменили окна, и только потом принялись за полы и стены. Интересно, думает Натали, хоть кто-нибудь кроме меня помнит, что на месте этого кафе когда-то была антикварная лавка? Возможно даже, самая первая в городе. Или нет? Ай, неважно. Первая, двадцать пятая. Главное, что она была.
Кафе на месте лавки получилось не слишком удачное. По крайней мере, совершенно не в ее вкусе. Потому и процветает, что не в моем, язвительно думает Натали. Но – ладно. Она заходит сюда не слишком часто, но регулярно. Пиво не любит, поэтому безропотно пьет скверный кофе, или просто газированную воду, как сейчас. Это называется паломничество. Глупость, конечно, но для Натали – важно. Сегодня – особенно.
Если бы я знала себя немного хуже, заподозрила бы, что просто боюсь возвращаться домой, думает Натали. Где больше нет часов, и никакой разноцветной карусели на ночь, и сны самые обыкновенные, мои дурацкие пустые сны. Но – нет. Не боюсь. Я, похоже, больше вообще ни черта не боюсь.
Эй, с каких это пор ты у нас такая храбрая? – насмешливо спрашивает она себя. Впрочем, совершенно не имеет значения, с каких пор. Важно, что это – уже навсегда.
Натали машет рукой официантке, кладет на стол деньги, и уходит, победно размахивая сумкой, чтобы доставить удовольствие собственным отражениям, разбежавшимся по всем окнами и витринам бульвара Вокечю. Я люблю тебя, Тимо, думает она. Я люблю тебя до луны и обратно, как написано на чашке с глупыми прекрасными зайцами, которую ты мне подарил. Мы и сами те еще глупые зайцы, Тимо. Я люблю тебя. Все будет хорошо.
Это была любовь с первого взгляда, причем не на самого Тимо, а на его картину. В галерее, где работала Натали, решили устроить ретроспективную выставку «Пограничников», группы художников, известных в шестидесятые – семидесятые годы среди немногочисленных адептов так называемого неофициального искусства, но совершенно забытых сейчас. Затея с выставкой, в итоге, накрылась медным тазом, но несколько работ успели отыскать, привезти в галерею, и перед одной из них Натали стояла соляным столбом, забыв о времени, текущих делах, ежеминутно трезвонящем телефоне и даже неудобных новых туфлях, необходимость избавиться от которых стала очевидна примерно через полчаса после выхода из дома. Но какие уж тут туфли. Стояла, смотрела на смутный силуэт, текучий и подвижный, как ее отражения в кривых стеклах старых окон, звонкий, как льющаяся в стакан вода, сияющий, как вишневый цвет, озаренный предзакатным солнцем. Наконец спросила коллегу: интересно, художник еще жив? Еще как жив, последовал ответ. Невероятный старик, теперь таких не делают.
И прежде таких не делали, думала Натали в тот вечер, когда впервые возвращалась домой от Тимо. И никогда не будут. Он, похоже, один такой на всем свете. Штучная работа. И глаза у него золотые – ну надо же. В жизни таких не видела.
Самые обычные карие глаза. Просто очень удачно выцвели – смеялся Тимо в ответ на ее восторги. Иногда время делает людям неожиданные подарки. Но забирает в любом случае гораздо больше.
Они сразу стали друзьями. Впрочем, Тимо утверждал – не просто сразу, а еще задолго до знакомства. Мы с тобой даже дышим в одном ритме, говорил он.
Как одно существо, зачем-то разделенное пополам. Глупые, бестолковые, заплутавшие во времени половинки. Всегда знал, что ты где-нибудь есть. Только не подозревал, что во внучки мне годишься. Как же не повезло.
На самом деле всего лишь в дочки, думала Натали. Но язык держала за зубами. Нелепо доказывать, что ты на добрых двадцать лет старше, чем кажешься. Еще более нелепо объяснять, почему так вышло: видишь ли, любовь моя, в один прекрасный день я зашла в волшебную лавку на бульваре Вокечю и сдуру купила там очень недорогие, но чрезвычайно чудесные часы, возвращающие своим владельцам молодость. А теперь, пожалуйста, помоги мне завязать рукава моей новой смирительной рубашки. Большое спасибо, дорогой друг.