Колдуны и министры Латынина Юлия
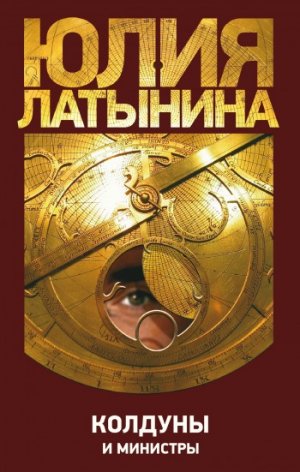
Варназд, в темноте, покраснел до кончиков ушей.
– Погоди, – сказал он, – к клеймению! Но ведь на таком указе должна стоять подпись императора!
– При чем здесь император? – возразил Киссур, – это министр виноват.
– Погоди, – заупрямился государь Варназд, – если государь подписал указ, не читая – значит, он бездельник, а если прочел и послал на каторгу человека, который первым за триста лет поплыл за море – так он негодяй.
Киссур молчал.
– Скажи мне, Кешьярта, честно, – продолжал государь, – что ты думаешь о государе?
Киссур молчал.
– Неужели ты им доволен?
– Друг мой, – проговорил Киссур. – Вот если бы нас тут было не двое, а трое, и один бы ушел, а мы бы принялись судачить о нем и поносить его в его отсутствие, как бы это называлось?
– Это бы называлось сплетней.
– Так вот, друг мой. Мне, может быть, и есть что сказать императору. Только говорить такие вещи за глаза – это много хуже, чем злословить. Потому что через слово, сказанное в лицо государю, можно и головы лишиться, и мир изменить; а если сплетничать о государе за глаза, то от этого ничего, кроме дурного, для страны не бывает.
Тут белокурый Киссур поднатужился и вытянул столб из половицы, как морковку из земли. Сарай крякнул. Киссур соскоблил с себя веревки, словно гнилые тыквенные плети, и вынул из сапога длинный кинжал. У кинжала была голова птицы кобчик и четыре яшмовых глаза. Посереди двуострого лезвия шел желобок для стока крови. Киссур разрезал на товарище веревки и сказал:
– Вот этим кинжалом шпионы империи убили моего отца в тот самый день, когда последний король Варанарайна признал себя вассалом империи.
Юноши прокопали в крыше дыру, вылезли, перемахнули через стену усадьбы и побежали через развалины монастыря к берегу. И тут, у поворота дорожки, у старого тополя со страшными язвами рака на серебристой коре, Варназд вдруг увидел человека. Тот был выше государя Варназда и выше государя Иршахчана. На нем был зеленый шелковый паллий монаха-шакуника, и плащ цвета облаков и туманов, затканный золотыми звездами. Глаза у него были как два золотых котла.
– Щенок Касии, – сказал человек, – это тебе за меня и за моих убитых друзей.
Человек взмахнул плащом, плащ взлетел выше тополей и облаков, золотые звезды посыпались тополиным пухом. Государь вскрикнул и схватился за горло: астма!
Очнувшись, государь обнаружил, что лежит под позолоченной чашей, украшенной мерцающими плодами и славословиями государю, и вода из этой чаши течет ему за шиворот, а оттуда – в канавку. Четверо парней растянули на земле Киссура, словно шкуру для просушки. Лицо Киссура было залито кровью, и губы у него были словно у освежеванного хорька. Куда-то в кусты за ноги волокли мертвого слугу.
– Что же ты не бросил этого припадочного, – спросил Харрада, склоняясь над Киссуром, – ты бы успел бежать!
Киссур не отвечал. Харрада схватил у слуги лук, намотал белокурые волосы Киссура на конец лука и стал тыкать его лицом в сточную канаву.
– Собака, – закричал Киссур, выплевывая вонючий песок, – когда-нибудь государь узнает всю правду и покарает продажных тварей!
Вокруг засмеялись. А Харрада присел на корточки, словно от ужаса, и вдруг заорал, выкатив глазки:
– Ба! – я сам буду государем! Разве мало первых министров садилось на трон? Отец говорил мне: из этого Варназда такой же государь, как из мухи – жаркое! Он даже не читает до конца указов, которые подписывает!
Харрада был, конечно, сильно пьян: как можно говорить такое даже в шутку?
– Позови стражу! – закричал государь.
– Ба! – сказал Харрада. – Вы слышали: этот вор залез в мой дом, а когда его поймали, стал говорить, будто первый министр непочтителен к государю.
Государь в ужасе закрыл глаза. Все вокруг: и ночной сад, и пьяный хохот, и эта ваза, украшенная его личными вензелями, и холодная земля и вода, казались ему жутким сном. Вот сейчас господин Нан разбудит его и все уладит, стоит только открыть глаза.
Государь открыл глаза. На краю лужайки стоял Нан, одетый отчего-то в полосатую куртку слуги первого министра. Нан совершил восьмичленный поклон и сказал:
– Господин Харрада! Ваш отец узнал, что сегодня ночью вы познакомились с двумя молодыми людьми. Полагаю, это они? У того, в зеленом кафтане, на подкладке должна быть метка: желто-серый трилистник.
Кто-то задрал государю полу: метка, действительно, была.
– Ваш отец требует этих людей к себе.
Харрада глядел, набычась. Он был пьян и не помнил этого человека среди доверенных лиц отца.
– А зачем они отцу?
– Не знаю, господин, – ответил Нан, – думаю, ни за чем хорошим.
Начался спор: отпускать негодяев или не отпускать? Расак, юноша рассудительный, тихонько говорил Харраде о гневе отца. Пленников отвели в беседку. Время шло.
Руки Нана были холодны от пота. Доселе им не встретилось ни одного знакомого. И, самое нехорошее, – переодеваясь полчаса назад в кафтан кстати подвернувшегося слуги, Нан заметил, что то ли обронил свой рогатый нож с лазером, то ли утопил.
Наконец пленников свели к пристани. У пристани стояла лодка: из нее выбирался человек в синем с золотом платье. Нан побледнел.
– О, – сказал Расак, – господин министр сам изволил…
Первый министр дико глянул: он мгновенно узнал и Нана и государя.
– Убейте их, – закричал он.
В ту же секунду Нан прыгнул с обрыва тропинки, и кинжал, позаимствованный им у слуги вместе с платьем, оказался у горла первого министра. Ишнайя только заводил ошарашенные глаза.
– Эй, как тебя, – Харрада! – закричал Нан. – Эти двое – мои кореша! Я честный вор и не люблю резать людей, но я замочу даже государя, не то что этого сморчка, если ты тронешь моих друзей!
Харрада дал знак отпустить обоих юношей. Все четверо забрались в в лодку. Нан крикнул, что оставит Ишнайю на том берегу, и потребовал, чтобы гости побросали в лодку кое-какое золотишко. Все поразились нахальству вора.
Ишнайя обмяк в руках Нана. Это был человек тучный, заплывший жиром: нож под горлом мешал ему говорить. Киссур, ни слова ни говоря, схватил весла, лодка помчалась стрелой. Варназд истерически всхлипывал. Лодка подошла к северному углу дворца. Нан закричал, чтобы открыли ворота.
Киссур сложил весла, насмешливо поклонился и кинулся в воду. Государь всплеснул руками и потерял сознание.
Белая бахрома рассвета уже оторочила черное покрывало ночи: человек, которого мать называла Киссур, вылез на берег в том же месте, где и первый раз. Он дошел до старого тополя и позвал снова:
– Господин Даттам!
Тишина.
– Господин Даттам! – сказал Киссур. – Если ты боишься меня испугать, то мне уже приходилось драться с покойниками. А если ты боишься, что я буду мстить за отца, – ты не думай, я знаю, что не ты его убил, а чиновник по имени Арфарра и заморский купец по имени Клайд Ванвейлен. Но я знаю, что там не обошлось без колдовства, и что это, наверное, было колдовство храма.
– Даттам! – продолжал Киссур. – Я сегодня молился государю Иршахчану, чтобы он дал мне возможность поговорить с государем Варназдом и рассказать то, что я думаю про этих заморских торговцев. Но я вижу, что истинные боги нынче ничего не могут поделать. Даттам! Я готов продать душу тебе и Шакунику – помоги мне отомстить за отца! Я клянусь – я разыщу человека по имени Клайд Ванвейлен, даже если мне придется ради этого залезть под землю или на небо!
Но человек, или нечеловек в зеленом паллии, затканном золотыми ветвями и пчелами, либо не слышал слов белокурого варвара, либо не хотел ему показываться.
Киссур усмехнулся и пошел прочь.
На этот раз усадьба была освещена, на пристани копошились слуги с факелами. Из дворцовой кухни шел дым, похожий в лунном свете на хвост быка, поднятый перед дракой. Киссур запрыгнул на стену и увидел, что слуги тащат подносы с едой в длинную беседку из розового камня.
Киссур скатился со стены, подобрался к кухне, провертел дырочку в оконной бумаге и стал смотреть. Посмотрев, он отошел и встал за широким платаном. Вскоре на дорожке показался слуга с подносом в руках, в белой атласной куртке, лиловых штанах и лиловом поясе. За поясом у слуги был меч. Киссур выступил из-за дерева, взял поднос и поставил его на землю. Выпрямляясь, он схватил слугу за ноги и ударил слугой о корни платана. Слуга вспискнул и помер.
Киссур переоделся в лиловые штаны и белую куртку, взял серебряный поднос с гусем, положил на поднос меч и пошел. Меч этот Киссуру не понравился. Это был вейский меч, придуманный для простолюдина, а не для всадника. Он не вел за собой руки, и не рубил, а колол. Судя по глупой большой гарде, похожей на корзинку для фруктов, кузнец больше думал об удобстве защищаться, чем об удобстве убивать.
Прошло столько времени, сколько нужно, чтобы оперить стрелу – Киссур вошел в тускло освещенную беседку. Стены беседки были из розового мрамора, и девушки на мраморных барельефах изгибались, подобно дымкам из курильниц. Харрада и четырнадцать его товарищей сидели вокруг столика на затканных золотом подушках, и обсуждали, скоро ли поймают воров.
– Чего-то ты замешкался с гусем, – проворчал Харрада, – Надо тебя выпороть.
– Напротив, – приглушенно возразил Киссур, – я явился слишком быстро.
– Что с твоим голосом? – удивился Харрада.
– Песок из канавы, в которую ты меня окунул, набился мне в горло.
С этими словами Киссур отбросил поднос и взялся за меч: Расака он перерубил с одного удара. Кто-то заверещал. Киссур оборотился и рассек крикуна от ключицы до паха.
В Киссура полетела миска: Киссур отбил миску мечом, схватил со стола нож и пригвоздил того, кто вздумал швыряться мисками, к подушке, на которой тот сидел. Тут у Киссура на губах выступила пена, а глаза выкатились и завертелись, и когда он опамятовался, ему стало трудно отличить мертвых от пьяных. Он подошел к Харраде и ткнул его сапогом:
– Вставай и бери меч.
Харрада лежал как мертвый. Киссуру, однако, казалось, что он его не убивал.
– Ладно, – сказал Киссур, – если ты мертв, значит, ты мертв, а если ты жив, значит, тебе суждена гнусная смерть. Пусть же годы, отнятые у тебя, прибавятся государю, – и с силой вонзил меч.
Меч перешиб позвоночник и ушел глубоко в пол. Киссур наклонился и снял с пояса Харрады свой старый кинжал с головой кобчика, а вейский меч так и оставил торчать. Потом он встал на колени, окунул рукава и ладони в расплывшуюся под мертвецом кровь и провел ладонями по лицу.
Киссур вытер кинжал о полу, взял со стола гуся и большую лепешку, сдернул скатерть, завернул в нее гуся и лепешку и выпрыгнул в окно. За столом осталось десять мертвецов и пятеро пьяных.
Киссур спустился к реке. На нем не было ни царапины, но он шел, оставляя за собой нетвердые следы, и время от времени стряхивая кровь с рукавов. Он вошел в воду и проплыл под нависшими кустами к пристани. Там он подкараулил еще какого-то человека в желтом с зеленом платье: это было платье личной охраны первого министра. Он убил его, раздел и бросил в воду, а одежду его завернул в непромокаемую нижнюю скатерть вместе с лепешкой и гусем.
Киссур переплыл весенний канал и забился под какую-то корягу. Там он переоделся в платье убитого им слуги, поел гуся, и пошел прочь из города.
Через час он подошел к городским воротам. Факелы гасли и чадили в утреннем тумане, ворота были только-только открыты, возле них стояла цепь солдат. Киссур изумился такой прыти: затем он, однако, и переодевался в желто-зеленое.
– Пропустите, – нагло обратился Киссур к офицеру, взмахнув трехцветным лопухом.
– Ты из охраны первого министра? – ухмыльнулся офицер. Киссур кивнул. В тот же миг Киссура подхватили под руки, а офицер с удовольствием ударил его наотмашь.
– Киссур Белый Кречет? – переспросил Нан. – Что ж – это объясняет, почему он вернулся за своим кинжалом.
Государь лежал в постели, а Нан и молочный брат Варназда, Ишим, сидели на ковре у изголовья. Был уже день, но в спальне было темно. С потолка глядели звезды, луны и несколько богов.
– Где Харрада? – спросил государь. Он слегка задыхался. – Я хочу… Я его…
Господин Нан мягко, но с подробностями стал рассказывать, что случилось с юным сыном первого министра.
Варназд закрыл глаза. «Песок из канавки набился мне в горло»… Киссур принял меня за вора. Он не знал, что я тоже собираюсь отомстить».
– Скольких человек он убил? – спросил государь.
– Одиннадцать. Харраду, Расака, еще восьмерых в зале, и слугу, который нес пирог. Расак был, говорят, юноша бедный и рассудительный. Он два раза вешался, чтоб не быть с Харрадой, а в тот раз нарочно увел своего дружка, и выпросил у него вам двоим прощение. Киссур убил Расака первым, а Харраду – последним. Меч прошел через позвонки и живот, и ушел в пол так, что я потом еле выдернул. После этого он огляделся и взял свой кинжал. Еще он взял гуся и лепешку, он ведь был голоден.
Государь лежал, уткнувшись в подушку.
– Какой ужас, – проговорил он.
Нан засмеялся в темноте.
– Киссур Белый Кречет опередил вас, государь.
– Как вы смеете, – сказал Варназд, – я приказал взять мерзавца живым, я хотел…
Государь замолк. Нан и Ишим тоже молчали.
– Что было дальше? – тихо спросил государь.
Нан тоже понизил голос.
– Говорят, он был ранен. На тропинке, которой он шел к воде, капли крови… Он мог перебраться на другой берег только вплавь, а ведь сейчас в воде очень холодно…
Варназд опять стал плакать, потом заснул.
Нан вышел из государевой спальни, покусывая губы. Государь только и спрашивал, что об этом Киссуре! Великий Вей, – разве справедливо, если этот варвар станет соперником Нана в любви к государю! Но, увы, был только один человек, – Шаваш, секретарь Нана, которому Нан мог сказать, что было б хорошо, если б Киссур утонул, как бы ни обстояли дела на самом деле. Но Шаваш как сквозь землю провалился.
Государь Варназд проснулся вновь где-то среди ночи. Раздвинул полог. Ему было больно и жарко, небосвод на потолке кружился и падал вниз.
– Господин Нан! – в ужасе закричал Варназд.
Дверь мгновенно приоткрылась, чиновник скользнул внутрь, вновь сел у изголовья и взял руку. Варназду сразу стало покойней. «Если бы мать хоть иногда так приходила ко мне», – подумал он. Вдруг он вздрогнул.
– Нан, – зашептал государь, – скажи, мне достаточно одного твоего слова: брал ты двести тысяч от некоего Айцара или нет? И замышялял ли он заговор? Или нет – не говори… Только не лги…
– Заговора не было и быть не могло, – ответил чиновник, – а деньги я взял.
Заговор, однако, был. Черт бы побрал человека по имени Дональд Роджерс!
– Почему?!
– Потому что два умения равно необходимы чиновнику – умение брать взятки и умение толковать о справедливости. Потому что, если бы я не взял этих денег, господин Айцар, ни в чем не виноватый, сказал бы: «Этот чиновник ведет себя вызывающе», – и я бы погиб. Потому что имущество чиновника заключается в связях, а связи покупаются подарками; потому что всякий указ исполняется лишь за деньги; потому что новый араван Харайна заплатил за свое место шестьсот тысяч, и рассчитывает вернуть эти деньги с народа к осени.
Государь смотрел вбок. У окна, увитого золотыми кистями небесного винограда, чуть шевелились тяжелые знамена со знаками счастья, и шелковый потолок, круглый, как небо, возвышался на восемью колоннах, опирающихся о нефритовый пол, квадратный, как земля.
– А если я казню всех взяточников?
– Араван Арфарра сделал это в своей провинции четверть века назад. Столбы на площадях подмокли от крови, чиновников не хватало, они сидели в управах прямо в колодках. А брали невиданно много – за риск.
– А если я искореню богачей? Ведь это они соблазняют людей из управ?
– Лучшие люди всегда стремятся к успеху. Если искоренить богачей, лучшие люди будут стремиться не к обогащению, а к власти. Дети крестьян захотят стать чиновниками, а дети чиновников захотят остаться чиновниками. Те, кто выбился наверх, будут казнить друг друга. Те, кто остался внизу, будут добиваться своего восстаниями. Если люди стремятся к наживе, им нравится спокойствие. Если люди стремятся к власти, им по душе смута. Если люди стремятся к наживе, сердце правителя спокойно. Если люди стремятся к власти, сердце правителя в тревоге, и он каждый день казнит людей, предупреждая заговоры. Такой правитель говорит: «Народ мой беден, но зато я имею больше власти». Но разве казнить людей – это значит иметь больше власти?
– А если я узаконю рынок в Нижнем Городе?
– Тогда вы восстановите против себя всех тех, кто живет поборами с незаконного рынка; всех чиновников и воров. А половина воров – члены еретических сект.
– А если я оставлю все как есть?
– Тогда, – сказал господин Нан, – все больше крестьян будет уходить с земли в город, и все больше честных чиновников – уклоняться от службы. Тогда богачи будут все больше обирать народ, а народ будет все громче говорить о том, что богачи его обирают. А если народ не будет знать, что ему говорить, уклонившиеся от службы чиновники его научат. Тогда одни общины превратятся в легальные формы существования еретических сект, а другие распадутся, и крестьяне из них уйдут в контрабандисты и разбойники. Тогда справедливые воры перестанут действовать поодиночке, а станут объединяться в союзы и партии. Тогда в провинциях разгорятся мятежи, а при дворе разгорятся споры, кому подавлять мятежи, потому что при подавлении мятежа можно выгодно нажиться.
А когда окажется, что речь идет не о том, чтоб нажиться, а о том, чтобы выжить – тогда позовут на помощь конницу варваров. Тогда государство бросит притеснять богатых людей, ибо поймет, что всякий, имеющий дом, бережет и дуб, под которым стоит его дом, а не имеющему дома дуба не жалко. Тогда-то государство увидит в зажиточных людях свое спасение, и позволит им организовывать отряды самообороны. Боясь во время мира предоставить самостоятельность хозяйственную, во время смуты предоставит самостоятельность военную. И после этого, государь, уже неважно, кто победит: варвары, повстанцы, или люди с оружием. Государство погибнет, и люди будут убивать друг друга из выгоды и поедать друг друга от голода.
Чиновник замолчал.
– А вы, Нан, можете ли все исправить?
– Да, – ответил чиновник.
Государь уцепился за его руку и не отпускал, пока не заснул. Уходя, Нан оглянулся: улыбка на лице молодого государя была совершенно как у ребенка, которому пообещали волшебную дудочку.
«Будь я проклят, – подумал Нан, – если знаю, как все исправить. И уж точно буду проклят, если все не исправлю».
Глава третья,
в которой новый министр проявляет редкое благоразумие
Шаваш явился во дворец под утро. В саду, перед покоями нового фаворита, уже толпились придворные. У круглой решетки фонтана громко рыдал начальник дворцовой охраны, ближайший друг арестованного Ишнайи.
– Какой позор, – плакал он, не таясь, – почему не мне дали арестовать преступника!
Нана Шаваш застал в кабинете с указами и людьми. Решения Нана были безошибочны, кисть так и летала по бумаге. Нан поднял безумные глаза и вежливо сказал:
– Где вы были, Шаваш! Вас искали всю ночь.
Шаваш, поклонившись, объяснил, что он уезжал за город отвезти документы отца Сетакета, и протянул записку: «Господин Шаваш! Сожалею, что ввел вас в ненужные хлопоты с документами и, разумеется, прошу никого не разыскивать по поводу моей смерти. Передайте, пожалуйства, господину Нану, что в монастыре ему очень благодарны за то, что он нашел и вернул кота настоятеля».
– Какого кота? Что за чушь? – спросил недовольно Нан.
– А того, который пропал в Харайне, – пояснил Шаваш. – Настоятель в нем души не чает, а по-моему, жирная животина.
Нан моргал, а Шаваш, кланяясь, закончил:
– А монах сегодня вечером пришел на Синий Мост и на глазах всех тамошних булочников кинулся вниз. Там такое течение, что тело так и не вытащили. Я…
Тут господин Нан не сдержался и заорал:
– Слушайте, Шаваш, какое мне дело до котов и желтых монахов!
Через десять минут Шаваш рвал из секретарских рук бумаги с теплыми еще печатями на именах. Глаза у него, при виде имен, стали круглые и восторженные. Все желтые монахи вылетели у него их головы.
Неделю император не вставал с постели, и всю неделю в городе шли аресты. Никто из близких господина Ишнайи не мог быть спокоен за жизнь свою и имущество. В первые часы арестовывали больше именем государя, а вскоре – именем господина Нана.
Уже после полудня секретарь Нана, Шаваш, со множеством «желтых курток» явился к другу первого министра, министру финансов Чаренике, начинавшем свою карьеру еще при государыне Касии.
Чареника был человек мелкий и злобный, пытал людей по пустякам. Глазки у него лезли на переносицу, про таких говорят: не будь носа, глаза бы друг друга съели. Впрочем, в полнолуние он постился и мыл ноги нищим. До Чареники финансы были просты: каждый крал, сколько мог. С Чареникой стало хитрее.
Шаваш вошел: ах, какой чертог! мраморные дорожки, порфировые колонны. Наборные потолки впятеро выше разрешенных в частном строении. Наборные потолки были выше вот отчего: государыня Касия несколько раз выпускала государственный займ. Получить по нему деньги стало трудно, и маленькие люди продавали билеты за два-три процента от стоимости. Другое дело люди уважаемые – те покупали билеты маленьких людей и получали от казны полный выкуп. (Никто никого не обманывал: маленькие люди ведь не обязаны продавать билеты, так? И государство ведь обязано платить по займу, так?)
Впрочем, есть у министра финансов и другие способы поднять повыше потолок.
Господин Чареника встретил Шаваша с лицом белым, как бараний жир. Шаваш показал ему пачку документов.
– Это ваша подпись?
– Моя, – опустив глаза, согласился господин министр.
– Господин Нан хочет предъявить эти бумаги государю, – сказал Шаваш.
– Понимаю, – произнес господин Чареника, и лицо его из белого стало зеленым, как заросший ряской пруд.
– Господин Нан, – продолжал Шаваш, – желает предъявить эти бумаги государю. Он не понимает, каким образом на них могла оказаться ваша подпись. Он считает, что эта подпись поддельная. Он поручил мне оставить эти бумаги у вас и ждет вас завтра с исчерпывающими разъяснениями.
Шаваш повернулся и пошел к двери, а господин Чареника упал на колени и полз на ним некоторое время, волочась брюхом о пол, а потом перевернулся на спину и стал кататься по ковру и по бумагам и хохотать, как филин, пока лицо его из зеленого не стала красным, как глиняный кирпич.
Шаваш вышел: у порога кабинета, прибежав проститься с отцом, стояла золотоволосая девушка. Это была та самая девушка, которая так звонко хохотала, когда Шаваша вчера утром облили помоями. Глаза от ужаса большие, как блюдца, волосы без шпилек… Впрочем, Шаваш заметил, что она сначала уложила волосы, а потом вынула шпильки.
Шаваш переложил пустую папку с яшмовой застежкой в левую руку и почтительно поклонился девушке. Девушка ахнула и упала ему на руки, понимая, что отец это одобрит.
Шаваш поехал к министру финансов, Чаренике, а господин Нан отправился к главе ведомства Справедливости и Спокойствия господину Андарзу.
Господину Андарзу в это время было лет пятьдесят. Это был человек неравнодушный к мальчикам и девочкам, с красивым крепким телом цвета топленого молока, с крупной головой и большими глазами василькового цвета. Нос у него был с горбинкой.
Это господину Андарзу принадлежал знаменитый совет наказать реку, в которой промок государь, так, чтобы отныне в реке не утонула даже курица. Реку разобрали на двести каналов. Все левобережье превратилось в болота. Из средств, отпущенных на рытье каналов, вышло множество домиков для Андарза и для горячо любимых родственников и близких.
Кончили церемонию закладки последнего канала; господин Андарз вернулся в свою изящную виллу и открепил от стены шелковый свиток с вышитой на нем старой картой столицы.
Небесный Город, как мы помним, был защищен от врага с трех сторон, каналом и двумя реками. Теперь он был защищен и с четвертой, с северной, землями, которые можно было в любой миг превратить в непроходимые болота. Андарз заплакал и сказал племяннику: «Друг мой! Когда государь вправе наказывать реки, и об этом можно сказать народу, а военачальник не вправе укрепить Небесный Город на случай вторжения, – друг мой! Что-то тут не так!»
Тут племянник вспомнил, что еще год назад Андарз показал ему проект северных оборонительных сооружений и пожаловался: «Если я стану их строить, недруги сживут меня за то, что сею панику. А, не дай бог, явятся варвары или повстанцы, меня опять-таки казнят за непринятие мер».
В глазах людей осведомленных Андарз был человеком погибшим по двум причинам.
Первая, не столь важная, заключалась в том, что Андарз был ближайшим другом Ишнайи и главой «парчовых курток». «Парчовые куртки», личная государева охрана и городская стража из варваров – это были три главные военные силы столицы, и ни для кого не было секретом, что Андарз людей содержал в порядке, а варвары позарастали в своей слободе лавками.
Во дворце не знали точно, что произошло меж государем и Ишнайей, но знали, что Ишнайя заманил государя к себе и так крепко поссорился с ним, что велел убить. Из чего вытекало, что Ишнайя в наступившей неразберихе надеялся захватить престол, а сделать это можно было только при безоговорочной поддержке страшных «парчовых курток». Это была неглавная причина.
Главная же причина была та, что господин Мнадес, управитель дворца, и глава Ведомства Справедливости и Спокойствия Андарз были смертельными врагами. Оба они собирали ламасские вазы, широкогорлые и тонкостанные, и про вазы эти в народе говорили, что каждая из них ростом с человека, но даже если бы она была ростом с сосну, то и тогда кровь и слезы, пролитые министрами, чтобы заполучить эту вазу, переполнили бы ее широкое горлышко.
Среди ламасских ваз было две парных вазы, самец и самочка, украшенные парящими орлами и расписанные с такой искусностью, что казалось, будто божьи птицы на вазах кричат и поют крыльями. Волею судьбы одна из парных ваз была у Андарза, а другая – у Мнадеса, и Андарз не раз говаривал: «Что ж! Либо я конфискую у него божью красоту, либо он у меня».
Вот поэтому вражда между Мнадесом и Андарзом была совершенно неистребимой. Ибо когда речь идет о таких незначительных вещах, как убеждения, дружба или любовь, то их можно переменить в один миг или притвориться, что переменил, а когда речь идет о вазе, то трудно, согласитесь, притвориться, что она стоит в доме господина Мнадеса, если она стоит в доме господина Андарза.
Да! У господина Андарза был большой недостаток. Передавали, что когда министр полиции говорит, глядя в глаза собеседнику, он всегда лжет, а когда министр полиции говорит, глядя на ламассую вазу, он всегда говорит правду. Зная этот свой недостаток, министр полиции никогда не говорил с людьми, глядя на ламассую вазу.
В эту ночь господин Андарз пировал в доме своего друга, скорее раздетый, нежели одетый, в окружении нескольких девиц, в которых мужчины изливают свое семя, среди роскоши, похищающей душу из тела и яств, наполняющих рот слюной. Вдруг вбежал его племянник, в боевом кафтане и с мечом на боку.
– Дядюшка, – завопил он, пуча глаза, – господин Ишнайя заманил государя в свою усадьбу и велел его убить там! Но эта проделка не удалась из-за Нана!
– На что же рассчитывал этот негодяй Ишнайя? – вскричал Андарз.
– Дядюшка, говорят, что он рассчитывал на вашу помощь!
Андарз протрезвел и выскочил во двор, но увидел, что люди из дворцовой стражи уже окружили усадьбу. Он заметался и побежал в кладовую. Там у двери сидел старый сторож в травяном плаще, таком оборванном, что ни дать ни взять – огородное чучело!
– Сюда, господин! – позвал сторож.
Андарз метнулся в кладовую. Там, вровень с полом, стояли, вкопанные в землю, большие сосуды с пахучим чахарским маслом, которое идет на куренья богам. Андарз снял крышку с початого сосуда и прыгнул вниз, а сторож подал ему полую бамбуковину, чтобы можно было дышать. Андарз сидел в этом сосуде, и, так как была еще весна, вскоре ему стало ужасно холодно. Он не знал, что делать, и начал молиться. И одну минуту он думал: «Надо выскочить из сосуда, в котором так холодно, и упасть в ноги Нану: авось он тогда пощадит жену и детей». А другую минуту думал: «Нет, стоит перетерпеть этот холод: авось не найдут».
Тем временем в кладовую пришли солдаты из государевой стражи и спросили сторожа:
– Ты не видел изменника Андарза?
– Никак нет, – ответил верный слуга.
– А что у тебя за вино в сосудах?
– Это не вино, – ответил сторож, – а чахарское масло для воскурений.
– Что ты ерунду порешь, – возразил солдат, – на рынке я за все свое месячное жалование не могу купить плошки чахарского масла, как же оно может стоять в таких больших кувшинах? Сдается мне, что это вино, и что его можно выпить.
Они стали сшибать крышки с сосудов, и один охранник сказал:
– А это что за соломина торчит?
Соломину вынули, Андарзу стало нечем дышать, он забулькал и полез из сосуда. Андарз был храбрый человек, он выхватил у солдата меч и отрубил ему кисть. Но другие солдаты дрались лучше, чем он мог предполагать, и вскоре его прижали к земле и как следует побили.
На Андарзе была щегольская рубашка, с низким вырезом и откидными рукавами. В эти рукава было заткано много золота, и они свисали до колен. Солдаты связали этими рукавами Андарзу руки за спиной, надели на него поводок и погнали перед своими конями. Андарз шел, опустив голову, но тут набежало много народу, особенно женщин, всегда обрадованных несчастиями людей, подозреваемых в богатстве. Они кололи его ухватами в подбородок, так что он должен был поднимать голову, и ему насыпали множество дряни в глаза и на одежду.
Андарза привели обратно в дом. Там на диване сидел Нан, в боевом кафтане и со стражниками. Андарз покровительствовал новому фавориту лет восемь назад, но впоследствии пути их разошлись. Андарзу сняли с шеи поводок и развязали руки.
– Вчера, – сказал Нан, – негодяй Ишнайя высыпал перед государем много слов про меня и про харайнский канал. Это были не очень-то лестные слова. Ишнайя сам не обладал такими познаниями.
– Ах, – сказал господин Андарз, – это был человек, составленный из глупости и преступлений всякого рода, и его дружба была для меня тяжелей, чем клевета, которую он изливал на других.
После этого люди вокруг Нана стали спорить, что делать с Андарзом, и все они были несогласны в способе казни. А Нан сидел молча и ел Андарза глазами, а пальцами потирал воротник в том месте, на котором утром Андарз углядел пятно.
– Не могли бы вы мне показать свою дивную коллекцию? – вдруг спросил Нан.
Андарз попросил позволения переодеться, и это было разрешено. Дом у Андарза содержался на старинный манер, в нем были не часы, а рабы для называния времени, и специально выращенные карлики. Все эти люди сбежались, рыдая. Камердинер, плача, вымыл Андарзу его волосы цвета кленовой патоки, и Андарз тут же велел остричь их, потому что ему было неприятно представить их концы в крови.
Андарз с Наном прошли в галерею. Андарз зажег светильники и стал смотреть на ламасские вазы и на кружевные облака и весенние поля, нарисованные на вазах. Вот: леса и горы, олени бродят по горным тропкам, рыбаки плывут по реке меж тростниковых зарослей, утки сидят на зимнем снегу: у одной утки оттопырена лапка. Над ней стоит красиво одетый юноша и хочет взять утку в руки, а утка плачет, потому что понимает, что она все равно умрет, и глядит на свежий снег и на то, как в реке купается зимнее солнце. И господин Андарз, министр полиции, тоже заплакал, как утка с оттопыренной лапкой.
– Что бы вы делали, – шевельнулся за спиной Нан, – если б Ишнайя был на свободе, а государь – убит?
– Будь ты проклят, – сказал Андарз, – честнее изменить гоcударю, чем другу.
Нан хлопнул в ладоши. За дверью застучали сапоги. Андарз побледнел и обернулся.
– Я хотел бы, – проговорил Нан, – заменить вам друга. Три вещи скрепляют дружбу, – совместная трапеза, совместные тайны и взаимные подарки. Господин Мнадес сегодня, по моей просьбе, подарил мне «кружащего орла» – я хотел бы утешить им вас в неcчастии.
Двое парчовых курток осторожно внесли в зал плетеный короб. В коробе сидела ваза с кружащим орлом. Нан обернулся и поднял светильник.
– Великий Вей, – произнес он, – но где же первая ваза?
Андарз долго молчал.
– Вчера утром, – наконец заговорил он, – я подарил первую вазу господину Мнадесу, за сведения о вас и о заговоре Айцара.
Нан положил руку на плечо Андарзу, и оба чиновника долго любовались вазой.
– Это для меня большая честь, – серьезно сказал Нан, – что моя голова так дорого стоит.
Через два часа, после короткого нервного припадка, Андарз лежал, завернутый в мокрые простыни, под пологом синего шелка. Перед ним, освещенный одинокой свечой, парил «Кружащий орел», и стояла ваза с уткой на весеннем снегу, повернутая другим клеймом: юноша гладил утку по голове, и утка жмурила черный глазок. Ни девиц, ни вина не было. В изголовье сидела и перебирала волосы молодая жена. «Эх, зря я остриг волосы», – подумал Андарз.
– Что, – спросила женщина, – будет ли это человек больший, чем Ишнайя?
– Да, – ответил министр полиции, – потому что многие на его месте наслаждались бы в галерее моим страхом, или собой, и только. Он же наслаждался и работой древних мастеров, и такую вещь, как умение видеть красоту, нельзя подделать.
Через неделю, в двадцать третий день восьмой луны, благоприятный для назначений на должности, на две тысячи сто восемьдесят третьем году царствования государя Иршахчана и седьмом году царствования государя Варназда, в зале Ста Полей государь Варназд разбил личную печать преступника Ишнайи и назначил первым министром страны Великого Света господина Нана, обладающего всеми шестью добродетелями и тремя достоинствами, человека истины и справедливости, выходца из сонимских крестьян.
Люди осведомленные знали, что государь предлагал Нану две печати – круглую и квадратную, государственную и дворцовую, – иначе говоря, хотел отдать ему и должность первого министра, и должность главного управителя Дворца, нарушая незыблемое правило разделения и взаимного доносительства. Но Нан напрочь отказался, заявив, что господин Мнадес, главный управитель дворца, его друг и учитель, и что того, кто предает друзей, бесы серебряными крючьями уволокут в ад.
На следующий день в городе был праздник. В первый раз за сто лет государь вышел на площадь к народу, и в присутствии государя огласили манифест:
«Страна горит от распада и смуты. Зубы бедняков почернели от корней лотоса, души чиновников почернели от жадности. Как устроить порядок в государстве? Как сделать так, чтобы человек с печатью не мог взять у крестьянина даже яйца, не заплатив за взятое? Как сделать так, чтобы чиновник мог без препятствий думать об общей пользе, а простолюдин мог без препятствий думать о собственной выгоде? Почтительнейше прошу подавать доклады».
После этого началось веселье; по улицам побежали плясуны, ряженные богами и демонами. Везде разбрасывали деньги и билетики государственной лотереи и раздавали просяные пироги, круглые, как небо, и рисовые пироги, квадратные, как земля.
Вот горшечник Нох получил рисовый пирог и кружку пальмового вина и сел на площади под большую катальпу, вместе с другими, стоявшими в той же очереди. Вино и пирог были самого отличного качества, и один из соседей Ноха сказал:
– Хорошо бы министров сменяли почаще; глядишь, на одних пирогах отъедимся. Интересно, когда этого Нана сменят, пирог будет такой же хороший, как сейчас, или такой же плохой, как после казни Руша?
– А по-моему, – высказался Нох, – в манифесте сказали неправду. Дело не в том, что в стране много горя, а в том, что этот Ишнайя навел на государя порчу.
Тут они стали выяснять, кто из них стоял ближе к государеву помосту и какой был рисунок на сапожках государя и на жезле в его руках, потому что все они видели государя впервые.
А один из собравшихся, крестьянин, пригнавший в столицу скот на продажу, подпер пальцем губу и сказал:






