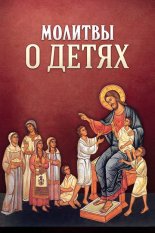Место издания: Чужбина (сборник) Аринштейн Леонид

В это время они вышли. Лица их были недовольные, капризные и разочарованные. Они подошли ко мне вплотную.
– Здесь совсем неинтересно! – сказала одна из них тоном недовольно–интимным. – Мы были бы вам очень благодарны, если бы вы показали нам что-нибудь более захватывающее… Мы слыхали, что в Париже…
Я беспомощно посмотрел на их возбужденные, подурневшие лица.
– Но что именно вы хотите, мадам?
Тогда одна из них наклонилась к моему уху, обдав меня ароматом дорогих духов и парами шампанского, прошептала несколько слов.
Желание ее было столь цинично и бесстыдно, что даже шофер Жорж, мое второе «я», приготовившийся ко всему самому неожиданному, покраснел и растерялся.
– Ну?.. Вы не знаете?.. – нетерпеливо сказала другая и посмотрела на счетчик. – Тогда мы вас отпустим и возьмем другого.
Они расплатились со мною и подошли к шоферу, только что мне позавидовавшему. Он выслушал их почтительно и без малейшего смущения и открыл дверцу такси.
Проезжая мимо меня, он весело помахал мне рукой – не то в знак благодарности, не то пренебрежения.
– Пусть неудачник плачет! – пропел я ему в ответ…
Я поплелся вперед без цели, задерживаясь ненадолго у подъездов кабаков и кабаре. Порой обрывки цыганских романсов и аккорды гитар долетали до моего слуха.
У одного из кабаре меня остановила уже не молодая, но еще довольно красивая, хотя и сильно располневшая женщина. Одета она была кричаще-богато. Лицо ее было растерянно и взволнованно.
– Я беру вас на часы, – заявила она. – Мы объедем с вами ряд ресторанов и кабаре.
По-французски она говорила плохо, пересыпая свою речь испанскими словами.
Трудно было догадаться о смысле ее объезда. У каждого кабака она останавливалась на пять – десять минут и выходила оттуда еще более взволнованной и огорченной. Иногда испанские ругательства слетали с ее слегка поблекших уст.
В одном из кабаре она задержалась дольше, чем в других. Шассер вынес мне по ее приказанию дюжину устриц и бутылку шампанского…
Вскоре она вышла сама, слегка пошатываясь. Глаза ее блуждали.
– Кажется, мы с вами, наконец, напали на след! – сказала она мне, как будто я был так же заинтересован в ее поисках, как и она сама. – Теперь, мой друг, как можно скорее в «Ликующую устрицу». Он был сегодня здесь и собирался приходить туда.
Но из «Ликующей устрицы» она вышла далеко не с ликующим, а с совершенно убитым и гневным лицом.
– Представьте себе, – опять обратилась она ко мне, – здесь он действительно был, но далее его следы опять теряются. Лакеи и шассеры клянутся, что они не знают, куда он потом направился!
Она грустно помолчала, потом спросила:
– Сколько заведений мы уже объехали?
– Мест двадцать, мадам… – ответил я, сочувственно посмотрев на нее.
– А сколько еще в Париже таких кабаре?
– Невозможно сосчитать, мадам…
Она взглянула на маленькие часики-браслет, безвкусно усыпанные крупными бриллиантами.
– Послушайте… Я устала…
– Прикажете отвезти вас домой, мадам?
– Да, домой… Но прежде остановитесь у какого-нибудь самого простого бистро. Мы выпьем с вами пива.
– Пива?..
– Да, да – пива. Так всегда заканчивал наши ночи Миккей…
Она искала какого-то Миккея!..
Я остановился у мрачноватого ночного бистро, где-то за площадью Аббесс. Мы вошли и заняли столик.
Сонный апаш у стойки, жалкая пародия на довоенных парижских апашей, посмотрел не без вожделения на мою спутницу и не без враждебности на меня.
Но он был, как сказано, только жалкой пародией, и вряд ли у него имелся даже нож, не говоря уже о револьвере, а потому взгляд его меня не испугал.
Хозяин подал нам бутылку пива. Испанка залпом выпила два стакана. Ее, видимо, мучила жажда.
– Мы должны найти Миккея во что бы то ни стало! – сказала она. – Я очень рада, что встретила такого шофера, как вы. Я очень довольна вами. Приезжайте завтра за мною, и мы снова начнем наши поиски.
Она вынула деньги, чтобы заплатить за пиво, и была очень удивлена, когда я опередил ее и заплатил сам.
– Но ведь я же вас пригласила? – сказала она, изумленно посмотрев на меня.
– Я имею обыкновение платить за дам, в обществе которых я нахожусь, – ответил я, сам мысленно над собою издеваясь.
Но надо было быть последовательным, и, когда я привез ее в ее отель на площади Вандом и она протянула мне две стофранковки, я вернул ей одну и сказал:
– Это за шампанское и за устрицы, мадам! Вспомнив обо мне, вы доставили мне большое удовольствие.
Затем я церемонно поклонился ей и, вскочив «на облучок», дал ход машине. Ночной швейцар почтительно ждал, пока она с изумлением, как на настоящего сумасшедшего, смотрела на меня.
Возвращенную мною стофранковку она машинально сунула в руку консьержа.
Она имела все основания изумиться. Ведь она воображала, что перед нею ночной шофер Жорж, и, конечно, не подозревала того, что имела дело с полковником Елыниным…
Евгений Тарусский. Его величество случай. Изд. «Витязь». Тянъцзинъ <1939>
Вокруг света
1
Заседание Лондонского географического общества подходило к концу. Резюмировав прения, председатель обратился к сидевшему в первом ряду Филеасу Фоггу с торжественным вопросом:
– Мистер Фогг! Итак, решаетесь ли вы, после всех поставленных вам условий, на путешествие вокруг света в восемьдесят дней без новейших способов передвижения?
– Да, сэр, – невозмутимо ответил Филеас Фогг, не вынимая сигары изо рта.
– Вы обязуетесь не говорить за все время путешествия ни на каком языке, кроме английского?
– Да, сэр.
– Вы согласны на маршрут, выработанный в настоящем заседании и включающий в себя: Сан-Сальвадор, Мексику, Калифорнию, Сандвичевы острова, Японию, Китай, Индостан, Аравию, Тунис, Гибралтар, Лондон?
– Да, сэр.
– В таком случае, мистер Фогг, срок на премию в 500 тысяч фунтов начинается с завтрашнего утра в 10 часов 30 минут по Гринвичу. Объявляю заседание закрытым.
2
Мистер Фогг сидел на корме огромного океанского парохода в длинном лонгшезе, положив для удобства одну ногу на пароходный компас, и читал газету. Через 5 часов 25 минут после отхода он заметил, что около него вертится какой-то незнакомец и старается заговорить.
– Послушайте, джентльмен, – проговорил наконец Фогг, прочитав газету до конца и убедившись в последней строчке, что редактор газеты не переменился. – Я вижу как будто, что моя личность представляет для вас исключительный интерес?
– Вы угадали, сэр, – ответил незнакомец на плохом английском языке. – Я хотел вам предложить свои услуги, сэр. Я все могу, сэр.
Филеас Фогг, который ничему не удивлялся уже 23 года, не удивлялся с тех пор, когда его бросила жена, бежавшая с одним полярным путешественником, был несколько изумлен предложением иностранца. Он докурил сигару, внимательно следя за ее пеплом, и сказал наконец:
– Я не знаю, что вы можете, милостивый государь. Но надеюсь, вы не сапожник и не авиатор в одно и то же время?
– На этот раз вы не угадали, сэр, – спокойно возразил незнакомец. – Я именно и сапожник и авиатор одновременно. Если же вам, сэр, нужен, кроме того, машинист на пароходе, повар, шофер, плотник, прачка, скрипач, артиллерист, официант, переписчик на машинке, чертежник, землемер, печник и дровосек, – то я тоже к вашим услугам.
– Не исключая фотографа? – спросил озадаченный Фогг.
– Разумеется, не исключая, сэр, – быстро согласился незнакомец. – Фотография сама собой подразумевается. О ней не стоит упоминать так же, как и о гравировке по меди, которую я знаю в совершенстве.
– Так, – задумался, нахмурившись, Филеас Фогг. – Это превосходно. Подобные специалисты, не спорю, особенно полезны в кругосветном путешествии. Но… кто вас может рекомендовать?
– Прежде всего, – я сам. Ну а кроме того, все правительства всех стран, сэр, – ответил незнакомец, забираясь рукой в карман и доставая оттуда пачку бумаг. – Вот, извольте взглянуть: здесь, на этом документе, 35 виз. На другом, будьте добры убедиться, 48. Итого 83. Далее: короткое путешествие с 14 визами. Это прогулка в одну дачную местность, в окрестности. Затем: легитимация, сертификат, карт д'идантитэ, дозвола на живот…
– Достаточно. Разрешите узнать вашу национальность и имя?
– Что касается национальности, сэр, то она ясно выводится из предъявленных вам документов: в них определенно значится, что я подданный великой Горской республики. А имя мое, сэр, Иван-Петров-Заде-Ага. Это довольно длинное имя, правда; я сам иногда бываю им недоволен. Но никто не мешает вам, сэр, для простоты обозначения называть меня кратко: Паспарту.
– Я беру вас! – твердо произнес Филеас Фогг, подумав 3 минуты 18 секунд. – С двенадцати часов вы находитесь у меня на службе, мистер Паспарту.
3
В Сан-Сальвадор пароход прибыл днем. Сойдя на пристань, Филеас Фогг обратился к носильщику с просьбой отнести вещи в автомобиль лучшего отеля. Но носильщик не понимал.
– Эти парни лопочут не то по-португальски, не то по-испански, – рассердился Паспарту. – Погодите, сэр. Я сейчас отыщу настоящего туземца.
Он взобрался на стоявший у пристани ящик, сложил ладони в трубку и зычно крикнул на непонятном Филеасу Фоггу наречии:
– Господа! Э-эй! Кто из вас тут земляки? Иван Иванович, Михаил Степанович, Сидоров, Карпов, отвечай!
– Я, Федоров! – послышался радостный голос одного из грузчиков. – Здравствуйте, земляк. Вот приятная встреча!
Иван-Петров-Заде-Ага облобызался на глазах у удивленного Филеаса Фогга с Федоровым, расспросил его обо всем и уверенно повез своего патрона в отель, указывая достопримечательности местности и ту вершину, которую впервые увидел с моря Христофор Колумб.
– На каком языке вы объяснялись с вчерашними рабочими? – спросил Филеас Фогг на следующий день Паспарту, когда тот, заменив больного гостиничного шофера, вез своего патрона в окрестности города.
– На туземном, сэр, – отвечал Паспарту. – Здесь живет одно старое уцелевшее племя, и я на досуге изучил его язык. Не угодно ли, между прочим, вам, сэр, заехать в гости к одному из этих туземцев?
– Я очень рад, что взял вас на службу, Паспарту, – величественно произнес Филеас Фогг. – Везите меня к туземцам. Вы незаменимы, Паспарту.
– Не то еще будет, сэр, – скромно потупив глаза, ответил Иван-Петров-Заде-Ага.
4
Колонисты встретили земляка радостными расспросами. «Откуда? Как? Почему?» Паспарту усадил Филеаса Фогга у стола и стал рассказывать о том, сколько ему за последние годы пришлось испытать мытарств.
– И теперь, видите, служу у этого рыжего болвана, – закончил он свое повествование, показывая пальцем на Фогга, который в ответ торжественно кивнул головой. – С жиру взбесился от своих стерлингов, поехал осматривать земной шар.
– Дурак, – грустно согласился седой полковник, хозяин избушки. – Я понимаю еще интерес к разным частям света, когда нужно устраиваться. Но имея деньги и отечество… Осел!
– Вы слышите, сэр? – спросил Паспарту Филеаса Фогга. – Туземцы вас приветствуют.
– Передайте им мою благодарность, Паспарту, – прочувственно ответил Филеас Фогг. – Я очень тронут.
И он снисходительно стал осматривать внутренность хижины. Ему понравились вышивки крестиками, которые делают своими руками туземки Сан-Сальвадора. Он внимательно разглядывал изделия из местного дерева в виде мундштуков, корзиночек, табакерок. Он купил даже на память одну коробочку с узорами, выжженными по дереву очень искусно и со вкусом. Уезжая в город, он благодарил туземцев и спросил Паспарту, указывая на стоявший в углу вылепленный из местной глины бюст Пушкина:
– Это что такое?
– Их бог, – спокойно ответил Паспарту. – Если вы им оставите десять фунтов, сэр, они целый год будут покупать благовонные травы в виде папирос и курить перед богом фимиам в вашу честь.
5
Мексику и Калифорнию путешественники миновали благополучно. В Калифорнии, впрочем, на железной дороге произошла однажды задержка, так как через поврежденный водою мост машинист не хотел вести поезд.
– Паспарту, мы опоздаем, – грустно сказал Филеас Фогг, заглядывая в карманный календарь. – Что нам делать, Паспарту?
– Не беспокойтесь, сэр, – ответил Петров-Заде-Ага. – Я на этой станции познакомился с одним индейцем по имени Голопупенко. У него есть несколько верных товарищей… Если вы хорошенько заплатите, они высадят машиниста и сами перевезут нас на ту сторону.
Филеас Фогг согласился. Деньги были уплачены, время было выиграно.
По Тихому океану почти до самых Сандвичевых островов плыли благополучно. Только за день до прибытия к островам захватил сильнейший шторм, и повара так укачало, что никто не решался попробовать приготовленного им в состоянии болезни супа.
Филеас Фогг был в унынии.
– Дорогой мой, – сказал он Паспарту, – если я не съем сегодня супа, я потеряю 152 калории. Нельзя ли предотвратить это несчастье?
Паспарту думал недолго. Пошел на кухню, уложил повара на кровать, сам приготовил борщ. Борщ вышел на славу, и даже капитан судна приходил к Филеасу Фоггу и спрашивал:
– Где вы достали такого золотого человека, сэр? Он – англичанин?
– Почти, – уклончиво ответил Филеас Фогг. – Я отыскал его на предгорьях одной из английских колоний.
6
В Гонолулу мистер Фогг был поражен не на шутку. Когда пароход ошвартовался, Паспарту, стоявший у борта, вдруг вскрикнул и яростно замахал платком.
– Петя, ты? Не может быть!
– Ваня! Какими судьбами?
– Из Калифорнии вокруг света еду! А ты как здесь? С каких пор?..
– Из Феодосии – прямо. Ну и сюрприз! Как жена удивится! Ты один? Слезай скорее, сходни поставили!
– Паспарту, – сказал Филеас Фогг, трогая за плечо Ивана-Петрова-Заде-Агу. – С кем вы беседуете?
– С туземцем, сэр, – ответил радостно Паспарту. – Мы с ним большие приятели. Быть может, хотите, сэр, опять посмотреть, как живут местные жители?
– Я согласен, – задумчиво ответил Филеас Фогг, с завистью глядя на Петрова-Заде-Агу. – Но скажите, пожалуйста, Паспарту: вы не совершали раньше двадцати или тридцати поездок вокруг света?
– Девятый год непрерывно езжу, сэр, – скромно ответил Паспарту. – У нас тоже ведь, как и у вас, есть географическое общество… Только число действительных членов в нем чересчур велико: два миллиона человек, не считая родственников.
Филеас Фогг вздохнул. Он не понимал до сих пор, кто же такой, наконец, этот загадочный Паспарту. Но сознаться в незнании того, где находится Горская республика, Филеас Фогг не мог. Для этого он был слишком известный географ.
7
С Паспарту Филеас Фогг ехал, к сожалению, только до Китая. В Шанхае в одно прекрасное утро, получив жалованье за месяц в размере 300 фунтов, Паспарту вдруг исчез, оставив Филеасу Фоггу записку, в которой говорил, что покидает патрона, обещает зайти к нему в Лондоне на квартиру и объяснить там подробно причину ухода. Филеас Фогг впал в уныние. Он так привык к Паспарту, к его обширным знакомствам на земном шаре, к его умению объясняться со всеми туземцами, расспросить, по какой улице идти, за какой угол завернуть, что вначале на почтенного географа напала хандра. Однако до конца срока оставалось всего 47 дней.
Кое-как поборов уныние, Филеас Фогг проехал в Бомбей, оттуда на слонах и верблюдах в Мекку, добрался до Порт-Саида, перекочевал в Тунис и через Гибралтар вернулся в Лондон ровно через 80 дней, считая и один пропущенный день из-за вращения земли вокруг собственной оси.
Било 10 часов 30 минут по Гринвичу, когда в зал заседания Лондонского географического общества открылась дверь, и на пороге появился Филеас Фогг…
8
В тот же день мистер Фогг случайно встретил Паспарту на Даунинг-стрит.
– Паспарту, вы?
– Я, сэр.
– Каким образом? Давно?
– Уже около месяца, сэр. Открыл здесь лавку, обзавелся квартиркой. Женился, сэр. Все благодаря вашему жалованью, большое спасибо.
– Паспарту!.. – побледнел Филеас Фогг, схватывая Петрова-Заде-Агу за руку. – Как же так? На месяц раньше меня? Почему вы бежали от меня, Паспарту?
– Сэр, – искренно произнес Паспарту, пожимая руку джентльмена, – не сердитесь. Но скажу вам правду: уж очень вяло плелись мы с вами по земному шару. Члены нашего географического общества, сэр, не привыкли к такой медлительности!
A. M. Ренников. Незванные варяги. Париж, 1929
Гроза
У самого южного края Охридского озера на скалистом массиве стоит монастырь Св. Наума. Храм из камня, точно продолжение скал, вокруг – тяжелые стены монастырской ограды, и по обе стороны склонившийся к подножию лес, ущелье Черного Дрима, суровые горы за ним.
Беспощадная ирония истории не оставила без своей гримасы и это священное место. Как оказывается, особенного благополучия монастырь Наума достиг в эпоху владычества турок. Грабя православное население, турки смиренно являлись сюда, просили у христианского Бога помощи и отдавали Ему часть награбленного достояния христиан. В этом не было, конечно, ни кощунственной насмешки, ни низкого желания задобрить чужого Бога. Просто врожденная восточная честность подсказывала грабителям, что ту долю, которую христиане должны были уделять из своего имущества на Божий дом, нужно обязательно отдать по назначению; и тогда остальным награбленным можно распоряжаться уже с чистой совестью, с чувством исполненного священного долга.
Это как будто необычная логика… Да. Но разве европейцы хотя бы в такой турецкой пропорции воздают «богови – Богу»? Судя по приобретению краденой церковной утвари из советской России, – увы!
Игумен приглашает нас отобедать у него в монастырской трапезной. Обед будет в двенадцать часов, а теперь десять. Разбившись на группы, мы спускаемся к пляжу. Здесь ровная чистенькая дорога, обсаженная деревьями, пологий, уютный берег. Как будто европейский заглохший курорт, а не граница с дикой Албанией.
Обсудив технику предстоящего купания, публика начинает расходиться в разные стороны. Я спускаюсь на мелкий гравий, у самой воды, смотрю, как движутся у края прозрачные языки волн, сообщающие берегу невинные албанские сплетни. Сзади экскурсанты хрустят песком и камнями.
– Вы любите волны? – слышится голос Букетовой.
– Да, – мягко отвечает профессор-математик. – Я в университете два года специальный курс о волнообразном колебании читал.
– Ведь волны – жизнь. Не правда ли? Все в мире – волны. И нет возможности найти общий закон для них – буря, лепет, злоба, радость… Все так разнообразно!
– Собственно волны бывают или поперечные, или продольные, – деликатно поясняет профессор. – Но, конечно, вы правы. Интерференция, различие амплитуд, фаз. Все это осложняет картину…
А недалеко от меня, на камнях, один из экскурсантов ведет с дамой грустную беседу о смысле жизни. О, неисправимый русский интеллигент! Опять! Сколько умных мыслей ты высказал уже о жизни и как мало умной жизни оказалось в твоих мыслях!
Мы лениво лежим на песке возле устья Черного Дрима. Солнце парит. Воздух смирился. И только его знойная дрожь мутит, колеблет далекий берег.
На нас ничего нет, кроме шляп. Впрочем, у профессора на носу в придачу пенсне. Долгое время молчим. Лень говорить, лень думать, даже в воду идти лень… Со стоном удовлетворения профессор переворачивается со спины на грудь, поправляет пенсне, блаженно смотрит в даль озера.
– Николай… – Ну?
– Это Албания там? – Да.
– А здесь?
– Сербия.
Молчание. Волны плещут. Какая-то рыба взметнулась в воздух, грузно шлепнулась, оставила кольца.
– Николай… – А?
– А Албания разве не сербская теперь?
– Нет.
– А чья?
– Ничья. Своя.
– Суверенная?
– Не иначе.
Молчание. Как пышет жаром песок! И как ослепительны скалы!
– А Тарнополь сейчас чей, Николай? Чехословацкий?
– Польский, наверно.
– Польский… А Черновицы?
– Румынские.
– Обожгло, кажется… Горит. Как трудна стала география! Ты можешь назвать теперешние границы в Европе, Николай?
– А ну их к черту!
После купания обязательно нужно выстирать косоворотку, которую я уже четвертый день ношу, не надевая под нее ничего. Время, конечно, терпит. Солнце горячее – высохнет быстро. Несколько раз мы втроем вылезаем на берег, ложимся, идем снова в озеро, опять ложимся.
– Как вода? – слышится бодрый голос сзади. К нам подходят наши офицеры – матросы с баржи. На ходу раздеваются, шумно бросаются в воду. И потом располагаются на песке, рядом.
– Вы какого полка?
– Александрийский гусар.
– Галлиполиец?
– Да…
Он рассказывает затем. Грустно, но просто, без жалобы. И подробно – ведь так редко видит своих! До последнего времени служил в пограничной страже. Наших было много по всей границе. От Гевгели до Битоля – ингерманландцы, в районе Ресани – новгородские драгуны, у Охрида – александрийцы – «бессмертные», у Струги – одесские уланы… Как жилось? Тяжело. Их «чета» была расположена здесь, в горах. Разделялись на 9 караулов, на расстоянии 3 километров друг от друга. Ночевали в полуземлянках, сооруженных собственными руками из бревен и камня, пищу получали на лодке из Струги, зимой бывали отрезаны. Изредка случались, конечно, перестрелки. Но большей частью – тихо. Тоска. Летом грозы и ливни, зимой навалившийся на землянку снег, занесенные тропы. И ничего ниоткуда. Что на свете? Что в России? Кто что делает? Скоро ли возвращение?
Когда нет мыла, белье хорошо стирать, протирая его чистым прибрежным песком. Я проделал так раза два, всполоснул и разложил рубашку на солнце. Через десять минут будет готово. Но что это?..
– Куда вы? Полковник!
– Бегу… На баржу… Буря сию минуту! Полковник-матрос схватывает с песка пояс, мчится на пристань. Там, на албанской стороне, действительно что-то неладно: дымят ущелья. Из-за ближайшей горы показалась одутловатая туча, посмотрела на озеро, сверкнула молнией, полезла к солнцу. И через несколько секунд помутившееся небо пробурчало вверху:
– Гр… гр… гррро…
– Скорее, Володя! – торопливо одевается Николай Захарович. – Шквал надвигается. Видишь?
– Погоди… Где мой носок? Потерял носок, Николай!
Профессор беспомощно вертится на месте, смотрит по сторонам, шарит глазами.
– Какой носок?
– Второй!
– Да оба же у тебя на ногах!
– Оба? В самом деле!.. Оба. Но как мы теперь вернемся в Охрид? Неужели ночевать придется?..
Они уже оделись, зашнуровали ботинки. А я сижу, широко раскрыв глаза, и смотрю с ужасом на рубаху.
– Не высохнет!
Да и где высохнуть? Солнце покрылось мутной вуалью. Еще минута – мохнатое животное, ползущее по небу, совсем потушит огонь. А вблизи уже качнулись вершины тополей возле дороги… Взвилась пыль… Белый столб…
– Господа! Подождите меня!
– Чего же не одеваетесь? Живенько!
– Рубашка мокрая! Не могу!
Хочется плакать. Зачем с нами поехали дамы? Всегда осложняют путешествия!
Ветер ударил по уху свистящей пощечиной. Толкнул туловище, дернул одну ногу, другую и, сорвав с головы албанскую шапочку, понесся с нею к Галичице. Обыкновенно, когда в многолюдных городах мне приходится по улицам гоняться за шляпой, я всегда снисходительно улыбаюсь, будто выиграл небольшой куш в лотерею. Но буду я еще улыбаться на берегу Охридского озера! С бранью и криками бегу по песку, бросаю вдогонку в шапку камнями, стараюсь забежать вперед. И когда, злобно пристукнув ее каблуком, беру в руки, держу крепко, точно хищную птицу, и возвращаюсь назад – рубашки нет.
Среди тревожных волн и вспененных барашков замечаю, наконец, у берега ее уродливо вздутую спину, беспомощно разбросанные руки утопленника. Подхожу к воде, вылавливаю, горестно смотрю вдаль – и снова удар.
Впереди, по озеру, треща мотором, проносится наша баржа. Ее уводят сюда, в камыши, где не угрожает опасность разбиться. Но вместе с нею рушится последняя надежда.
Увезли пальто!
После обеда капитан заявляет, что, если буря в продолжение двух часов не пройдет, нам придется заночевать: баржу опасно выпускать в такую погоду. Признаков уменьшения бури, однако, нет. В окно трапезной, где мы сидим по окончании обеда, видно озеро. И что делается! Внизу, под стенами, скалы точно схватились врукопашную со взбешенной водой. Грохот камня, фонтаны, пена, брызги, за ними – в беспорядке гребни, зеленая мрачная даль, вся в дрожащих цветах, белых, пушистых.
А внутри трапезной – жужжание голосов, детские выкрики, звонкий смех. Все о чем-то говорят, разбились на группы. Генерал – о кругосветном плавании, о Цейлоне. Лев Михайлович – об общественных идеалах в истории. Художники спорят: один ли мастер расписывал храм, или их было три? А председатель ведет с одной из охридянок мистическую беседу о спиритизме.
Я давно замечал, что наш председатель питает к спиритизму особую слабость. Человек он высокообразованный, профессор, писатель; ему, слава Богу, отлично известно, как ответственна связь миров посюстороннего и потустороннего. А вот увидит дрянной трехногий стол с покоробившейся крышкой и теряет самообладание. Почему у них, у спиритов, обязательно стол? Мне всегда вчуже обидно за Наполеона, Александра Македонского, Помпея. Прославиться, прогреметь, завоевать чуть ли не полмира… И потом забраться в территорию жалкого столика, вертеться на одной ноге, постукивать. Стоило ли для этого жить? А в особенности – умирать?
– А вы кем были? – допытывается у охридянки председатель.
– Куртизанкой. Во времена Нерона.
– В самом деле? Хорошо помните детали?
– О да. Часто вспоминается, например, пир… один. Я, вся в белом… В венке… В руке бокал… А сбоку возлежит Сенека.
– Влюбленный или так?
– Неравнодушный… Немного. В этот вечер как раз познакомилась впервые с Нероном. Несколько раз подходил, шутил, разговаривал…
– Сами тогда скончались? Или насильственно?
– О, не вспоминайте. Конечно, насильственно.
– Да, что уж поделаешь… Такие времена были. Распяли, должно быть?
– Нет. Хуже. Зверям бросили.
– Эх-хе, – вздыхает председатель. – Много есть, друг Горацио, и так далее… А знакомых из римского периода встречаете теперь, в этой жизни?
– Одного только мельком видела. Давно, в Петербурге… На Невском прошел мимо и скрылся. В форме почтово-телеграфного чиновника. Раньше, помню, звали Марк Публий Порций. А какая сейчас фамилия – неизвестно.
Еще не высохшая рубашка заставляет меня держаться в стороне от дам. Смотрю сначала в окно на бурю, затем рассматриваю «Страшный суд» на стене. Какая македонская наивность в символике! Лежит господин на кровати, умирает, как видно. Вокруг пустые бутылки, сласти, фрукты, соблазнительные женщины… Все, что было раньше, при жизни. А теперь дело дрянь: дракон выпустил когти, норовит вырвать глаз; крокодил схватил зубами одеяло, подобрался к ноге; черти стоят поодаль, щелкают челюстями, ожидая момента выхода души из тела…
Какого века картина? Византийская? Ренессанс? Написано яркими красками… Как будто даже напечатано. Ба! Неужели? «Сытин. Москва. Дозволено духовной цензурой».
Сытинский страшный суд приводит в радостное приятное настроение. Отхожу, умиленный, от грешника к играющим в углу детям, хочу приласкать малышей, позабавить.
– Тебя как зовут?
– Володя…
Он смотрит на меня снизу пытливо, раскрыв любознательный рот.