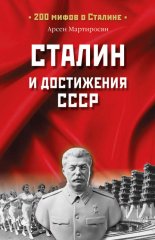Плыть Крюкова Елена

«Вода, вода, кругом вода,
Ни капли для питья…»
Сэмюэль Тейлор Кольридж
Я не жила.
Я уже умирала.
Как оказалось, смерть очень близко. Так близко, что между мной и ею уже не оставалось зазора.
Обычным для мужа стал вызов мне «Скорой помощи». Я задыхалась, ловила ртом воздух. Сердце бешено колотилось; вместо сердца под ребрами полыхал язык пламени, и было непонятно, то ли оно бессильно погаснет, то ли разгорится еще ярче и сожжет меня. С потрохами.
Муж сидел в изголовье, держал меня за руку, щупал пульс, чуть не плакал и шепотом, отчаянно, матерился.
Я шептала: «Побойся Бога, Володя, не надо, зачем ты так».
Приезжала «Скорая», иногда совсем и не скорая: через час, через полтора. Можно было умереть свободно и легко, и даже много раз.
Со стен на меня глядели полевым разнотравьем и ушедшей жизнью картины отца.
Бригада медиков склонялась надо мной. Врач командовала медсестре:
–Новокаинамид! Нет, лучше давай кордарон!
–Кордарон, ведь это в клинике… ведь это капельно… – лепетала младшая по званию.
–Без тебя знаю, – гневно сверкала глазами врачица, – я осторожно! Десять минут вводить буду. Уйди!
И отжимала медсестру плечом от дивана, где лежала я.
А я тупо, сквозь слезы бессилия и испуга – а вдруг умру под иглой? – смотрела на внимательные, как у змеи перед броском, глаза врача и белую марлевую маску, прилипавшую к губам при вдохе.
Мой ужас звался ужас как красиво: мерцательная аритмия, пароксизмальная форма.
Иногда врачи произносили еще два красивых витиеватых слова: «трепетание предсердий». При этом крутили головами и добавляли еще и еще красоты: «Как бы не перешло на желудочки», «блокада ножки пучка Гиса» и «дефибриллятора тут у нас нет».
Дефибриллятора и правда у бригады не было, и слава богу, думала я, током долбанут – и дух вон, а перед глазами все туманилось от лекарства, которое медленно и верно втекало из шприца в вену, и сквозь серую тошнотную пелену я слышала:
–Эй! Очнитесь! Очнитесь! Очни…
А потом – резко голову дернуть вбок: нашатырь.
Это у меня началось в дни, когда в больнице умирала мама. Стояло диковинно жаркое лето. Мама собралась посмотреть «Евровидение», вошла в нашу с мужем спальню, включила телевизор, положила на диван подушечку, села на нее, плотнее завязала узел платка на затылке – и внезапно покатилась, упала на бок, и ее вырвало зеленой желчью. Я подскочила, подняла ее, уложила как следует. Я даже не спрашивала, что с ней: дочь врача, я обо всем догадалась сразу. Дикая жарища, на улице плюс сорок и выше, восемьдесят четыре года, слабые сосуды.
Инсульт.
–Мама, ты так лежи, – сказала я бодро, успокаивающе и лживо, – ты чем-то отравилась. Что мы с тобой ели вчера?
И я вспоминала вслух, что же мы ели вчера, а она слушала и, я понимала это, мне не верила.
И я поняла: она сама обо всем догадалась.
Но мы обе не хотели расстраивать друг друга: она – меня, я – ее.
А по телевизору пели и пели, заливаясь соловьями, иноземные певцы, а мама так хотела это чертово «Евровидение» и поглядеть, и послушать.
Иная – красивая, блестящая, певучая жизнь.
До вечера мама пролежала в нашей спаленке.
Вечером, с моей помощью, добралась до своей комнаты. Я тепло укрыла ее и тем же бодряцким голосочком проверещала:
–Все будет хорошо, хорошо-хорошо! Вот увидишь!
Утром я подошла к ней.
Мама скосила на меня глаза, и я вспомнила косой плывущий взгляд старика на картине Рембрандта «Возвращение блудного сына».
–Доченька, все же надо в больницу. Я только в свою поеду. В тридцать восьмую. Ты позвони в приемный покой, ладно?
Я позвонила.
Мне ответили: да не вопрос, это же наш врач, приезжайте, конечно, вызовите «Скорую».
«Скорая» воскресным утром прибыла в таком составе: шофер, он остался сидеть в машине, и медбрат лет восемнадцати, с кожаными носилками под мышкой. Он вертел головой, разглядывая папины полотна и этюды.
–Ой-ей-ей! Как у вас тут классно! Как в Третьяковской галерее! Вы сами рисуете?
–Нет. Не сама.
–Значит, – вздохнул, – покупаете. Богатые. Где больная? – кивнул на лежащую бессловесную маму. – Вот?
Растерянно развел руками. Оглядел меня с ног до головы. Оценил ситуацию.
–Не донесем!
Я присела на корточки перед мамой. У нее дрожали губы.
Я услышала тихое, нежное:
–Доченька… Давай будем… прощаться…
Видно было, как ей тяжело произвести эти слова. Но она их все-таки сказала.
И я их – услышала!
И что бы мне тогда ответить: «Мамочка, ты уходишь, ты уходишь насовсем, навсегда, да, давай прощаться и говорить о самом главном, о том, чего мы не сказали в жизни друг другу, давай хоть сейчас это скажем, давай напоследок по-иному, чище, сильнее и крепче, совсем крепко и безусловно полюбим друг друга, полюбим – и поймем, и простим», – а вместо этого лживый язык, заплетаясь, выделывал воровские кренделя:
–Что ты! Мама! Ты поправишься! Ты выздоровеешь! Мы тебя вылечим! Поднимем! Все будет просто замечательно!
Я позвонила мужу.
Он бросил занятия в студии и примчался домой. Вдвоем, муж и юный медбрат подняли маму и положили ее на кожаные носилки, пристегнули ремнями, как в самолете, с трудом подняли и понесли в машину.
Я бежала следом.
Солнце сильно пекло голову. «Скорая» тряслась на ухабах, и это было не сегодня, это громыхала подо мной булыжная мостовая моего детства.
Все было – было и прошло.
А что осталось? И что остается?
В больнице, в залитой до краев солнцем душной и жаркой палате – окна настежь, а нечем дышать, – маму уложили на жесткую койку, укрыли чистой простыней с черным пауком казенной печати около шва, принесли ей обед. Я кормила ее с ложечки последним обедом в ее жизни: суп-лапша с курицей, макароны с сыром.
Мама покорно глотала. Руки у нее уже не двигались.
Я поставила тарелку с супом на тумбочку и стала сгибать и разгибать ее правую руку. Паралич, надо разрабатывать, глупо ловила я остатки мыслей.
В открытое окно врывался ветер и обдавал нас печным жаром.
«Памперсы, обязательно купите памперсы», – советовал жалостливый голос рядом.
Я аккуратно положила мамину недвижную руку на простыню. У мамы странно увеличились глаза, стали большие, черные, бархатные – как в молодости. И как у молодой разгладилось лицо; она странно и прекрасно улыбнулась и, пристально глядя на меня, сложила губы трубочкой, будто выдыхала букву «у».
Что она хотела мне сказать?
Устала? Утомилась? Умру? Люблю?
Я сидела у маминой койки до вечера.
Вечером пришел муж и увел меня домой.
А на следующее утро начался мой ужас.
Слишком рано. Рассвет. Поют птицы.
Я проснулась оттого, что сердце внутри меня превратилось в огромную пуховую подушку, ее разрывают чьи-то руки, лапы, когти, и пух летит во все стороны и забивает мне рот, ноздри. Я сама, как зверь, царапнула простынку, перекатилась со спины на бок, попыталась встать. Получилось. Держась за дверную притолоку, я прохрипела:
–Володя, вставай… Мне плохо!
Муж вскочил, как и не спал. Он мгновенно понял: дело и правда плохо. Нажимал на сотовом кнопки: ноль три, ноль три – пока я не выдавила сквозь зубы:
–Сто двенадцать…
В больницу меня везли на нашатыре. Привезли.
Сгрузили дровами в приемном покое. Бросили. Ушли.
Я не понимала ничего, кроме одного: я умираю, и без помощи – умру.
Подумалось о маме: мама, я с тобой не попрощалась, а ты ведь хотела.
Еще подумалось: а ведь сейчас мы, может, встретимся.
И стало очень страшно.
Муж бегал по коридору и кричал:
–Кто-нибудь! Доктора! Сестру! Кого угодно! Помогите! Сестра! Сестра! Да где вы все тут!
И плохими словами ругался.
Наконец в дверях показалась толстая сестра, она волокла за собой капельницу.
–А где нашатырь? – сердито спросила она мужа.
–Нашатырь, твою мать! – заорал муж дико и надсадно, и тогда толсые руки медсестры зашевелились, а ноги забегали.
Кордарон в прозрачной бутыли пузырился и мерцал. Мерцательная аритмия, мерцательная, мерцают звезды в небе, мерцает твоя жизнь.
–Пять утра! – кинула толстая квашня, шаркая тапочками прочь. – Совесть бы имели!
Под капельницами я пролежала тогда три дня.
Мама лежала в одной больнице, я в другой. Муж бегал с апельсинами и соками то ко мне, то к маме. Между двумя больницами было расстояние в четыре трамвайных остановки. Но их надо было проехать или пройти. А для этого мне из моей больницы надо было убежать.
Вторник, среда, четверг.
В пятницу меня будто что-то толкнуло в грудь. Когда к вечеру врачи ушли, еще до скудного ужина – мышиный рис, жалкий рыбий хвост и холодный, будто спитой чай – я осторожными шагами, крадучись, подошла к постовой сестре, умильно сложила руки у подбородка и попросила вежливо и сладко, как могла:
–Пожалуйста! Я вас очень, очень… мне очень нужно. У меня мама в другой больнице. Я съезжу…
–Еще чего, – бросила медсестра, – будете тут бегать все! У всех кто-то да болеет! У всех и всегда!
–Она умирает, – отчетливо сказала я.
Сестра поглядела мне в глаза.
А я – ей.
–Уходите, – сказала она шепотом, – но чтобы завтра утром… в семь утра… как штык…
Как я бежала из больницы в больницу, я помню. Вернее, не помню. Помню, что не помнила, как бежала, вот.
Палата, и закатное солнце, и красный свет…
И окна настежь.
Жара плывет и слоится. Соседки по палате сидят на койках, как куклы, как ступы в степи. Голые телеса завернуты в простынки. Мама лежит за ширмой. Я шагаю за ширму. Вижу: все руки исколоты, все в синяках. И пальцы исколоты. Везде, всюду, по всему телу – синие пятна.
Мама лежит, закинув голову, и дышит тяжело, с влажным хрипом. Не дышит. Хрипит.
Грудь поднимается под простыней.
Раз-два, раз-два…
–Уже никого не узнает. И не говорит. И не ест. Агония!
–Детонька, ты ее переверни скорей, у нее ведь пролежни.
–Мы тут сами ее переворачиваем! Кошмар! А дочь-то где, думаем!
–Вон она, дочь, наконец явилась – не запылилась. Вот они, дочери-то нынче, такие! А мы их растим, лелеем.
–Вы не обращайте вниманья! Треплются – и пусть! Действуйте, коли пришли! Сами ведь все видите!
Я попросила у сестры-хозяйки таз, налила в таз теплой воды и тщательно, приподнимая странно легкую маму, обмыла ее. Я впервые видела пролежни – на спине, на ногах, на ягодицах; страшные, кровавые.
Предсмертные стигматы.
Я помазала пролежни мазью – мне всунули тюбик в руку. Я все делала вслепую, машинально. Видя – и не видя. Чувствуя – и не чувствуя.
Я разговаривала с мамой. Важно было говорить, говорить и говорить, говорить и что-то делать, не останавливаясь…
–Мамочка, вот я тебя помыла. Я помыла тебя так тепленько, хорошо и чистенько, ты теперь лежишь чистая, чистая, тебе хорошо. Тебя сегодня больше не будут колоть. У тебя все пальчики в синяках. Все локти и запястья. И кровь больше брать не будут. Ночку отдохнешь. А я с тобой посижу. Я никуда не уйду. Я тут, я с тобой. Ты ведь слышишь меня? Видишь ли меня? Милая, милая. Я тебя вижу и слышу. Ты со мной. Тебе ведь хорошо сейчас, правда? Правда? Правда?
Мне казалось, мама меня слышит.
Я шептала беззвучно, поправляла простынку. Ширма качалась и падала, я ее ловила.
Мама хрипела, будто пела.
Я взяла ее руку. Слезы не текли по щекам, они текли внутри и обжигали ком сердца в клетке костей. Я говорила с мамой, пока не устала.
Потом я стала молчать.
Сидела и молчала.
Палата становилась все горячее. Женские голоса вихрились рядом со мной: «Вы бы супчику… картошечки… вон, на подоконнике…» Супчик, картошечка.
Лицо мамы уже не отвечало ее клокочущему дыханию. Она дышала сама по себе, а лицо было само по себе.
Оно еще было. Еще – жило.
Время застыло во мне смолой. Сквозь вязкую смолу наружная жизнь билась, плыла, еще просвечивала. Дыхание уходило прочь с лица все ниже, внутрь мамы – в горло, в глотку, в грудь. Наконец оно поселилось в груди, а ноздри уже не раздувались.
Нет, еще шевелились.
И вдруг протянулись руки. Дрожащие исколотые пальцы начали вслепую собирать с простыни невидимых мошек и жучков. Вцеплялись в простыню и тянули, тянули ее на себя. А потом опять медленно, растерянно ощипывали простыню: искали, верили, надеялись.
Ширма закрывала ото всех, как мама обирается.
Я погладила ее по руке.
У нее были очень красивые руки. Длинные, тонкие, крепкие пальцы. Как у Тициановой «Кающейся Магдалины». Магдалина, Венера перед зеркалом, Даная, Саския. Краски ушли. Кисти ушли. Художник ушел. Все ушло. И женщины все ушли. Осталась только простынка и незримые мошки, ползущие по ней…
Больничный стул с деревянной спинкой плыл, и я медленно плыла на нем, как в лодке-долбленке. Дверь в палату скрипнула и отошла.
Вошел муж. Он не видел меня за ширмой.
–Женщины, – услышала я его голос, – добрый вечер! А моей жены нет здесь?
Он шагнул за ширму и успел подхватить меня на руки.
Я задыхалась, а сердце рвало ребра.
Оно хотело выскочить из клетки и улететь.
Когда мы уже приехали домой, мужу позвонили.
–Двенадцать ночи, кто бы это…
Он слушал, что ему говорили, а я уже знала, что ему говорят.
Он неловким пальцем нажал отбой.
–Нина Степановна…
Я прижала палец ко рту: тс-с-с. Тише. Я знаю.
Подошла к окну и раздвинула шторы, потом распахнула оконные створки. Стекло блеснуло под фонарем в жаркой ночи. Я стояла и дышала, слезы сами текли. Хорошо, что они пришли.
Я повернулась к мужу. Слезы затекали в рот.
–Надо прочитать из Псалтыри. Кафизмы…
Я не знала, какие псалмы и кафизмы надо читать. Нашла среди старинных книг Псалтырь и положила на стол.
Зажгла свечу. Открыла псалом наугад.
Я не помню номер псалма. Какая разница? Древняя речь висела в воздухе, я старалась и читала, пока свеча не догорела…
А наутро, в семь утра, я уже была в своей больнице. В моей больнице. Под моими капельницами.
Пришел доктор. Каждый раз новый доктор приходил.
То старый, то лысый, то круглый, то молодой, то морщинистый. Река врачей текла и петляла в больничных стенах и втекала в улицу, в заоконную толпу.
Этот был молодой и кудрявый, как баран. И слишком высокий, как волейболист. Чтобы присесть ко мне на койку, он сложился вдвое.
–Так, так, – сдернул с шеи фонендоскоп, я дернула вверх сорочку. – Послушаем, что слышно!
Слушал – и лицо вытягивалось.
–Все ясно. Ишемическая болезнь сердца. Фибрилляция предсердий. Пароксизмы. Ярко выраженные. Страх смерти посещает?
После смерти мамы – что я могла ответить ему?
Что да, посещает? Каждый Божий день? И вчера опять посетил?
–Еще какой, – честно сказала я.
–Паникуете?
–Еще как.
–Н-да, все как по писаному!
Он склонил баранью башку и уставился на меня выпуклыми бараньими глазами. Губами пожевал.
–Вы знаете о своей участи?
–Об… участи?
–Ну да: о том, что вас ждет.
–А что… меня ждет?
–Нас всех, понятно, ждет одно и то же.
Хохотнул. Наклонил голову в другую сторону.
–Но вы должны знать. Я перед вами честен. Я не вру. Мерцательная аритмия неизлечима. Вы будете с ней жить. И она у вас будет усугубляться. Усиливаться. Вы понимаете?
Сил не было даже кивать. Я закрыла и открыла глаза, изображая согласие.
–И нужны будут лекарства. Так, сейчас вы под кордароном. И будете под ним долго, долго… пока у вас щитовидка не перенасытится им, и вы не загремите в больницу с медикаментозным тиреотоксикозом! Кордарон, конечно, хорош…
Баранчик задумался. Играл фонендоскопом.
–А что, если попробовать ритмонорм? Пропанорм, в просторечии. По схеме: две плюс одна! Превосходное изобретение. Доктор в кармане! Будете всюду с собой носить. Как прихватит – вы сначала две таблетки, а потом, через полчасика – еще одну, и дело в шляпе! Приступ снимается как рукой. Идет Согласны?
Я снова кивнула ресницами.
Мне нечего было ответить.
А еще через день мы хоронили маму.
И для того, чтобы я смогла ее похоронить, меня официально выписали из больницы.
А что толку меня в ней держать, когда у меня и так неизлечимая болезнь?
Мы отвезли маму в деревню и опустили в землю на маленьком сельском кладбище на берегу Волги, на обрыве над большой и сильной рекой, и там я долго стояла на коленях на разрытой пушистой земле, на примятой и срезанной лопатами траве, и молилась, как умела.
Простой черный, чугунный крест.
Венок: темно-зеленые ветки, белые бумажные розы. «Дорогой маме от любящих детей».
Для сельчан устроили нехитрые поминки. Гречневая каша, рыбные консервы, соленые помидоры, водка, селедка, ржаной.
Сын и муж пили водку. Я чуть пригубила и сидела каменно.
В ночь пришла аритмия. Она выворачивала меня наизнанку, хлестала, лупила. Я во всем перед ней была виновата.
Муж сломя голову понесся в сельскую больничку, оттуда бежали уже вдвоем: он и сельская медсестра Марья Константиновна с медицинской сумкой на плече.
–Давай лапу! Муженек, подержи жгут! Коргликон, он же дигоксин! Сейчас все как рукой… да не плачь ты!
Смерть стояла рядом и смеялась – беззубо, беззвучно.
Начались мои многолетние скитания по больницам.
В одной меня с ритмонорма перевели на соталекс. «Он же соталол, он же сотагексал! – важно поднимая палец вверх, поучал меня доктор. – Я, душенька, собаку съел на мерцалках!» Я грызла соталекс и свято верила в него. Аритмия, испугавшись нового снадобья, вежливо отступала.
На время.
А потом опять наваливалась – с новой злобной силой.
В другой больнице меня посадили на лекарство под названием «беталок ЗОК». Двойное имя. Имя и фамилия у лекарства, как у человека: Рихард Зорге, Амалия Зебальд, Беталок Зок. Немец, выходит так. Доктор гордо говорил о себе: «Я стажировался в Дании, а само лекарство шведское, оно вам однозначно поможет! Я столько народу уже им вылечил! И знаете, оно многопрофильное: и аритмию лечит, и блокады, и гипертонию! Шведы не дураки! Точно вам говорю!»
Я верила – и доктору, и шведам, и Беталоку Зоку.
Я глотала его сначала четверть таблетки, потом полтаблетки, потом таблетку, потом две таблетки в день, потом горстями. Когда увеличивала дозу – аритмия исчезала. Через две-три недели она появлялась опять: ночной призрак, прозрачный, гиблый, хохочущий надо мной и несчастным неудачником Беталоком Зоком…
В третьей больнице врач долго и больно мял и тискал мне шею. «Милочка, да у вас щитовидка не в порядке! Отсюда и аритмия! Лечите-ка щитовидную железу – и будет вам счастье! Вот вам телефончик. Лучший эндокринолог города! Прием – тысяча рублей!» Я пила препараты йода, регулярно приходила к эндокринологу и незаметно, по совету врача, совала ему гонорар в оттопыренный карман халата.
В четвертой больнице мне написали в эпикризе: «Идиопатическая форма мерцательной аритмии».
–А это не от слова «идиот»? – испуганно спросила я.
Мне объяснили, что так именуется диагноз, когда нельзя установить причину болезни.
А после выписки был снова дом, и снова два дня я жила, а на третий – опять умирала, и муж опять вызывал «Скорую», и смотрел на часы, и сжимал мои руки, и шептал: «Да что же это такое! Что же это такое!»
Я себя берегла. Лелеяла.
Я сидела сиднем, а чаще лежала, как на лежбище тюлень. Мягкие подушки, много подушек, чтобы лежать высоко, чтобы сердцу легче было. Мне сказали: от сердца помогает шоколад; и я ела шоколад сколько влезет – и шоколадные плитки, и коробки шоколадных конфет, а внутри – ромовая или коньячная начинка, это очень вкусно, это такое наслаждение. И как же не встряхнуть свое бедное сердечко хорошим заморским чаем, а к чаю-то надо вкусненький торт или сдобный крендель, как же чай-то без сладостей: мед, варенье, цукаты! Ну как больному человечку не побаловать себя!
Муж покупал мне, вечно печальной, вкусные вещи. Я сама себе их покупала. Я вставала с постели, принимала душ и ела вкусности.