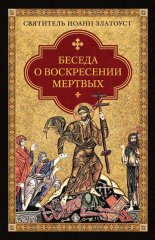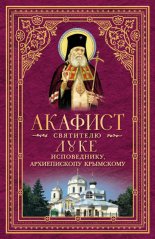Простые смертные Митчелл Дэвид

…но возродилась я в жутком гнезде из тряпья и гнилой соломы в теле девочки, сгоравшей от лихорадки. Ее кровь пили комары и вши, она была страшно ослаблена и заражена всевозможными желудочно-кишечными паразитами. Корь расправилась с душой маленькой Клары, предоставив мне новое тело, но прошло еще три дня, прежде чем я сумела психологически оправиться и правильно оценить свое нынешнее окружение. Восьмилетняя Клара была собственностью помещика Кирилла Андреевича Береновского, который, впрочем, в своем имении вовсе не жил. Его поместье Оборино было расположено в живописной петле, образованной излучиной реки Камы – в Пермской губернии России. Береновский приезжал на землю своих предков примерно раз в год, каждый раз пугая местных чиновников; он охотился, насиловал девушек и требовал от управляющего все более жесткого обращения с крепостными, поскольку деньги помещику нужны были немалые. Управляющий старался вовсю, высасывая из крестьян последние соки, так что жилось крепостным и их детям несладко. Но жизнь маленькой Клары была особенно несчастливой даже по меркам того времени. Ее отца убил бык, а мать, еще молодая женщина, превратилась в развалину в результате бесконечной череды беременностей и родов, тяжелой крестьянской работы и пристрастия к самогону, который в деревне называли «тошниловкой». Клара стала ее последним ребенком; она была самой жалкой и самой слабенькой из девяти детей, родившихся в этой семье. Три ее сестренки еще в раннем детстве умерли от болезней, двух других, когда они чуть подросли, отправили на фабрику в Екатеринбург отрабатывать долги Береновского, а троих братьев Клары забрили в солдаты и отправили в императорскую армию как раз вовремя, чтобы они успели пасть под Эйлау[245]. Внезапное выздоровление Клары, находившейся при смерти, было воспринято семьей с безрадостным фатализмом. Для Лукаса Маринуса, хирурга и ученого, возрождение в этой вонючей крысиной норе, где люди от голода иной раз готовы были съесть друг друга, было поистине падением на самое дно, и теперь его жизнь должна была стать новым долгим, полным судорожных, почти истерических, усилий карабканьем вверх по социальной лестнице, причем в женском теле, что в России начала XIX века было почти невозможно. Я тогда еще не владела особыми психозотерическими навыками, которые могли бы ускорить это восхождение. Так что Кларе оставалась только Русская православная церковь.
Тамошний батюшка Дмитрий Николаевич Косков был уроженцем Санкт-Петербурга; именно он крестил, женил и хоронил всех четырехсот крепостных Береновского и три десятка «вольных», проживавших в Оборино. Он же, разумеется, читал прихожанам проповеди. Дмитрий и его жена Василиса проживали в покосившемся домишке, окна которого смотрели на реку. Косковы приехали в Оборино за десять лет до моего возрождения в теле Клары; тогда они были молоды и полны филантропического рвения; им страшно хотелось хоть чем-то помочь крестьянам, хоть как-то облегчить их невыносимую жизнь, наполненную бесконечной тяжелой работой и скотством, столь свойственным Дикому Востоку[246]. Василиса Коскова безмерно страдала из-за невозможности иметь детей и была убеждена в том, что из-за этого весь свет над ней смеется. Ее единственными друзьями в Оборино были книги; книги умели с ней говорить, но, увы, не умели слушать. Ennui[247] Дмитрия Коскова имела примерно тот же корень; кроме того, он каждый день и час проклинал себя за то, что потерял возможность служить церкви в Санкт-Петербурге, где и его жена, и его карьера, как ему казалось, процветали бы. Он ежегодно просил церковные власти предоставить ему приход, несколько более близкий к цивилизации, но все его просьбы оставались без ответа. Он, как мы бы сказали сегодня, попросту «выпал из обоймы». Дмитрий понимал, что у него есть Бог, но никак не мог понять, почему Бог приговорил его и Василису жить на самом дне того болота предрассудков, злобы и греха, которое буквально затопило Оборино при Береновском. Впрочем, самого Береновского это ничуть не заботило; он вообще больше интересовался здоровьем своих гончих, чем благополучием своих крепостных.
А вот маленькой Кларе, то есть мне в ее теле, Косковы представлялись поистине идеалом.
Одной из обязанностей Клары – а она, едва поправившись, снова вернулась к своим обязанностям – было относить свежие яйца в дома наиболее уважаемых людей поместья: управляющего, кузнеца и священника. Тем временем уже наступил 1812 год. Однажды утром, подав Василисе Косковой корзинку с яйцами на пороге кухни, я, страшно смущаясь, спросила у нее: правда ли, что я встречусь в раю со своими умершими сестренками? Жену священника мой вопрос застал врасплох – во-первых, она, видимо, считала меня немой, а тут я вдруг заговорила, а во-вторых, вопрос, с ее точки зрения, был настолько элементарным, что она растерялась и стала спрашивать, разве я не посещаю церковь хотя бы по воскресеньям и не слушаю проповеди отца Дмитрия? Я объяснила, что мне мешают туда ходить мальчишки, которые щиплют меня за руки и дергают за волосы; они хотят, чтобы я перестала слушать Слово Божье, а мне самой очень хотелось бы послушать про жизнь Иисуса. Да, разумеется, я самым подлым образом воспользовалась собственным богатым опытом и знаниями и стала манипулировать несчастной одинокой женщиной, стараясь вызвать ее жалость и доверие; но у меня попросту не было выхода: иначе мне и в дальнейшем светила жизнь, полная тяжкого тупого труда, рабства и леденящего зимнего холода, который, как говорили в деревне, «пробирает до печенок». Василиса попалась на мою удочку; она провела меня на кухню, усадила и стала рассказывать, как Иисус Христос явился на землю в образе человеческом, дабы дать нам, грешникам, возможность отправиться после смерти в Рай, если мы будем молиться и вести себя, как подобает добрым христианам.
Я с серьезным видом кивала, слушая ее, а потом поблагодарила и спросила, действительно ли Косковы приехали из самого Петербурга. Тут Василиса окончательно разговорилась и вскоре уже вспоминала оперный театр, Аничков дворец, балы в день именин архиепископа, фейерверки на балу у какой-то графини и так далее. Я несколько раз говорила, что мне пора идти, что мать побьет меня за то, что я так задержалась, но Василиса все не умолкала. А в следующий раз, когда я принесла яйца, она напоила меня настоящим чаем из самовара и угостила абрикосовым вареньем. Ничего подобного я никогда не пробовала и решила, что это и есть нектар. А уже через несколько дней она, меланхоличная жена еще более меланхоличного священника, уже обсуждала со мной, крепостной девчонкой, свои личные проблемы и разочарования. Маленькая Клара слушала ее с мудростью, значительно превосходившей возраст любого восьмилетнего ребенка. И в один прекрасный день я решила рискнуть: рассказала Василисе о волшебном сне, который мне якобы приснился. Я с воодушевлением описала ей даму с молочно-белой кожей и доброй улыбкой, скрывающей лицо под синей вуалью. Эта дама неожиданно появилась в нашей жалкой избушке, где жили мы с матерью, и велела мне непременно учиться читать и писать, чтобы впоследствии иметь возможность передать послание ее сына другим крепостным. Но самое странное, продолжала выдумывать я, эта добрая женщина говорила на каком-то странном языке, которого я не знала, но почему-то все поняла, и каждое ее слово навсегда запало мне в душу.
Ну, госпожа Василиса Коскова, о чем это вам рассказывала маленькая крепостная девочка?
Хотя муж Василисы, священник Дмитрий Николаевич, был очень доволен тем, что нервы его жены значительно успокоились в результате душеспасительных бесед со мной, его все же беспокоило, что к ней в очередной раз «присосался» кто-то из «этих хитрых крестьян». В итоге он отвел меня в церковь, когда там никого не было, и решил хорошенько расспросить. Я старательно изображала смущение и растерянность – еще бы, ведь на меня обратил внимание такой значительный человек! – и всячески подталкивала Дмитрия Николаевича к тому, чтобы он поверил: перед ним дитя, которому судьбой уготовано особое, куда более высокое, место в жизни, и именно он обязан об этом позаботиться. Он задал мне множество вопросов о моем «сне». Могу ли я подробно описать ту «даму»? Я описала: темные волосы, прелестная улыбка, голубая вуаль – не белая, не красная, а ярко-голубая, как летнее небо. Отец Дмитрий попросил меня повторить те «странные слова», которые она мне «говорила». Маленькая Клара нахмурилась и, страшно стесняясь, призналась, что эти слова звучали не по-русски. Да-да, сказал отец Дмитрий, жена уже говорила об этом, но все же не могу ли я припомнить хоть что-то из слов «дамы»? Клара закрыла глаза и процитировала на греческом из Евангелия от Матфея 19:14: Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне; ибо таковых есть Царство Небесное.
Священник от изумления разинул рот и вытаращил глаза.
А я, перепугавшись и дрожа как осиновый лист, спросила: уж не значат ли эти слова что-либо дурное?
Моя совесть была чиста. Я чувствовала себя отнюдь не паразитом, а эпифитом[248].
Через несколько дней отец Дмитрий подошел к управляющему имением Сигорскому и попросил, чтобы тот разрешил маленькой Кларе жить у них в доме; он пообещал, что его жена научит девочку читать и писать, а также обучит всему, что должна уметь хорошая горничная, и та впоследствии сможет прислуживать в доме Береновского. Сигорский согласился на эту необычную просьбу, рассчитывая, что в ответ отец Дмитрий закроет свои честные глаза священника на бесконечный обман и насилие, которые он, управляющий, творит в имении. Мне нечего было взять с собой из родного дома, кроме платья из мешковины, деревянных башмаков и грязного овечьего полушубка. Вечером Василиса как следует выкупала меня в горячей воде – это случилось впервые с тех пор, как я умерла в Японии, хотя там-то я частенько наслаждалась горячей ванной, – и выдала мне чистое платье и настоящее шерстяное одеяло. Итак, прогресс был налицо! Пока я сидела в корыте с горячей водой, явилась моя «мать», требуя в качестве компенсации за девочку рубль. Дмитрий заплатил, понимая, что второй рубль она никогда попросить не осмелится. Я потом не раз встречала ее, но она всегда делала вид, что меня не знает, а на следующую зиму она, пьяная, свалилась ночью в канаву, заснула, да так больше и не проснулась.
Даже таким благословенным «вечным людям», как я, не дано спасти всех своих близких.
Пусть это и нескромно с моей стороны, но я, став де-факто, если и не де-юро, дочерью Косковых, вернула в эту семью смысл жизни и любовь. Василиса устроила при церкви школу и стала учить деревенских детей азбуке, арифметике и письму, а по вечерам находила время, чтобы учить меня французскому. Лукас Маринус из моей прошлой жизни неплохо знал этот язык, так что я стала весьма успешной ученицей, чем невероятно радовала Василису; она искренне считала, что мои успехи – это награда ей за все труды. Так прошло пять лет, я стала уже почти взрослой девушкой, высокой и сильной, и каждое лето, ожидая очередного приезда Береновского, начинала трепетать, опасаясь, что он заметит меня в церкви и спросит, почему его крепостная держится так вольно? Уж не забыла ли она, что является его рабыней? Мне необходимо было не только защитить свои завоевания, но и продолжить подниматься по социальной лестнице, а для этого я должна была поскорее подыскать своим благодетелям могущественного покровителя.
Дядя отца Дмитрия, Петр Иванович Черненко, был вполне очевидным и, пожалуй, единственным кандидатом на эту роль. В наши дни он бы давно прославился как человек, который не только создал сам себя, но и способствовал продвижению других; а уж сплетнями о его частной жизни были полны все «желтые» журналы. Он, будучи еще совсем молодым, вызвал в Санкт-Петербурге настоящий скандал, ибо не только тайно сбежал из дому с актрисой на пять лет себя старше, но и женился на ней. Многие злорадно предрекали ему распутную жизнь и в итоге позор и бесчестье, но Петр Иванович позора не нажил, а нажил сперва одно состояние – торгуя с британцами вопреки континентальной блокаде, – а потом и второе, пригласив немецких сталеваров чуть ли не во все плавильные цеха Урала. Его брак по любви оказался прочным, и двое его сыновей уже стали студентами и учились в Гётеборге. Я стала уговаривать Василису, когда он в следующий раз приедет в Пермь по делам, пригласить дядю Петра к нам и непременно показать ему, какую замечательную школу она устроила.
И однажды осенним утром он действительно к нам приехал. И тут уж я постаралась не ударить в грязь лицом. Целый час мы с ним говорили только о металлургии. Петр Иванович Черненко был человеком строптивым, умным и опытным, он немало повидал за свои пятьдесят лет, но даже ему показалось забавным то, что его развлекает какая-то крепостная девчонка, которая умеет на редкость хорошо поддержать разговор даже на такие сугубо мужские темы, как коммерция и выплавка стали. Василиса сказала, что это, должно быть, ангелы нашептывают мне на ухо всякие умные вещи, пока я сплю, а как иначе я смогла так быстро овладеть немецким и французским, научиться вправлять сломанные кости и усвоить основные алгебраические принципы? Я краснела и бормотала что-то насчет книг и «своих благодетелей, которые старше, лучше и умнее меня».
А вечером, уже лежа в постели, я услышала, как Петр Иванович говорит Дмитрию: «Если этому злобному ослу Береновскому вожжа под хвост попадет, то он бедную девочку на всю жизнь в свекольные поля отправит; заставит и в дождь, и в мороз возиться в земле, а потом делить жалкое ложе с каким-нибудь клыкастым кабаном. Надо что-то с этим делать, племянничек! Надо непременно что-то делать!» А уже на следующий день дядя Петр уехал под непрерывным дождем – весна и осень в России одинаково богаты дождями, превращающими дороги в непролазную грязь, – но на прощанье сказал Дмитрию, что они с Василисой что-то чересчур долго гниют в этой тихой заводи…
Зима 1816 года выдалась не просто суровой, а поистине безжалостной. В деревне умерло около пятнадцати крестьян, отец Дмитрий отпел их, а потом мужики копали могилы в насквозь промерзшей, твердой, как железо, земле. Кама покрылась толстым слоем льда; волки совершенно обнаглели и забегали в деревню; голодали даже священники со своими семьями. Весна не желала наступать до середины апреля, а почтовая карета из Перми не приезжала в Оборино аж до третьего мая. В дневнике Клары Маринус особо отмечен тот день, когда в домик Косковых принесли два толстых официального вида конверта. Однако вскрывать их никто не решился, пока не вернулся отец Дмитрий, ездивший в лесную сторожку, чтобы причастить сына дровосека, умиравшего от плеврита. Вскрыв первый конверт ножом для разрезания страниц, Дмитрий, важно надувая щеки, сообщил: «А это, дорогая Клара, в первую очередь касается тебя!»; и он прочел вслух: «Кирилл Андреевич Береновский, владелец имения Оборино в Пермской губернии, навечно дарует крепостной Кларе, дочери крепостной Готы, ныне покойной, полную и безусловную свободу в качестве подданной Его императорского величества Александра I». Моя память почему-то сохранила, как громко кричали в тот день кукушки за рекой и каким потоком лились солнечные лучи в окна маленькой гостиной Косковых. Я спросила Дмитрия и Василису, не хотят ли они теперь подумать о том, чтобы я стала их дочерью, и Василиса лишь крепко меня обняла, всю измочив счастливыми слезами, а Дмитрий, смущенно покашляв, сказал, глядя на собственные пальцы: «Я думаю, теперь это можно устроить, Клара». Мы понимали: один лишь Петр Иванович был способен уладить вопрос с моим чудесным освобождением, однако прошло несколько месяцев, прежде чем нам удалось в точности узнать, как он это сделал. Оказалось, что дядя Петр попросту уплатил немалые долги моего хозяина известному виноторговцу, и Береновский согласился даровать мне вольную.
Мы были так взволнованы, что совсем позабыли о втором конверте, хотя в нем содержались не менее важные известия: отца Дмитрия вызывали в епископальное управление Санкт-Петербурга, где были намерены предложить ему новый пост, настоятеля церкви Благовещения на Невском проспекте, не позднее 1 июля сего года. Василиса спросила, причем вполне серьезно, уж не снится ли нам все это. Дмитрий молча подал ей письмо. Читая его, Василиса прямо на глазах помолодела лет на десять. Муж сказал ей, что ему просто не по себе, когда он думает, сколько же дяде Петру пришлось заплатить за столь лакомый пост. Но ответ на этот вопрос мы опять же узнали далеко не сразу и, разумеется, не от самого Петра Ивановича. Оказалось, что платой за это назначение был коносамент на отправку сиенского мрамора для любимого монастыря патриарха. Как известно, человеческая жестокость не знает пределов. Но столь же беспредельной, оказывается, может быть и человеческая щедрость.
С конца 1780-х годов мне не доводилось жить в условиях просвещенной европейской столицы, а потому, едва мы успели устроиться в новом доме при той петербургской церкви, где отныне стал настоятелем отец Дмитрий, я с головой погрузилась в мир искусства и науки, в мир музыки и театра. Я не пропускала ни одной встречи моих приемных родителей с умными людьми, впитывая во время этих бесед каждое слово, стремясь к знаниям, как всякая неглупая девушка тринадцати лет, только что обретшая свободу. И если сама я была почти уверена в том, что мое низкое происхождение станет серьезным препятствием для проникновения в высшее общество, то, как ни странно, все вышло наоборот: это чудесным образом только повысило мне цену в салонах Петербурга и даже стало неким событием сезона в изголодавшихся по новинкам столичных светских кругах. Не успела я опомниться, как «юную госпожу Коскову из Перми, имеющую столь глубокие и разносторонние познания», постарались «проэкзаменовать» – и в умении говорить на иностранных языках, и по математике, и по литературе. Я, естественно, отдавая должное своей приемной матери, всегда всех уверяла, что именно она «вложила в меня все эти знания», широкий спектр которых объясняется тем, что я, едва научившись читать, сразу стала пользоваться великолепной родительской библиотекой и читала все подряд – Библию, словари, научные альманахи, памфлеты, поэтические сборники и всевозможную научно-популярную литературу. Сторонники женской эмансипации выставляли Клару Коскову как пример того, что крепостные и их хозяева различаются только тем, кто в какой семье родился, тогда как скептики называли меня гусыней, которую «откармливают, чтобы впоследствии сделать fois gras», то есть закармливают меня знаниями, которые я попросту заглатываю, толком не понимая.
Однажды в октябре карета, запряженная четверкой белых породистых лошадей, проехала по Невскому проспекту, и конюший царицы Елизаветы[249] вручил моей семье приглашение в Зимний дворец. Ни Дмитрий, ни Василиса в ту ночь так и не смогли уснуть. Все мы были потрясены и восхищены анфиладой великолепных палат, по которым мы проходили, направляясь в покои самой царицы. Впрочем, моя долгая метажизнь еще несколько веков назад успела сделать мне прививку от преклонения перед роскошью. А что касается царицы Елизаветы, то лучше всего я запомнила ее печальный голос, похожий на голос бас-кларнета. Моих приемных родителей и меня усадили на длинную скамью у огня, тогда как сама Елизавета предпочла кресло с высокой спинкой. Она тут же стала по-русски задавать мне вопросы о моей жизни крепостной, затем перешла на французский, словно проверяя, сколь быстро я способна переходить с родного языка на иностранный и менять тему разговора. В итоге царица перешла на свой родной язык, немецкий, и высказала предположение, что мой круг занятий и обязанностей, должно быть, довольно узок и скучен. Я ответила, что, во-первых, аудиенцию у самой царицы никак нельзя назвать скучной, а во-вторых, я бы, честно говоря, была не слишком опечалена, если бы в светских кругах обо мне стали забывать, и Елизавета сказала, что раз так, то я наверняка прекрасно понимаю, что чувствует она, императрица, в своем дворцовом окружении. Затем она показала мне новенькое фортепьяно, только что привезенное из Гамбурга, и спросила, не хочу ли испробовать, как оно звучит. Я, не ломаясь, сыграла японскую колыбельную, которую выучила еще в Нагасаки, и эта музыка невероятно тронула царицу. Однако я совершенно смешалась, когда Елизавета спросила, о каком муже я мечтаю. «Наша дочь – еще совсем девочка, ваше величество, – обрел наконец дар речи Дмитрий, – и в голове у нее полно всякой чепухи».
«Меня в пятнадцать лет уже выдали замуж», – сказала царица, повернувшись к нему, и он снова сконфуженно умолк. А я заметила, что матримониальные отношения – это отнюдь не то царство, в которое я стремлюсь войти.
«Стрела Купидона промаха не дает, – усмехнулась Елизавета. – И вскоре ты сама в этом убедишься».
Вот уже тысячу лет, дорогая царица, его стрелы постоянно от меня отскакивают, подумала я, но вслух этого не сказала и, естественно, согласилась с ее величеством. Однако она, как ни странно, тут же почувствовала неискренность моего ответа и предположила, что я, должно быть, предпочитаю замужеству общение с книгами. С этим я охотно согласилась и прибавила, что книги, в отличие от мужей, не имеют привычки сегодня рассказывать одно, а завтра другое. Дмитрий и Василиса, слушая мои дерзкие речи, только ерзали на своей скамье, чувствуя себя неловко в роскошных, взятых взаймы одеждах. Царица, уставшая от нравов двора, где адюльтер считался чем-то вроде развлечения, смотрела как бы сквозь меня, и золотые отблески огня играли в ее золотистых волосах. «Как странно слышать столь мудрые, достойные стариков, слова из таких юных уст», – только и сказала она.
Наш визит во дворец дал толчок новой волне сплетен; теперь все решали, кто же истинные родители Клары Косковой, и это страшно расстраивало моего приемного отца; потому мы решили, что лучше свести на нет мою краткую «карьеру» салонной диковинки и временно прекратить всякую светскую жизнь. Принятое нами решение как раз совпало с возвращением дяди Петра после полугодового пребывания в Стокгольме, и его особняк на Гороховой улице стал для нас вторым домом. Жена Петра Ивановича, бывшая актриса Юлия Григорьевна, стала нам верным другом, а на устраиваемых ею обедах я имела возможность встречаться с самыми различными представителями петербургского общества, причем общества куда более высокого интеллектуального уровня и куда более интересного, чем те люди, с которым я имела дело в великосветских гостиных. В доме дяди Петра бывали банкиры и химики, поэты и театральные режиссеры, чиновники и морские офицеры. Я по-прежнему читала запоем и многим авторам посылала письма, подписываясь «К. Косков», желая скрыть свой возраст и гендерную принадлежность. В архивах Хорологов до сих пор хранятся письма, адресованные некоему К. Коскову – например, от французского терапевта Рене Ланнека, изобретателя стетоскопа, от физика Хамфри Дэви[250] и от астронома Джузеппе Пиацци[251]. Возможности поступить в университет у женщин все еще не было, но шли годы, и многие либерально настроенные петербуржцы специально приходили в дом к Черненко, чтобы побеседовать на научные темы с «этой юной, но весьма рассудительной особой», которую про себя считали синим чулком. Со временем я, впрочем, получила несколько предложений руки и сердца, но ни Дмитрий, ни Василиса не выразили особого желания со мной расставаться, да и мне не хотелось снова становиться чьей-то «законной собственностью».
Кларе исполнилось двадцать лет; она готовилась в двенадцатый раз праздновать Рождество вместе с Косковыми. К празднику она получила чудесные подарки: сапожки на меху от Дмитрия, кипу нот для фортепиано от Василисы и соболью шубу от супругов Черненко. В моем дневнике есть запись о том, что 6 января 1823 года отец Дмитрий принес обет Иову и тайным Промыслам Божиим. Хор церкви Благовещения Богородицы пел, правда, в этот день весьма посредственно – у многих из-за холодов оказалось застужено горло и был насморк. Снега в ту зиму выпало особенно много, засыпало даже сточные канавы; морозная дымка окутывала улицы Петербурга, и солнца почти не было видно; с крыш свисали толстенные сосульки; из лошадиных ноздрей вырывались клубы белого пара, свинцово-серые воды Невы были скованы льдом.
Как-то после обеда мы с Василисой сидели в гостиной. Я писала письмо по-немецки по поводу осморегуляции гигантских деревьев одному ученому из Лейденского университета. Моя приемная мать проверяла сочинения своих учеников по французскому языку. В печи жарко горели дрова. Галина, наша домоправительница, зажгла светильники и, как всегда, принялась ворчать, что я своими занятиями окончательно испорчу себе зрение; вдруг мы услышали стук в дверь. Джаспер, наш маленький пес неизвестной породы, с лаем понесся в прихожую, царапая когтями пол, а мы с Василисой удивленно переглянулись: в тот день никто из нас гостей не ждал. Я выглянула в окно: за кружевной занавеской виднелась чья-то незнакомая карета, окна которой были закрыты шторками. Галина принесла нам визитную карточку, которую в дверях подал ей кучер, и Василиса с некоторым сомнением прочла вслух: «Господин Шайлоу Давыдов». «Шайлоу? Звучит по-иностранному, – сказала она. – Тебе не кажется, Клара?» Адрес Давыдова, однако, вызывал уважение: Сенная площадь. «Может быть, это друзья дяди Петра?» – предположила я.
«Мне сказали, что и госпожа Давыдова тоже ждет в карете», – сообщила Галина.
Неожиданно утратив все сомнения – позднее мне стало ясно, что это был Акт Убеждения, – Василиса сказала: «Ну так скорей пригласи их в дом! Господи, что они могли о нас подумать? Бедная дама наверняка замерзла!»
– Извините, что мы явились без приглашения и без предупреждения, – сказал, входя, подвижный мужчина с роскошными усами и звучным голосом, одетый в темный костюм явно иностранного покроя. – Госпожа Коскова и ее дочь, как я понимаю? Во всем виноват я. Я еще утром, до похода в церковь, написал вам письмо, в котором представился и подробно рассказал о себе, но тут одного из наших конюхов лошадь ударила копытом, да так, что пришлось врача вызывать. Из-за всей это суматохи я совершенно забыл проверить, было ли мое письмо вам доставлено. Итак, Шайлоу Давыдов, как говорится, к вашим услугам. – Он поклонился и с улыбкой вручил Галине свою шляпу. – По отцу у меня русские корни, но живу я в Марселе, впрочем, живу я где придется. Однако позвольте мне… – и я вдруг заметила в его русской речи некую особую, «китайскую», певучесть, – представить вам мою жену. Клодетт Давыдова, которая вам, мадемуазель Коскова, известна также под своей девичьей фамилией, ставшей также ее писательским псевдонимом: К. Холокаи.
Вот это неожиданность! Я действительно переписывалась с «К. Холокаи», автором философского трактата о трансмиграции душ, но мне и в голову не приходило, что это не «он», а «она». Смуглое лицо госпожи Давыдовой и ее пытливый взгляд выдавали ее левантийское или персидское происхождение. На ней было шелковое платье цвета голубиного крыла, а на шее – ожерелье из белых и черных жемчужин.
– Госпожа Коскова, – обратилась она к Василисе, – благодарю вас за проявленное гостеприимство по отношению к двум незнакомцам в такой холодный зимний день. – Она говорила по-русски немного медленней, чем ее муж, с величайшей осторожностью подбирая слова, чем невольно заставляла тех, к кому она обращалась, слушать ее с особым вниманием. – Нам бы, конечно, следовало подождать до утра и пригласить вас к себе, но имя «К. Косков», произнесенное всего час назад в доме профессора Обеля Андропова, я сочла неким… особым знаком…
– Профессор Андропов – наш друг, – сказала моя приемная мать.
– И великолепный ученый-лингвист, знаток классических языков, – прибавила я.
– И это действительно так. Так вот, профессор Андропов сказал мне, что «К» означает «Клара»; а потом на пути домой я случайно выглянула из кареты и увидела ту церковь, где служит ваш отец. Какой-то человек, похожий на домового, сказал, что вы, возможно, дома… Извините, но я… – Клодетт Давыдова спросила у мужа по-арабски, как по-русски сказать «поддалась искушению», и Шайлоу Давыдов подсказал ей.
– Но это же очень хорошо! – воскликнула Василиса, хотя все еще хлопала от удивления глазами, глядя на этих экзотического вида незнакомцев, которых, как я подозревала, сама же и пригласила, но потом совершенно об этом позабыла. – Мы вам, конечно же, рады. Мой муж скоро придет, а вы пока устраивайтесь поудобней, прошу вас. У нас, конечно, не дворец, но…
– Ни в одном дворце меня не встречали столь же гостеприимно. – Шайлоу Давыдов оглядел нашу гостиную. – Моя жена так мечтала познакомиться с «К. Косковым» – с самого первого дня, когда я решил посетить Петербург.
– Да, это правда. – Клодетт Давыдова отдала Галине свою муфту из белого меха и тихонько ее поблагодарила. – И, насколько я могу судить по тому удивлению, которое выказала юная госпожа Коскова, мы обе писали друг другу, будучи абсолютно уверенными, что наш адресат – мужчина. Я правильно предположила, госпожа Коскова?
– Да, это именно так, госпожа Давыдова, не смею этого отрицать, – сказала я, и мы наконец уселись.
– Не правда ли, это похоже на некий абсурдный фарс, достойный сцены? – улыбнулась Клодетт.
– В этом мире все поставлено с ног на голову, – вздохнул Шайлоу Давыдов. – У нас женщины вынуждены скрывать свою половую принадлежность из боязни, что их идеи будут осмеяны или отвергнуты.
Мы дружно признали справедливость этих слов и снова умолкли. Наконец Василиса, вспомнив о своих обязанностях хозяйки, сказала:
– Клара, дорогая, не подбросишь ли ты в печь дровишек? Что-то у нас прохладно. И пусть Галина принесет гостям чаю.
– Мой бизнес связан с морем, господин Косков, – сказал Шайлоу Давыдов. Мой приемный отец воспринял неожиданный визит Давыдовых скорее с удовольствием, и для мужчин чай с печеньем и пирожками сменился коньяком и сигарами, которые Шайлоу подарил Дмитрию. – Я занимаюсь морскими перевозками, фрахтом, верфями, причалами, морской страховкой… – Он неопределенно махнул рукой. – Я прибыл в Петербург по приглашению вашего Адмиралтейства, но в детали я, естественно, вдаваться не могу. Я буду здесь работать по крайней мере год, и мне был предоставлен дом на Невском проспекте. Скажите, госпожа Коскова, сложно ли найти таких слуг, которые были бы одновременно и расторопны, и честны? В Марселе, стыдно сказать, подобное сочетание встречается столь же редко, как зубы у курицы.
– Черненко помогут, – успокоила Василиса. – Дядя Дмитрия, Петр Иванович, и его жена всегда как-то находят нужное количество «зубастых несушек». Верно, Дмитрий?
– Зная своего дядю, могу вас заверить: он и Золотое Руно вам добыть сумеет. – Дмитрий с наслаждением затянулся сигарой. – А как вы, госпожа Давыдова, собираетесь проводить время в те долгие месяцы, что вам придется провести в нашем холодном пустынном краю?
– О, у меня душа исследователя. Как и у моего мужа, – сказала Клодетт Давыдова и умолкла, словно дала исчерпывающий ответ. В печи, рассыпая искры, потрескивали поленья. Выдержав паузу, Клодетт пояснила: – Впрочем, сперва я намереваюсь закончить комментарий к «Метаморфозам» Овидия[252]. Я даже лелеяла надежду, что «уважаемый К. Косков» окажет мне честь и взглянет на мою писанину, если, конечно…
Я тут же сказала, что почту это за честь и что мы, «подпольные» женщины-ученые, должны всегда поддерживать друг друга. Затем я спросила, получил ли «господин К. Холокаи» мое последнее письмо, посланное в минувшем августе на адрес российского консула в Марселе.
– Конечно, я его получила, и ваши идеи показались мне очень интересными, – живо откликнулась Клодетт Давыдова. – Мой муж, который не меньше меня увлекается философией, был просто в восторге, узнав вашу точку зрения по поводу царства Тьмы.
Теперь уже заинтересовалась Василиса:
– О каком это темном царстве шла речь, дорогая?
Я терпеть не могла лгать приемным родителям, даже случайно, даже путем простого умолчания, но тема вечного, точнее, Вневременного, существования в этом безбожном, безбожном мире была явно не самой удачной для обсуждения в нашей богобоязненной семье. Пока я изобретала какое-нибудь простенькое объяснение, мой взгляд случайно упал на Шайлоу Давыдова, и я вздрогнула: глаза у него были полузакрыты, а на лбу сияло пятно – в том самом месте, где, как я знала по своим предыдущим возрождениям на Востоке, находится чакра, «третий глаз». Я посмотрела на Клодетт Давыдову. У нее на лбу светилось точно такое же пятно. У нас в гостиной явно что-то происходило. Я посмотрела на Василису и Дмитрия и увидела, что они застыли, как восковые фигуры. Василиса выглядела по-прежнему сосредоточенной, но, похоже, разум ее был полностью закрыт для восприятия. И, скорее всего, кто-то «помог» ей его закрыть. В пальцах Дмитрия все еще дымилась сигара, но лицо и тело его были совершенно неподвижны.
После прожитых тысячи двухсот лет я постепенно убедила себя, что стала неуязвимой для потрясений, но я ошибалась. Время не остановилось. Огонь все еще горел. Я все еще слышала, как Галина крошит овощи на кухне. Инстинктивно я пощупала пульс на руке Василисы и обнаружила, что он бьется сильно и спокойно. Ее дыхание было замедленным и поверхностным, но тоже спокойным. То же творилось и с Дмитрием. Я окликнула их, но они меня не услышали. Их здесь не было. Этому могла быть только одна причина. Точнее, несколько взаимосвязанных причин.
Гости между тем вновь обрели нормальный вид и явно ждали, что я скажу. Я встала, чувствуя себя одновременно и потерявшей почву под ногами, и страшно разгневанной, схватила кочергу и с яростью, какая никак не могла быть свойственна двадцатилетней дочери русского священника, заявила этим псевдо-Давыдовым:
– Если вы что-то сделали с моими родителями, то, клянусь…
– Зачем нам причинять зло таким чудесным людям? – Шайлоу Давыдов был, казалось, искренне удивлен. – Мы просто применили к ним Акт Хиатуса, только и всего.
Клодетт Давыдова тут же его перебила:
– Нам хотелось поговорить с вами наедине, Клара. Мы легко можем вывести ваших родителей из состояния хиатуса, достаточно щелкнуть пальцами, – она легонько взмахнула рукой, – и они даже не вспомнят о том, что с ними произошло.
Но мне все еще чудилось, что от этих лже-Давыдовых исходит угроза, и я спросила, не является ли хиатус чем-то родственным месмеризму[253].
– Франц Месмер – просто чертов болтун! – сердито сказала Клодетт. – Мы – психозотерики. Психозотерики Глубинного Течения.
Видя, что ее заявление меня попросту ошарашило, Шайлоу Давыдов спросил:
– Неужели вы никогда прежде не являлись свидетельницей чего-либо подобного, госпожа Коскова?
– Нет, – ответила я.
Давыдовы переглянулись, явно удивленные. Шайлоу вынул сигару из пальцев Дмитрия, пока та не успела их обжечь, и положил в пепельницу.
– Может быть, вы все же поставите кочергу на место? – сказал он мне. – Она никак не сможет помочь вам в этом разобраться.
Чувствуя себя полной дурой, я убрала кочергу и вдруг поняла, что слышу стук копыт по мостовой, звяканье уздечек и крики возниц на Невском проспекте. Здесь, в стенах нашей гостиной, моя метажизнь явно вступала в новую фазу, и я наконец решилась прямо спросить:
– Но кто же вы такие? Кто вы на самом деле?
Шайлоу Давыдов сказал:
– Мое имя – Кси Ло. «Шайлоу» или «Шило» – самое близкое из европейских имен, какое я сумел себе подобрать. Мою коллегу, которой приходится на публике играть роль моей жены, зовут Холокаи. Это наши истинные имена, мы носим их с момента нашего появления на свет. Эти имена носят наши души, если угодно. Итак, мой первый вопрос к тебе, госпожа Клара Коскова: как твое истинное имя?
Совершенно не подобающим для приличной девицы образом я взяла бокал Дмитрия и разом отпила добрую половину налитого туда коньяка. Я так давно похоронила мечту, что мне когда-нибудь доведется встретиться с такими же, как я, «вечными людьми»! И теперь, когда это произошло на самом деле, я, увы, оказалась совершенно не подготовленной к такой встрече.
– Маринус, – хрипло пискнула я, поскольку коньяк обжег мне горло. – Я – Маринус.
– Приятно познакомиться, Маринус, – сказала Холокаи, то есть Клодетт Давыдова.
– Я знаю это имя, – нахмурился Кси Ло, то есть Шайлоу. – Но откуда?
– Вы не ошибетесь, если заглянете в мои мысли, – решительно предложила ему я.
– Маринус, – Кси Ло погладил свои пышные баки. – Маринус Тирский, картограф? Так? Нет. У императора Филиппа Араба[254] отца, кажется, звали Юлиус Маринус. Нет? Ну, дальше я, пожалуй, эту царапину расчесывать не стану. Из твоего письма мы поняли, что ты не из Постоянных Резидентов, а из Вернувшихся?
Я призналась, что не поняла вопроса.
Их, похоже, уже начинало раздражать мое невежество. Холокаи-Клодетт сказала:
– Вернувшиеся – это те, кто умирает, отправляется в сумеречную страну и через сорок девять дней возрождается. А Постоянные Резиденты – например, Кси Ло – не умирают, а просто перекочевывают в новое тело, как только старое оказывается изношенным.
– Тогда, – я снова села, – я, скорее всего, действительно из Вернувшихся.
– Маринус, – Кси Ло – Шайлоу внимательно наблюдал за мной. – Неужели мы первые Вневременные, которых ты когда-либо встречала?
В горле у меня стоял даже не комок, а камень, так что говорить я была не в состоянии и лишь кивнула.
Холокаи-Клодетт стащила у своего напарника сигару, от души затянулась и сказала:
– В таком случае ты отлично справляешься. Я, например, несколько часов не могла прийти в себя и абсолютно ничего не соображала, когда Кси Ло ворвался в мою уединенную жизнь. Ведь некоторые начинают утверждать, что никогда и ниоткуда не возвращались. Ну что ж, спешу тебя обрадовать. А может, и не очень. Так или иначе, но на свете есть и еще такие же, как мы.
Я налила себе еще коньяку из графина Дмитрия. Это помогло растворить застрявший в горле камень, и я наконец смогла вымолвить:
– И много вас – нас – таких на свете?
– Не очень, – сказал Кси Ло. – Мы всемером объединились и создали Хорологическое Сообщество, разместившееся в частном особняке в Гринвиче в Лондоне. Впрочем, девять «вечных» отвергли все наши предложения и предпочли полную изоляцию, но дверь в наше Сообщество для них всегда будет открыта, если они когда-либо захотят общения с нами. За долгие века мы насчитали не менее одиннадцати-двенадцати Вневременных, или Хорологов, если включить сюда и этого шваба. Основной нашей задачей на данный момент является борьба с хищными замашками неких Плотоядных.
Позже я, конечно, узнала, что таилось за этим загадочным термином.
– Прости мне столь неделикатный вопрос, Маринус, – Холокаи-Клодетт коснулась нитки жемчуга, обвивавшей ее шею, – но когда ты родилась?
– В 640 году до Рождества Христова, – призналась я, чувствуя легкое головокружение от совершенно невообразимой ранее возможности говорить кому-то правду о своем происхождении. – В своей первой жизни я была самаритянином, сыном сокольничего.
Холокаи стиснула подлокотники кресла, словно ей хотелось подпрыгнуть и она изо всех сил пыталась сдержать себя.
– Так ты же в два раза старше меня, Маринус! Я, например, даже толком не знаю ни точного года своего рождения, ни точного места. Возможно, Таити. А возможно, и Маркизские острова. Я бы, конечно, сразу это поняла, если б туда вернулась, но мне как-то не очень хочется туда возвращаться, ибо там я пережила поистине ужасную смерть. Мое второе «я» было мальчиком-мусульманином, слугой в доме еврея, серебряных дел мастера, жившего в Португалии. В то время как раз умер Король Жуан[255], так что мое пребывание отмечено вполне точной вехой: 1433 год. А вот Кси Ло…
Облака ароматного сигарного дыма висели уже на разных уровнях, окутывая нас густым облаком.
– А я, – заговорил тот, кого я все еще называла «господин Давыдов», – впервые появился на свет в конце правления династии Чжоу[256]. Я родился прямо на лодке, в дельте Желтой реки примерно году в 300-м до Рождества Христова. Жизней пятьдесят назад. Мой отец был воином-наемником. Я замечаю, что вы вроде бы без особых затруднений понимаете этот язык, госпожа Коскова. Так?
Только когда я кивнула, до меня дошло, что он говорил по-китайски.
– Да, я прожила в Китае четыре жизни. – Я поспешно восстанавливала свои несколько заржавевшие навыки мандаринского диалекта. – Моя последняя жизнь пришлась на время правления династии Мин[257], примерно на 1500-е годы. Я тогда была уроженкой города Куньмин на юго-западе Китая. Травницей.
– Но твой китайский звучит, пожалуй, более современно, – заметил Кси Ло.
– Во время предыдущей перед этой жизни я жила на голландской фабрике в Нагасаки и разговаривала по-китайски только с китайскими купцами.
Кси Ло кивнул и принялся мерить комнату шагами, постепенно их ускоряя, а потом провозгласил по-русски:
– Клянусь кровью Господней! Я вспомнил! Маринус – это тот самый врач! Такой крупный мужчина огромного роста с красным лицом и седыми волосами. То ли немец, то ли голландец, раздражительный, вспыльчивый, этакий всезнайка. Значит, ты была там, когда взорвался «Феб» Ее Королевского Величества?
Я испытала чувство, близкое к головокружению.
– Значит, и ты там был?
– Я видел, как это произошло. Из дома судьи.
– Но… кем же ты был? Или, точнее, «в ком» ты тогда существовал?
– У меня было несколько «хозяев», но ни одного голландца, иначе я уже тогда смог бы догадаться, что ты из «вечных», и избавил бы Клару Коскову от многих неприятностей. Из-за того что вы, голландцы, были чрезвычайно огорчены утратой Батавии – теперь-то она называется Джакарта, – мне приходилось добираться в Японию и из Японии на китайских торговых джонках. Судья Широяма был моим «хозяином» в течение нескольких недель.
– Я несколько раз посещала судью Широяму. Когда он погиб, разразился большой скандал, но его довольно быстро замяли. Но что привело тебя в Нагасаки?
– Это весьма сложная история, – сказал Кси Ло, – которая связана прежде всего с моим коллегой Ошимой, который в своей первой жизни был японцем, нечестивым священником по имени Эномото, обнаружившим в Киришиме некий досинтоистский психодекантер.
– Эномото приезжал к нам. У меня в его присутствии просто мурашки по всему телу бегали.
– Мудрость кожи вообще недооценена. Я использовал Акт Убеждения, внушая Широяме, что ему необходимо покончить с властью Эномото. Отравить его. К сожалению, это стоило судье жизни, но такова арифметика самопожертвования. Моя очередь тоже однажды придет.
Джаспер, наш пес, воспользовался неподвижностью Василисы и вскочил к ней на колени; это была вольность, которой моя приемная мать никогда ему не позволяла.
– А что такое акт убеждения? – спросила я. – Это что-то похожее на хиатус?
– И то и другое – психозотерические акты, – сказала Холокаи-Клодетт. – Если Акт Хиатуса как бы замораживает, то Акт Убеждения подталкивает к действиям. Я полагаю, что твое нынешнее положение, которое, безусловно, существенно лучше всех твоих предыдущих жизней в низших сословиях, – она обвела рукой теплую, но весьма скромную гостиную Косковых, – было связано с тем, что ты сумела приобрести покровителей, покровительниц и всевозможных полезных друзей?
– Да, это так. Но мне помогли также и знания, накопленные за мои предыдущие жизни. Меня тянуло к медицине. Для моих женских «я» это был один из немногих путей наверх.
Галина все еще рубила на кухне овощи.
– Давай, мы научим тебя кое-каким мелочам, Маринус. – Кси Ло слегка наклонился вперед, барабаня пальцами по набалдашнику трости. – А заодно и приоткроем тебе нашу тайную историю и некий новый для тебя мир.
– Кое-кто сейчас очень далеко отсюда. – Уналак прислонилась к дверному косяку, держа в руках кружку с логотипом «Metallica», хеви-метал-группы, словно бросающей вызов смерти. – Ты хочешь спросить, откуда эта кружка? Ее мне подарил брат Инес. Итак, две последних новости: Л’Окхна заплатил за семь дней проживания Холли в гостинице; и Холли начала приходить в себя, так что я на всякий случай погрузила ее в хиатус, пока ты не будешь готова ею заняться.
– Семь дней. – Я опустила подбитую мягким фетром крышку на клавиши пианино. – Интересно, где мы будем через семь дней? Итак, за работу! Пока Холли снова не украли прямо у меня из-под носа.
– Ошима так и говорил, что ты будешь заниматься самобичеванием.
– Сам он, я надеюсь, еще не встал? И его нет поблизости? А то вчера он всю ночь вообще не ложился, а потом ему все утро приходилось изображать из себя героя боевика.
– Он ровно шестьдесят минут полежал с закрытыми глазами, потом снова вскочил и куда-то удалился, точно не знающий покоя наркоман. А «Нутеллу» он ест ложкой прямо из банки! Смотреть тошно.
– А где Инес? Ей не следует выходить из квартиры.
– Она помогает Тоби, владельцу нашего книжного магазина. Вообще-то, защита поставлена и в магазине, но я предупредила ее, чтобы она никуда не выходила из поля. Она не выйдет.
– Господи, что она, должно быть, думает по поводу всего этого безумия, всех этих опасностей?
– Инес выросла в Окленде, в Калифорнии. Это дало ей неплохую закалку. Ладно, вставай. Пойдем охотиться на Эстер.
Я встала и последовала за Уналак вниз, в гостевую комнату, где на диване лежала погруженная в хиатус Холли. Мне было безумно жаль ее будить.
Из библиотеки появился Ошима.
– Чудесно побренчала, Маринус. – Он изобразил бегающие по клавишам пальцы.
– Рада, что доставила тебе удовольствие. Я потом пущу шапку по кругу.
Я присела возле Холли, взяла ее за руку и, нажав средним пальцем на чакру у нее на ладони, спросила коллег:
– Ну что, все готовы?
Холли резко села, словно в верхнюю половину ее туловища была вделана пружина; судя по лицу, она мучительно пыталась понять, что с ней было после общения с убийцами в полицейской форме и после моего Акта Хиатуса и почему вокруг нее в незнакомой комнате собрались Ошима, Уналак и я. Она не сразу заметила, как глубоко ее ногти впились в мое запястье, а заметив, смутилась и сказала:
– Ох, простите меня!
– Ничего страшного, мисс Сайкс. Как ваша голова?
– Как яйцо всмятку. Какая часть случившегося была реальна?
– К сожалению, реальным было все. Врагам удалось вас перехватить. Мы были недостаточно осторожны. Извините.
Холли явно не знала, что на это сказать.
– Где я?
– Сто пятьдесят четыре, Вест-Сайд, Десятая улица, – сказала Уналак. – Вы у меня дома. Это моя квартира, мы здесь живем вместе с моей подругой. Меня зовут Уналак Суинтон. Сейчас всего два часа пополудни, так что день еще далеко не кончился. Просто утром нам показалось, что вам стоит немного поспать.
– О! – Холли посмотрела на этого очередного, неизвестного ей персонажа. – Приятно познакомиться.
Уналак, спокойно продолжая пить кофе, сказала:
– Знакомство с вами для меня большая честь, мисс Сайкс. Не хотите ли кофе? Порция кофеина вам сейчас не помешает. Или, может быть, чего-нибудь еще, столь же бодрящего?
– А вы тоже… такая, как Маринус? И как тот, другой, который?..
– Аркадий? Да, хотя я гораздо моложе. Это всего лишь моя пятая жизнь.
Эти слова Уналак сразу напомнили Холли, в какой мир она столь неожиданно для себя попала.
– Маринус, скажите, те копы… они ведь…. По-моему, они хотели меня убить, да?
– Да, это были просто наемные убийцы, – как всегда, расставил точки над «i» Ошима. – Просто люди из плоти и крови, чья работа заключается не в починке зубов, не в торговле земельными участками, не в преподавании математики, а в убийстве. Я заставил их перестрелять друг друга, прежде чем они успели застрелить вас.
Холли судорожно сглотнула.
– Кто вы? Если это не слишком бестактно…
Ошима даже слегка развеселился:
– Меня зовут Ошима. Да, я тоже Хоролог и наслаждаюсь своей одиннадцатой жизнью, раз уж мы начали считать.
– Но… вас ведь не было в той полицейской машине!.. Правда же?
– Да, тела моего там не было, зато там был мой дух. Для вас я играл там роль Ошимы Дружелюбного Призрака. А для тех, кто вас похитил, я был Ошима Сукин Сын Черт-Бы-Его-Побрал. Не стану отрицать, мне это доставило удовольствие. – Шум города, шелест шин по асфальту, отдаленные глухие удары – все это заглушал ровный шум несильного дождя. – Хотя в результате наша затяжная холодная война стала гораздо горячее.
– Все равно благодарю вас, мистер Ошима, – сказала Холли, – если в данном случае это подходящие сло… – И она вдруг вздрогнула, словно ее пронзила колючая мысль: – Боже мой, Аоифе! Маринус… эти полицейские, они… они… они сказали, что Аоифе попала в аварию, что она в больнице…
Я покачала головой.
– Это была ложь. Они просто старались заманить вас в машину.
– Но они же знали, что у меня есть дочь! Что, если они как-то ей навредили?
– Так-так-так, посмотрите-ка сюда, – Уналак протянула ей планшет. – Вот страничка вашей Аоифе. Она сообщает, что сегодня нашла три осколка финикийской амфоры и несколько кошачьих косточек. Пост выложен сорок пять минут назад в четыре семнадцать по греческому времени. С ней все хорошо, Холли. Если хотите, можете послать ей весточку, только не надо, не надо упоминать о событиях сегодняшнего дня. Иначе вы рискуете и ее впутать во все это.
Холли прочитала сообщение дочери, и ее паника чуть улеглась.
– Но то, что эти люди до сих пор не нанесли ей никакого вреда, вовсе не означает…
– На этой неделе все внимание Анахоретов сосредоточено на Манхэттене, – сказал Ошима. – Но на всякий случай мы приставили к вашей дочери… хм… телохранителя. Его зовут Рохо, и он тоже один из нас. – И тот, без кого Вторая Миссия вряд ли сможет обойтись, – заметил Ошима уже мысленно.
Но Холли опять выглядела совершенно растерянной и машинально принялась поправлять шарф, засовывая под него выбившиеся пряди волос.
– Но Аоифе занимается археологическими раскопками на далеком греческом островке. Как… то есть я хочу сказать, почему… Нет… – Холли поискала глазами свои туфли. – Послушайте, я просто хочу поскорее попасть домой.
И мне все-таки пришлось сообщить ей жестокую правду, хоть я и постаралась сделать это предельно мягко:
– Сейчас вы доберетесь не дальше «Empire Hotel», но живой из номера уже не выйдете. Мне очень жаль, но это действительно так.
– Даже если вам удастся проскользнуть сквозь сплетенную ими паутину, – Ошима, как всегда, действовал более решительно, старательно расширяя представления Холли о том, с какими чудовищами она столкнулась. – Стоит вам воспользоваться электронной картой, мобильником или планшетом – и Анахореты уже через минуту найдут вас. Даже если вы не будете пользоваться ничем из перечисленного, они все равно очень быстро до вас доберутся, если, конечно, вы не укроетесь под плащом Глубинного Течения.
– Но я живу на западе Ирландии! У нас там нет гангстеров!
– Вы не будете в безопасности даже на треклятой МКС, мисс Сайкс! – сказал ей Ошима. – Анахореты Часовни Мрака – это куда более высокий орден и куда более опасная угроза, чем любая гангстерская организация.
Она посмотрела на меня.
– Так что же мне делать? Как обеспечить свою безопасность? Остаться тут навсегда?
– На мой взгляд, – честно призналась я, – вы будете в безопасности только в том случае, если нам удастся выиграть эту Войну.
– А если мы ее не выиграем, – подхватила Уналак, – то всем нам конец.
Холли Сайкс даже глаза закрыла, словно давая нам еще одну, последнюю, возможность исчезнуть и больше не появляться в ее жизни; я думаю, ей больше всего хотелось сейчас вернуться на Блитвудское кладбище за несколько мгновений до того, как в ее поле зрения появилась неуклюжая и странноватая женщина-психиатр афроканадского происхождения.
Прошло десять секунд, она открыла глаза, но мы по-прежнему оставались рядом с ней.
Она вздохнула и спросила Уналак:
– Можно мне чаю? Пожалуйста, с капелькой молока и без сахара.
– Хорология? – повторила Холли, сидя у Уналак на кухне. – Разве это не имеет отношения к часам? Ко времени?
– Когда Кси Ло основал наше Хорологическое Сообщество, – сказала я, – слово «хорология» действительно означало «изучение способов измерения времени». А наше Сообщество представляло собой что-то вроде группы самопомощи. Наш основатель в 1660-е годы был лондонским хирургом – о нем, кстати, упоминается в дневниках Пепса[258], – и приобрел себе дом в Гринвиче, используя его в качестве нашего штаба, хранилища и «доски объявлений», чтобы нам было легче поддерживать связь друг с другом, когда приходилось менять одно свое «я» на другое.
– А в 1939-м, – продолжила мой рассказ Уналак, – мы перебрались в дом 119А, где вы побывали сегодня утром, – в связи с угрозой, исходившей из Германии.
– Значит, Хорология – это что-то вроде клуба для вас… вечных людей?
– Да, примерно так, – сказала Уналак, – но у Хорологии есть и некая целительская функция.
– Мы уничтожаем Хищников, – твердо заявил Ошима. – Таких Вневременных людей, как Анахореты, ибо они пожирают души невинных людей, обладающих высоким психическим потенциалом, дабы питать собственное бессмертие. Но мне казалось, что Маринус уже рассказывала вам об этом?
– И все же мы даем им возможность исправиться, – заметила Уналак.
– Только они никогда не пользуются этой возможностью, – тут же отрезал Ошима, – вот нам и приходится самим исправлять их поведение. Причем перманентно.
– Все они, если можно так выразиться, серийные убийцы, – сказала я, внимательно глядя на Холли. – Они безжалостно убивают и таких малышей, как Жако, и таких подростков, каким были вы. Снова, снова и снова. И они никогда не остановятся. Эти хищники ведут себя как наркоманы, только их наркотик – искусственно создаваемое долгожительство.
– Значит, Хьюго Лэм, – спросила Холли, – тоже из этих… серийных убийц?
– Да. Со времени вашей встречи в Швейцарии он уже одиннадцать раз убивал своих жертв и поглощал их души.
Холли крутила на пальце свое кольцо с символом бесконечности.
– А Жако был одним из вас?
– Кси Ло основал Хорологию, – сказал Ошима. – Кси Ло привел меня к Глубинному Течению, к психозотерике. Для нас он был поистине незаменим.
Но Холли думала о том маленьком мальчике, с которым успела встретить вместе всего лишь восемь рождественских праздников.
– И сколько же вас? – спросила она.
– Семь – это наверняка. Но, возможно, и восемь. И даже девять, как очень хотелось бы надеяться.
Холли нахмурилась.
– Значит, это… не слишком масштабная Война?
Я подумала о жене Оскара Гомеса.
– Разве исчезновение Жако для семьи Сайксов было «не слишком масштабным» событием? Восемь Хорологов – это действительно очень немного, но когда мы сделали вам предохранительную прививку, нас было десять. И потом, мы тоже умеем плести весьма сложные сети. У нас есть союзники и друзья.
– А сколько всего этих Хищников?
– Их численность нам неизвестна, – честно призналась Уналак. – Сотни, если иметь в виду весь земной шар.
– Но как только мы обнаруживаем хотя бы одного… – Ошима сделал выразительную паузу, – то одним сразу становится меньше.
– Однако Анахореты не исчезают, – сказала я. – Они во все времена были нашими врагами. В силах ли мы помешать им? Разумеется, нет. Ведь они убивают человеческие души во всех уголках земли. Но если мы успеваем прийти кому-то на помощь, то этого человека действительно удается спасти. И каждый такой человек – наша маленькая победа.
На цветочных ящиках за окном ворковали и топтались голуби.
– Ну, допустим, я вам верю, – сказала Холли. – Но почему они выбрали именно меня? Чего, собственно, эти Анахореты хотят? Господи, я просто поверить не могу, что говорю такое! Неужели они хотят меня убить? И почему вы меня спасаете? Что я для вас? – Она пытливо вгляделась в лицо каждого из сидевших за столом. – Какое я-то имею значение для вашей Войны?